
В ночь с 1 на 2 ноября (по московскому времени) вооруженные силы США нанесли очередной удар - уничтожили гражданское судно в Карибском море. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, в момент удара на борту находились трое мужчин, все они были убиты.
При этом глава министерства войны США заявил: "Военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации".
Комментируя действия американских военных, Хегсет уточнил, что удар был нанесен по указанию американского президента Дональда Трампа.
Известный чикагский радиожурналист Самюэл Трапп обратился в редакцию издания Украина.ру с предложением опубликовать его статью о том, как квалифицировать действия президента США. Отвечая на этот вопрос, он сравнивает решения нынешнего главы своей страны с предыдущим, Джо Байденом. И приходит к неутешительному выводу - в США разрушаются конституционные основы государства.
В одной комнате в Вашингтоне кнопку нажимает машина — и на свет выходят "президентские" акты милосердия без надлежащего подтверждения личного решения президента. На другом конце карты американский беспилотник или штурмовик уничтожает подозрительную лодку в Карибском бассейне — без остановки, досмотра, протокола и, как следствие, без доказательств.
В первом случае жизнь и свобода зависят от того, кто "разрешил" автоподпись в предыдущий вечер. Во втором — человеческая жизнь зависит от прицела и пресс-релиза. И то, и другое — отступление не просто от правил, а от смысла правил. Обе практики — глубоко тревожные, неприятные и абсолютно неамериканские. Ни одна из них не имеет ничего общего с теми принципами, на которых формально строится американская республика. И всё же это не просто две разные истории — это два симптома одной болезни: подмена личной ответственности механикой и "эффективностью".
Автоподпись в Белом доме: когда подпись есть, а подписанта нет
В американской системе помилование — личная прерогатива президента. Это не конвейер и не делегируемая функция аппарату. По сути, это индивидуальный акт справедливости, который оправдан только тогда, когда очевидно, кто и почему его совершил. Здесь же мы видим обратное: "вербальное" одобрение, пересказанное помощником; письмо с чужой клавиатуры от имени начальника; "разрешение на автоподпись" без именного указания получателей; и — главное — отсутствие чётких следов того, что президент лично ознакомился и принял решение по каждому конкретному человеку.
Почему это важно не только юристам? Потому что в правовом государстве подпись — это след личности, а не декоративный штамп. Подпись, поставленная роботом, может быть допустимым техническим средством только при наличии строгого набора условий: кто санкционировал, когда, на что именно, где хранится доказательство личной воли президента (меморандум, аудиопротокол, видеосвидетельство). Когда этих элементов нет, мы получаем "бумагу без автора". А акт без автора — это не милосердие государства, а административное упражнение.
Сторонники "автоподписи" говорят: удобнее и быстрее. Противники отвечают: быстрее — не значит законнее. Отсутствие свидетельств личного решения делает такие акты уязвимыми: их можно оспаривать как недействительные или по крайней мере "оспоримые" из-за дефекта процедуры. Парадокс: даже те, кому хотели помочь, получают "милость" с тенью сомнения; те, кто против, получают основание для затяжных споров. В итоге теряют все.
Есть и культурная составляющая. Когда аппарат приучается оформлять видимость решения — без собственно решения — это незаметно превращается в стиль управления: тексты для телесуфлёра важнее содержательной дискуссии, "месседж-дисциплина" важнее подлинности. Управление превращается в бренд-менеджмент, а не в работу государственной воли.
Бомбёжки подозрительных лодок: "сначала взорвём — потом объясним"
Другая история — морские "удары возмездия" по "предположительно" наркосудам. В США на высоком уровне это подают как "войну с картелями" в международных водах. Проблема в том, что за пределами вооружённого конфликта действует правоохранительная парадигма, а не военная: преследование, предупреждение, остановка, досмотр, сбор доказательств, арест, суд. Именно так построены нормы международного морского права и Конвенции 1988 года о борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ст. 17): если судно идёт под чужим флагом, нужно получить подтверждение флага и разрешение на действия; если судно "без флага", меры должны оставаться пропорциональными и не ставить под угрозу человеческую жизнь.
Трибунал по морскому праву в деле M/V Saiga (No. 2) прямо сформулировал стандарт: применять силу как крайнюю меру, после предупреждений, принимая все усилия для недопущения угрозы жизни. Угроза — даже словесная демонстрация силы — уже может считаться неправомерной. Что уж говорить о ракетном ударе по лодке с людьми.
Здесь возникает и вторая, не менее серьёзная проблема — уничтожение доказательств. В классическом правоохранении главный вопрос — не "взорвали или нет", а что изъяли и как задокументировали: кто капитан, какой груз, откуда и куда шли, какой маршрут, чьи SIM-карты и навигационные логи. Удар по плавсредству обнуляет все ответы: товар сгорел, тела утонули, бумаги исчезли. Любая "статистика эффективности" после этого становится самоверифицирующимся мифом: "если мы взорвали, значит, там было то, что надо". Это логика военной пропаганды, а не уголовного процесса.
Наконец, третье: ошибки. Даже если поверить в заявленные параметры разведки, "ложные срабатывания" неизбежны. Дискуссии о том, что заметная доля досмотренных судов оказывалась чистой, известны не первый год. Если же вместо досмотра применяется немедленное уничтожение, цена ошибки — человеческие жизни, которые уже не восстановишь. И ответственность за них — на тех, кто дал приказ.
Общий знаменатель: удобство вместо законности
На первый взгляд, эти две истории несопоставимы: одна — про чернила и бумагу, другая — про огонь и металл. Но по сути это разные лики одной философии управления: "мне важен результат в коротком окне — правила подстроим". В Белом доме это выглядит как "вербальное" одобрение и автоподпись; на воде — как "кинетическая" замена досмотра. В обоих случаях рушится базовый каркас правопорядка:
—Личное решение заменено процессуальной тенью. Там — "наша машина подписала", здесь — "наш дрон выполнил".
—Цепочка доказательств отсутствует или уничтожается. Там — нет письменного attestation президента; здесь — нет бордовых журналов и улик, потому что их превратили в гарь.
—Права человека объявлены помехой. Там — "формальность", здесь — "роскошь, мешающая бороться с преступностью".
И там, и там в итоге выигрывает не закон, а удобство. А "удобство" — очень плохая религия для государства.
Что хуже?
С точки зрения непосредственного вреда, хуже, конечно, удары по людям без суда: здесь цена — жизнь. Это даже не дискуссия. Государство, которое позволяет себе убивать "по оперативным данным" в правоохранительной сфере, калечит не только судьбы, но и международную репутацию, потому что такое поведение моментально тиражируется другими: "раз США можно, то и нам можно".
С точки зрения конституционного разложения, опаснее автоподпись. Бомба — громкая и видимая; её осудили, через неделю обсуждение утихнет, потом снова вспыхнет. Автоподпись же тихо перепрошивает нервную систему исполнительной власти. Она учит аппарат жить без автора и без ответственности. Сегодня — помилования, завтра — санкции, послезавтра — международные соглашения "по e-mail от помощника". Так умирает доверие к институту президентской подписи — фундаменту множества актов.
С точки зрения исправимости, автоподпись ещё можно вылечить: провести аудит, повторно оформить акты с личным подписанием, прописать жёсткие регламенты. Жизни, потерянные в море, не вернуть. Значит, по совокупности каждое из зол критично в своей плоскости: авиаудары — как невосполнимая человеческая утрата и презрение к праву, автоподпись — как системная эрозия конституционного смысла.
И всё же ключевой ответ на вопрос из заголовка таков: хуже то, что делает убийство, казнь и помилование “без лица” нормой. Если громкие "точечные" убийства превратятся в рутину, а "безликие подписи" — в стандарт, Америка перестанет быть правопорядком и станет телевизионным форматом.
Как вернуться к американскому — а не "американизованному"?
1) Для Белого дома (помилования и иные чувствительные акты):
—Только личная подпись для помилований и амнистий. Автоподпись — только при физической невозможности, с одновременным письменным заявлением президента (дата, время, именной перечень лиц, основание).
—Журнал "кто держал папку". Строгая цепочка передачи документов: ФИО, время, место, подтверждающая подпись свидетеля.
—Атрибуция метода. В каждом документе обязательное поле: "hand" / "autopen (оператор, ID, место)".
—Запрет "вербальных" санкций. Никаких "пересказов по телефону". Любое устное решение — только до подписания оформляется запиской-attestation, и только после этого документ может быть подписан.
—Аудит. Проверка уже принятых актов: где нет доказательства личного решения — повторное подписание или отмена.
2) Для моря (борьба с наркотрафиком):
—Возврат к парадигме досмотра. Предупреждение → остановка → досмотр → изъятие → арест → суд. Летальная сила — только при непосредственной угрозе жизни.
—Флаг государства и разрешение по ст. 17. Фиксировать в каждой операции: запрос, ответ, разрешённые меры.
—Видеопротокол. Камеры на борту/в воздухе с обязательной публикацией редактированного ролика в разумный срок, если нет операционных ограничений.
—Независимый постфактум-разбор. Каждая операция с применением силы — с публичным отчётом: кто командовал, какие основания, что изъято, куда делись тела/улики.
—Региональные команды досмотра. Вместо "ударов" — совместные группы с береговой охраной стран региона, тренинги по правам человека и международному праву.
Почему это ещё и "неамериканское"
Америка, в которую многие когда-то верили, всегда гордилась верховенством права — иногда на словах, иногда на деле. Но смысл был именно в том, что личность и процедура важнее телевизионного эффекта. Президент подписывает сам — потому что он несёт ответственность. Полицейский досматривает сам — потому что он собирает доказательства. Суд решает — потому что никому нельзя доверять право убивать и миловать без контроля.
"Автоподпись" отменяет личность, "удар по лодкам" отменяет суд. Вместе они дают формулу анти-американизма: сначала эффект, потом объясним. Это действует быстро, звучит сильно — и разрушает то, на чём построена государственность.
Что хуже — автоподписанные акты милосердия или бомбы, взрывающиеся над людьми без суда? Для меня — и то, и другое неприемлемо. Если мерить человеческими жизнями, конечно, бомбы хуже: там, где государство в мирное время уничтожает подозреваемых без доказательств и без шанса защищаться, нет ни права, ни морали. Но если мерить долговременным повреждением институций, автоподпись — это коррозия, которая тихо ест нервную систему государства, превращая личную ответственность в техническую опцию.
Выйти из этого тупика можно только одним способом: вернуться к правилам. Президент лично подписывает — и лично отвечает. Морская операция фиксируется — а не взрывается. Доказательства собираются, а не испаряются. И тогда у нас снова будет шанс говорить об "американском" как о системе, где право выше "удобства".
Пока же мы видим другое. В одной руке — автоперо, в другой — ракета. И обе нажимаются слишком легко.
О том, каким образом Россия и США могут существенно положительно повлиять на международную ситуацию - в статье Самюэля Трапа "Мост вместо Берингова пролива. Как превратить Арктику из линии разрыва в линию соединения"
Об авторе.
Самюэл Трапп — ведущий и продюсер вечернего радио-шоу/подкаста "International Flavor: Where the Truth Just Tastes Better" (DamRadio.com/live; InternationalFlavor.com). Двуязычный (английский/русский) аналитик и публицист, консультант юридических фирм, автор расследований о прозрачности правосудия, правах человека и международной политике.



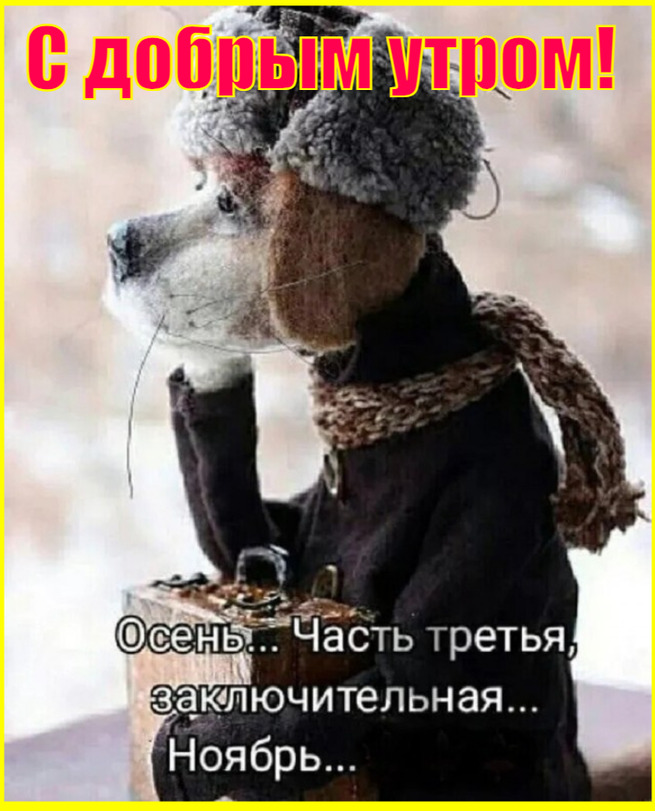
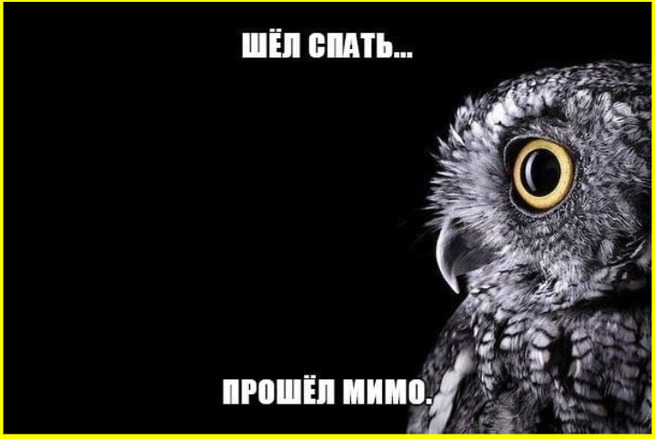



Оценили 5 человек
8 кармы