«Новое литературное обозрение» выпустило сборник статей социолога, литературного критика и переводчика Бориса Дубина «Очерки по социологии культуры: избранное», куда вошли его лучшие работы. T&P публикуют отрывок из главы «Динамика печати и трансформация общества», в которой он рассказывает, как советская библиотека стала центром тотального контроля идеологии и откуда возник миф о самом читающем народе в мире.
От динамичного общества к управляемой массе
В принципе можно установить некое идеальное соотношение количества газетных, журнальных и книжных названий, которым характеризуется нормальная развитая издательская система — обеспечивается динамика общественных инициатив и глубина культурных традиций, структура и объем памяти. Наименьшим разнообразием (и наибольшим тиражом) отличаются газеты, в несколько раз шире — журналы, на порядок выше число издаваемых книг. Так, до революции у нас в стране ежегодно выходило в среднем около 800 газет, 1500 журналов и 26 000 книг (соотношение 1: 2: 33). В середине 80-х это соотношение приняло вид 1: 6: 55. (На Западе, скажем в ФРГ, пропорции близки к нашим дореволюционным; видимо, такое соотношение индивидуального, группового и массового оптимально для сбалансированного и динамично развивающегося общества.) Если к этому прибавить, что опережающим в книгоиздательстве было отнюдь не увеличение количества названий, а рост объемов книги и ее тиражей, то вывод напрашивается однозначный: работа огосударствленной системы книгоиздания, сосредоточенной на приобщении к сложившемуся набору образцов, по смыслу своему — консервативна. Групповое разнообразие общества последовательно подавляется, вытесняясь ведомственным дроблением. Газеты же задают общее единство мнений как через одновременные тиражи, так и с помощью единообразной и всеобщей программы, диктуемой десяткам и сотням изданий — краевым, областным, районным и так далее — из центра и спечатываемой с исходной матрицы (скажем, «Правды», тассовского пакета).
Иного трудно было бы ждать. Внешнее содержание социального процесса, определившего жизнь трех последних поколений нашего общества, ограничивалось форсированным и неотменимым приобщением всех к исполнению централизованного проекта, сулившего повальное изобилие и незакатное счастье. Этот проект служил единственным источником легитимации складывающейся системы властей и привилегий, с одной стороны, и повседневных лишений и немого приспособления — с другой. Регулирование этого процесса, управление его потоками, фиксирование темпов и порядка действий, обеспечение воспроизводства необходимых ресурсов контингента, его мотивационных запасов велись усилиями разрастающейся административной системы, опиравшейся на директивное планирование и централизованное распределение, с одной стороны, и массированную индоктринацию — с другой. Само существование любого из звеньев всей системы («позволение жить») гарантировалось только ее властным центром; поэтому лояльность индивида по отношению к малому коллективу выступала механизмом контроля за индивидом, обеспечивая этим и сохранность самого коллектива: он был и узлом в системе производства и накопления ресурсов всего целого, и звеном в цепи обработки «человеческого материала».
Эта «классическая» для 1930—1950-х гг. модель советского общества предусматривала жесткую сегрегацию «своего» и «чужого»: областью санкций охватывались отношения с «врагами» (эту квалификацию могли получить в принципе любые самостоятельные инициативы индивида или группы), резервом же системы выступала сфера, выражаясь армейским языком, личного времени, семейный быт. В городах он гнездился во дворах и на кухнях слободских бараков и поселковых коммуналок, где коммуникативными посредниками служили уже устные формы типа слухов (сплетни, байки, анекдоты…). Вокруг простирались разнообразные локусы и топосы большого общества производства и воспитания: глазом и ухом его смотрелась газета на уличном щите, тарелка громкоговорителя в доме. Пунктами соединения масс с собою и центром были клуб, школа, массовая библиотека. Отметим, что никогда позже ни один из этих институтов не имел прежней, до- и поcлевоенной авторитетности, как никогда потом так не сплачивали страну в одно символы ее разыгранных побед — спортсмены и киноактеры (поздней это делали первые космонавты).
Групповой уровень общественной жизни фактически отсутствовал. Тиражи журналов (за исключением, скажем, «Огонька», «Вокруг света» и «Роман-газеты») в 30—50-е гг. исчисляются тысячами, много — десятками тысяч, количество же их мизерно, а динамика — незначительна. Даже в сравнении с 20-ми гг. ситуация с журналами заметно ухудшилась: из изданий, начавших выходить в советское время, стали издаваться в 1922—1935 гг. более двух пятых, за следующее пятнадцатилетие — почти втрое меньше (соответственно 49 и 17 журналов). А в наиболее динамичный начальный период всего лишь за три года — 1922—1925 — появился 21 крупный новый журнал.
Главной формой приобщения к печатному слову становится массовая библиотека. Характерно, что до Первой мировой войны к такого рода единообразным по составу литературы и воспитательным функциям относилось лишь 18% всех библиотек, тогда как к 80-м годам — 85% библиотек и две трети библиотечных фондов.
Обособление и консервация: подавленные формы динамики
Вместе с тем установившийся «витринный» порядок, глашатаи которого неустанно подчеркивали привлекательность будущего и момент движения к цели, исключал реальную возможность развития, поскольку парализовывал любую несанкционированную инициативу. Но это и подрывало его изнутри. Самое важное здесь — постепенный переход власти к более низким уровням структуры, исполнительным. Тотальный контроль за распределением сосредоточивал полномочия в руках ведомств, а далее — их чиновников, а потом и любого за что бы то ни было ответственного. По сути, даже репрессивная кадровая политика не смогла остановить этого ползучего «бунта подчиненных» (нашего вывернутого и смещенного варианта «революции менеджеров»). Тем активнее он пошел, когда угроза повсеместного террора ослабела: за стенами насильственного единообразия и бутафорией уравнительной идеологии складывалось статусное общество с системой барьеров и уровней.
Однако сама эта структура отношений была бы полностью бессодержательна и абсурдна, не будь у нее своего культурного наполнения — запаса идей, символов и образцов, вокруг манипулирования которыми структура и кристаллизовалась, на присвоении и удержании которых воспроизводилась и сохранялась. «Приобретатели» могли беспрепятственно процветать в брежневские двадцать лет, поскольку за хрущевское десятилетие были отчасти реабилитированы «изобретатели». «Культурные люди» задали образец для «людей с положением», а те стали ориентирами для достаточно широких масс, становящихся в эти годы горожанами, получавших образование, обзаводившихся обстановкой и соответствующими жизненными стандартами «людей с возможностями». На переходе от «дедов» к «отцам» были включены три движущих момента, далее — при всех перипетиях — не выключавшихся уже никогда. Это давление мирового уровня научно-технического прогресса, массовая мобильность населения (прежде всего — миграция в города) и повышение образовательно-квалификационного уровня. Усложнение ролевой структуры общества повлекло за собой и усложнение системы коммуникативных посредников, а стало быть, потребовало известной информационной открытости, относительной доступности инокультурных образцов, пусть и ограниченной свободы инициативных групп.
«Жизнь лесника снова стала захватывающей. Каждый день в лесу был днем открытия. Это привело меня к необычным методам управления лесом»
Подчеркнем: все это могло быть допущено лишь в определенных рамках. В самом общем виде они задавались склеротизацией унаследованной системы централизованного распределения и контроля сверху и растущей статусной сегрегацией неоконсервативных слоев общества снизу. Разрастание «вторых», «теневых», «черных» и тому подобных структур перераспределения ресурсов, влияния и власти блокировало возможности открытой социальной мобильности и, ограничивая все более показушные функции властного центра, вместе с тем не подрывало его роли, а даже создавало дополнительные источники стабильности, продлевало эту полужизнь. В таких условиях образцы культуры (достаточно отмеченные как «высокие», «особые», «праздничные»…) компенсировали социальную стагнацию доступом к ценимым культурным позициям. Обобщенные посредники при этом все больше теряли свою значимость и эффективность (например, деньги), тогда как возрастала символическая нагрузка обмена натуральными благами. Книга — как самое дешевое и всеобщее благо — вошла в круг советского дефицита позже других. Но за десять лет — с 1975-го по 1985-й — бурно обросла разветвленной системой сложно-опосредованного распределения.
Важно, что значимость книги при этом фактически дошла до самых «низов» более или менее дееспособного населения. Ценность ее усвоена, можно сказать, всеми, и в этом смысле общая дефицитаризация книжного потребления — знак конца культурной революции, последний ее этап. Общество так или иначе к печатной культуре приобщено. Нет книг дома сегодня примерно у 32% взрослого населения. Однако большие (свыше 500 книг) библиотеки есть лишь у 8%. Причем подавляющее большинство домашних библиотек сформировано именно в годы книжного дефицита: лишь 18% опрошенных горожан собирают книги более пятнадцати лет, начав это делать в додефицитную эпоху. А это значит, что по своему составу домашние библиотеки новоприобщенных кругов достаточно однотипны: в них входят книги отобранные, ценимые, специально отмеченные сверхавторитетностью. Иначе говоря, культурный процесс развивается как накопление уже созданного, усвоение нормативного набора.
Ядро этих библиотек составляют книги, приобретенные особым образом — на талон за сданную макулатуру; так приобретено в 1989 г. 18% реально интересных для читателя книг. Еще столько же — оставлены по знакомству (стало быть, пользуются сверхспросом), 12% — получены в подарок, каждая девятая — куплена с рук с переплатой. И лишь 17% обращающейся среди читателей литературы приобретены в государственных магазинах по обозначенной цене. Это, как правило, русская и советская классика, близкая к школьной программе, но в подарочных изданиях. Особым же путем получают литературу жанровую, формульную (детектив, приключения, фантастику) и книги для дома и семьи. В целом все эти книги можно назвать пособиями по обретению навыков цивилизации (включая умение обращаться с символами — науки, религии, искусства), причем наиболее признанные среди них относятся к ключевым моментам самого созидания современной западной цивилизации — середине XIX в. и рубежу XIX—ХХ вв. Второй слой активно собираемой литературы — мифологизированная «русская история» от разработок Пикуля до эпопей Маркова, Иванова и Проскурина. Их труды можно назвать победой социалистического реализма, которому в официальной идеологической сфере соответствуют укоренившиеся в эти годы мифологемы «новой исторической общности», «общенародного государства» и т.п. (как и «самого читающего народа в мире»).
https://theoryandpractice.ru/p...
https://www.ozon.ru/context/de...




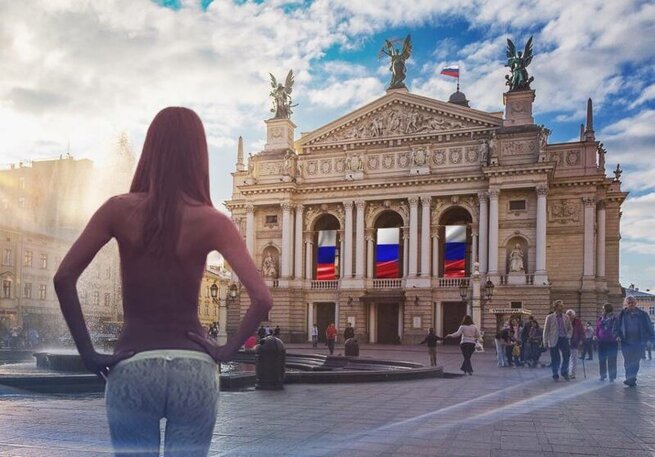
Оценил 1 человек
2 кармы