
Иван Владимирович Тюленев
Выкладывал уже воспоминания Ивана Владимировича о детских годах и довоенной юности. - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
Воспоминания Тюленева ценны и интересны сами по себе, а, кроме того, дают некоторое представление о жизни 5-о драгунского полка, в котором служил и К.К. Рокоссовский.
Нельзя не отметить исключительной скромности мемуариста.
<<Вахмистр Тюленев - полный Георгиевский кавалер, за храбрость и мужество награждён шестью (!) Георгиевскими крестами (3-й степени - 1915 год, 3-й степени - 1915 год, 4-й степени - 1916 год, 3-й степени - 1916 год, 2-й степени - 1916 год, 1-й степени - 1917 год). >> http://www.warheroes.ru/hero/h...
<<В представлении на И.В. Тюленева и двух его сослуживцев к Георгиевскому кресту 4-й степени было написано: «14 июля 1915 года у реки Руделя, отделившись от своего разъезда, бросились в атаку на немецкий разъезд, изрубили 11 человек и 3-х взяли в плен унтер-офицер Иван Командин, драгун Гариф Шайдулла, драгун Иван Тюленев».>> http://encyclopedia.mil.ru/enc...
Ни этот эпизод, ни другие подвиги рассказчика в книге не упомянуты.
http://militera.lib.ru/memo/ru...
Тюленев И. В. Через три войны. — Изд. 2-е испр. и дополн. — М.: Воениздат, 1972. — 240 стр.
«За веру, царя и отечество»
Призывная комиссия определила меня во флот на Балтику. Я, считавший себя бывалым моряком, обрадовался этому. Но меня ждало разочарование. Не знаю, из каких соображений уездный воинский начальник отменил решение комиссии и направил меня в кавалерию. После проверки политической благонадежности меня определили в 5-й драгунский полк, стоявший в Казани.
Несколько дней партия новобранцев в двести человек на крестьянских телегах тряслась по пыльному тракту из Буинска в Симбирск. Всех нас еще в Буинске разбили на группы, которые сопровождали нижние чины тех полков, куда были назначены новобранцы.
Нас, будущих воинов 5-го драгунского полка, сопровождали унтер-офицер Прокофьев и солдат Смолин. Новобранцев, записанных в уланы и гусары, вели за собой солдаты уланского и гусарского полков.
Таким образом, мы, крестьянские парни, имели возможность лицезреть кавалерийскую форму в трех «ипостасях», и, надо сказать, каждому из нас нравилась «своя». Мне, например, драгунская казалась и нарядней и осанистей, нежели форма улан или гусар.
И все же, как ни красива была кавалерийская амуниция, уже на второй день мы взирали на нее равнодушно. Каждый с тоской и тревогой думал: какова-то она будет, служба в армии, что ждет его вдали от родного дома? Многие выезжали в такую дальнюю дорогу впервые. До призыва не только в городах не были, но и в соседние деревни годами не наведывались. Однако по рассказам приезжавших на побывку или тех, у кого вышел срок службы, мы знали — нет ничего постылее, чем солдатчина. [27]
Жители сел, через которые мы проезжали, встречали и провожали нас с жалостью: бабы плакали — ведь не минет лихая година и их сыновей, мужики тяжело вздыхали и отводили глаза в сторону.
Чтобы заглушить в себе чувство тоски по родным, по «вольной жизни», мы всю дорогу распевали песни, куражились, хотели казаться друг другу веселыми, отчаянными парнями. А на душе у каждого кошки скребли.
На третий день нашего «тележного похода» добрались до Симбирска. Здесь нас расквартировали в манеже уланского полка.
Утром, выйдя из казармы, мы получили первый наглядный урок солдатской жизни. Шли занятия солдат второго года службы по вольтижировке. По кругу манежа галопом скакала лошадь, хлыст в руках вахмистра со свистом рассекал воздух, один раз опускался на круп коня и десять — на солдатскую спину. Мороз пробегал у нас по коже при виде такой изуверской муштры...
— Вот она, ребята, царская служба, — говорили мы между собой. — Кому рай, а кому ад кромешный. Пожалуй, в сто раз хуже, чем батрачить у богатеев или работать на заводе.
В дороге я познакомился и подружился с двумя новобранцами — Павловым и Зайнулиным. Мы все время держались вместе. Увидев издевательства вахмистра над солдатами, Зайнулин тяжело вздохнул:
— Неужто и в драгунском полку нас вот так «обучать» будут? А я ведь сам избрал службу в коннице, мечтал стать джигитом.
Особенно встревожился Павлов, грузный, страдавший одышкой. Он откровенно признался, что ему службы в армии не вынести.
— Ничего, ребята, — пытался я успокоить и ободрить своих новых друзей, — как бы ни была трудна военная служба, все мы пообвыкнем да еще такими заправскими солдатами станем. Я вот, когда нанялся матросом, первоначально боялся по палубе пройти, а потом и не заметил, как палуба для меня стала, что пол в родной избе. Уж на что Каспий неспокойное, капризное море, и то полюбил его. Научился, как кошка, лазить по вантам и по реям даже в шторм...
Когда до Казани оставались две остановки, мы, предупрежденные сопровождающими, стали готовиться к выходу. [28] Все начали подтягивать ремни, лямки, чтобы удобнее было нести сундучки с вещами. Матери, сестры, а у иных и жены не пожалели для нас ничего, собрали последнее, чтобы мы ни в чем не нуждались первое время.
— А ты, Зайнулин, шашку и коня с собой, случайно, не прихватил? — смеялись мы, увидев, как Зайнулин подгоняет на себе большую солидного веса кладь.
— Да, братцы, только коня да шашки недостает, остальное все при мне. Хватит на пять лет службы, — отвечал он с улыбкой.
В Казань прибыли поздно вечером. Быстро высыпали на перрон. В темноте толкались и суетились у вагонов, громко окликали друг друга, боясь потерять товарищей, с которыми подружились в дороге. Сопровождающий нас унтер-офицер, из тех, которых в армии называют «кадровая шкура», поторапливал нас, и кое-кому из наиболее медлительных и нерасторопных досталось от него по шее. Унтеру хотелось поскорее сбыть нас с рук дежурному офицеру, прибывшему из полка для встречи пополнения.
Подали команду «Смирно», а мы все еще не успели построиться. В темноте слышно было, как дежурный офицер со злобой отчитывал унтера: «Что за безобразие творится?» Его ругань внесла еще большее замешательство в наши ряды. Наконец мы кое-как построились, рассчитались на «первый-второй» и, взвалив на плечи сундучки, потопали в казармы на окраину города, к озеру Кабан.
Новые казармы драгунского полка в сравнении с деревенскими хатами показались нам дворцами. Служба же в этих «дворцах», как мы убедились вскоре, была не сладкой.
Первым делом всех нас разбили по эскадронам. Меня, Павлова и Зайнулина определили в первый эскадрон.
В то время Казанским военным округом командовал генерал Сандецкий. О нем ходила недобрая молва. Нам рассказывали, с какой изощренностью расправляется этот изувер с нижними чинами.
Надев солдатскую форму, мы должны были усвоить назубок нерушимые правила: не прекословь офицеру, ешь глазами начальство, ежели ты вышел в город, ходи по мостовой — тротуар не для солдата, и боже тебя упаси зайти в парк или городской сад — солдатской «серятине» там гулять запрещено. Малейшее нарушение этих правил грозило зуботычиной, гауптвахтой, а то и шомполами. [29]
Особенно доставалось от гарнизонных служак генерала Сандецкого молодым, еще не освоившимся солдатам. Кстати сказать, я как следует разглядел Казань лишь после того, как прослужил в полку зиму. Вышел в первый раз из казармы, вроде как из тюрьмы, к тому же с «прицепом» — в сопровождении бывалого солдата. По издавна установившемуся неписаному закону молодой солдат обязан был отблагодарить сопровождающего — выложить деньги на выпивку «няньке». Какое удовольствие от такой прогулки? Ходили мы по грязным закоулкам города, и, кроме кабака да осевших хибарок с подслеповатыми оконцами, я ничего не увидел.
Отбывая карантин, мы приглядывались к офицерам полка, под начальством которых нам предстояло служить.
В кавалерийских частях, в том числе и в нашем 5-м Каргопольском драгунском полку, было много офицеров из «благородных», из дворянской знати: князь Кропоткин, князь Абхазии, барон Корф... Все они произвели на нас, новобранцев, тягостное впечатление.
— Ну, ребята, — делились мы впечатлениями, — достанется нам от их «благородий».
Этот разговор услышал старый солдат — мой земляк Командин.
— «Их благородия» вы редко будете видеть, — сказал он, — с вами будут заниматься унтер-офицеры. Но иные из них, особенно сверхсрочной службы, почище офицеров мордуют нашего брата.
Ничего себе, успокоил! Через три недели после прибытия в полк мы убедились, насколько мой земляк был прав. Унтеры не давали нам вздохнуть. Только одна уборка коней занимала пять часов, да к ним еще семь часов конностроевых занятий. Весь день мы носились как угорелые из казармы в конюшню, из конюшни в казарму, из казармы на плац, с плаца в манеж и так до отбоя. Но это еще можно было вынести. Мы и дома привыкли работать от зари до зари. Куда труднее обстояло дело с обучением. Тяжело давалась нам конная подготовка. До выхода из казармы взводный унтер-офицер намечал для каждого из нас коня.
— Ты, Тюленев, поседлай Гвардейца, ты, Зайнулин, — Гордого...
Кони по масти были все одинаковые, их трудно было различить. Многие из нас часто путали их, седлали не тех [30] коней, которых назначал взводный. А за это — ругань, насмешка или удар хлыстом. И совсем мука, когда тебе доставался Трясучий, плохо выезженный конь. Поскольку первое время верховая езда практиковалась без стремян, новобранцы до крови натирали себе шенкеля, мешком плюхались на землю.
Павлов, с которым мы вместе прибыли в полк, не выдержал: через два месяца бежал в лютую стужу, заночевал где-то в стогу сена. Его нашли с отмороженными ногами. Началась гангрена. В лазарете ему ампутировали обе ноги. Через полгода он был отправлен домой.
Немало времени уходило у нас на изучение истории полка, вызубривание титулов высочайших особ, генералов и офицеров всех рангов. Этим мы занимались по вечерам.
Наш полк был сформирован в мае 1907 года и получил наименование Каргопольский драгунский полк. Была у нас и своя любимая полковая песня. Возвращаясь в казармы с полевых учений, драгуны лихо распевали:
Когда войска Наполеона
Пришли из западных сторон,
Был авангард Багратиона
Судьбой на гибель обречен.
Бой закипел и продолжался
Все горячей и горячей.
Людскою кровью напитался,
Краснел шенграбенский ручей.
Так свято ж помните об этом
На предстоящем вам пути.
И будет пусть у вас заветом:
Пять против тридцати!
Природа меня не обидела здоровьем, а поэтому служба в коннице не казалась мне невыносимо тяжелой. Я хорошо владел оружием, был неплохим гимнастом. Наверно, поэтому сразу же после присяги меня направили в учебную команду.
В 1914 году наш полк отправился походным порядком в лагеря на маневры. На всем пути от Казани до Симбирска проводились полевые учения — ни часу передышки! Старые солдаты по этому поводу говорили:
— Неспроста это, братцы. Видать, к войне...
Вызывало беспокойство и то, что была задержана очередная демобилизация. В народе тоже поговаривали, что война не за горами. Крестьяне осторожно спрашивали у [31] солдат: не на войну ли идет полк? Я, как и другие солдаты, не знал, что отвечать крестьянам. Да и разговаривать на эту тему было опасно.
В конце июля наша кавалерийская дивизия расположилась биваком в селе Часовня, на левом берегу Волги.
Жизнь в лагерях ничем не отличалась от казарменной. Ежедневно проводились совместные учения пяти полков, одной пулеметной команды и двух артиллерийских батарей. Они сводились главным образом к отработке конных атак. Эскадроны и полки сходились в «атаку», начальство то благодарило нас за лихость, то распекало за отсутствие равнения в строю.
В лагерях мы жили, отрезанные от внешнего мира, варились в своем солдатском котле. О том, что происходило на белом свете, узнавали из писем, проштемпелеванных цензурой.
В один из июльских дней я остался в наряде. Эскадрон в 7 часов утра ушел на полевые занятия. Убрав казармы и конюшни, я уселся отдохнуть на пригорке, откуда хорошо были видны река, железнодорожный мост, перекинутый через Волгу. Любуясь Волгой, я невольно вспомнил Каспийское море, своих прежних товарищей. Предавшись воспоминаниям, не заметил, как ко мне подошел дежурный по эскадрону унтер-офицер Алтухов. Он набросился на меня с кулаками, начал кричать, называть бездельником. Я стал оправдываться — ведь никакой вины за мной не было. Алтухов еще больше разъярился, угрожал доложить начальству. Не знаю, чем кончилась бы для меня эта стычка с дежурным, если бы вдруг с улицы не грянуло громовое «ура».
— Что за чертовщина? — изумился Алтухов. — Почему орут «ура»? Неужели село «атакуют»?
Дежурный ушел в канцелярию узнать, почему эскадрон так рано возвратился с учения.
Крики «ура» не смолкали.
«Что же там происходит?» — подумал я и побежал открыть ворота. Офицеры эскадрона галопом разъехались по своим квартирам, а солдаты с шумом заполнили двор.
— В чем дело, ребята?
— Разве не знаешь? Война! Война объявлена! Нас генерал Мориц с походом поздравил. Сегодня же грузимся в вагоны и возвращаемся на зимние квартиры! [32]
Взводный торопил сборы. Солдаты забегали, как муравьи, собирая в кучу вьюки, укладывая свои пожитки. А вечером мы уже погрузились в железнодорожные вагоны.
Я с тревогой подумал, что пришла пора и моим братьям, старшему Антону и младшему Андрею, покинуть отчий дом.
А Зайнулин ни о чем другом думать не мог, как о своей лошаденке. Он то и дело приставал к Гилеву:
— Заберут мою лошадь или нет?
Гилев отвечал:
— Если подходит по всем конским статьям для кавалерии, обязательно реквизируют.
Зашел разговор и на самую ходкую тему — о господах офицерах.
— Не верю я князьям и дворянам, продадут, как в японскую войну генерал Стессель продал Порт-Артур, — говорил Гилев.
Зайнулин, ненавидевший полковника Шмидта, поддержал Гилева:
— Разве может волк волка съесть? Не захочет немец Шмидт драться против своих...
Поезд неожиданно остановился. Мы испуганно переглянулись: уж не подслушал ли кто наш разговор? Думали, вот сейчас в вагон войдет полковник Шмидт или кто-нибудь другой из офицеров, и тогда не миновать шомполов.
Кто-то несмело выглянул. Оказалось, поезд остановился на разъезде, пропуская санитарную летучку. Никому из офицеров в этот час не было до нас дела, и мы вновь стали говорить о войне, о том, что нас ждет на позициях. Меньше десяти лет прошло со времени русско-японской войны, в которой царская армия потерпела позорное поражение. Невольно приходило на ум: тогда нас Япония одолела, а ведь Германия с Австрией куда сильнее!
— Да, братва, вряд ли нам устоять в этой войне с нашими офицерами-белоручками, — раздался чей-то голос позади меня. — Им не воевать, а только пировать. К примеру, наш командир полка генерал Ильяшевич. Какой из него вояка! Когда он на коне, все одно что мешок с отрубями. В пенсне ничего кругом себя не видит...
Поезд остановился на станции Бугульма. В вагон зашел [33] взводный, поручик Бжизицкий, поздоровался наигранно-бодро:
— Здорово, молодцы! Как устроились?
— Ничего, вашбродь, — хором ответили солдаты.
Набравшись храбрости, один из солдат спросил:
— Ваше благородие, по какому такому случаю война объявлена и долго ли она будет продолжаться?
Бжизицкий степенно ответил:
— Войну государь объявил Вильгельму потому, что немцы и австрийцы обижают братьев славян. А долго ли ей длиться, — он помолчал, будто прикидывая в уме, и закончил уверенно, — месяцев шесть пройдет, к зиме покончим с пруссаками.
Солдат Гилев, видя, что офицер охотно отвечает на вопросы, тоже вступил в разговор:
— Ваше благородие, помню я, когда мы с японцем начали воевать, нам тоже говорили: больше полгода войне не быть, мы их шапками закидаем. А вышло так, что по мы их, а они нас...
Бжизицкий нервно протер пенсне, в упор уставился на Гилева, будто видел его впервые, затем грозно отрезал:
— Чтоб я больше таких разговоров в своем взводе не слышал! — Круто повернулся и был таков.
Утром мы из вагонов видели, как по дорогам потянулись вереницы крестьянских подвод с мобилизованными.
Сборы на зимних квартирах в Казани были недолгими. Через сутки мы уже снова сидели в вагонах. Наш воинский поезд на всех парах несся на запад. На остановках без разрешения нельзя было выходить из вагонов. Нашему эшелону оказали «честь»: два раза посылали эскадрон на усмирение взбунтовавшихся мобилизованных солдат на станциях Минск и Белосток.
Под Белостоком на каком-то полустанке наш полк выгрузился и походным порядком двинулся на Варшаву. Эта неожиданная высадка вызвала среди солдат много разных толков: одни говорили, что дальше двигаться по железной дороге нельзя, потому что в небе появились немецкие дирижабли, другие уверяли, что немец уже близко, подходит к Варшаве.
В действительности же все объяснялось гораздо проще: надо было срочно высвободить вагоны для переброски на фронт других частей. [34]
Еще в пути поползли среди солдат слухи о том, что у нас мало орудий, пулеметов и даже винтовок.
— Коли оружия нет, шапками немца забросаем, — высказался какой-то шутник.
В Варшаве наша 5-я кавалерийская дивизия с неделю простояла на отдыхе.
Газеты скупо освещали положение на фронтах. Но солдаты знали больше того, что писалось в газетах: наши войска на юге отходили к Иван-Городу и Варшаве.
В первый месяц войны нас обрадовали успехи 1-й армии Ренненкампфа. Она вторглась в Восточную Пруссию. Газеты восторженно писали, что враг бежит. Однако эти успехи были временными и незначительными. Вскоре пришли другие, более достоверные, но невеселые вести: немец нас лупит на всех фронтах. «Прославленного» генерала Ренненкампфа назвали немецким шпионом.
Из Варшавы кавдивизия выступила в район местечка Ново-Място на реке Пилице. Здесь произошел наш первый бой.
Сначала драгуны атаковали немецкий батальон велосипедистов, захватив с полсотни пленных. Начальство поспешило раздуть этот боевой успех, выдать его за крупную победу. Затем дивизия вышла в район местечка Погребище во фланг и тыл немецкой пехотной бригаде ландштурма.
Целый день полки готовились к атаке, но она так и не состоялась. Произошли мелкие стычки, и немецкая бригада ретировалась. А наш командир дивизии барон фон Мориц, вместо того чтобы стремительно преследовать противника, вернул полки в исходное положение за Пилицу. Бригада смогла преспокойно оторваться и уйти от преследования. За эту «операцию» фон Мориц был отстранен от командования дивизией. Его преемником стал генерал Чайковский. Но он, как и Мориц, не блистал ни умом, ни военными знаниями. В этом мы убедились в первом же бою под его командованием.
А произошло вот что. На город Сандомир наступала пехота — Тульский полк. Одного этого полка было мало для того, чтобы прорвать сильно укрепленные позиции врага. Надо было немедленно ввести в бой для поддержки Тульского полка нашу кавдивизию, стоявшую во втором эшелоне. Все мы ждали, что приказ об этом вот-вот поступит. Но Чайковский не спешил, хотя прекрасно знал, что пехотинцы истекают кровью и их атака может захлебнуться. [35] Тогда солдаты драгунского полка, не дожидаясь приказа сверху, сами перешли в наступление. Немцы были оттеснены, и мы заняли город Сандомир.
После этого боя солдаты стали вслух высказывать недовольство новым командиром дивизии, дескать, сменили кукушку на ястреба, да и тот оказался петухом.
— Ну, братцы, с таким начальством не до жиру, быть бы живу, — говорил солдат Блажевич.
Весь 1914 год наш полк бесцельно колесил по полям Западной Польши, а враг тем временем продолжал наступать.
Мы больше не верили в то, что война скоро закончится, и совсем уже перестали верить в ее успешный исход. Падала в полку дисциплина, солдаты все чаще роптали, поминали недобрым словом самодержца, затеявшего эту бессмысленную бойню.
Однажды в район деревни Вулька от нашего взвода был выслан дозор, который должен был разведать, не занят ли противником ближайший населенный пункт. Разъезд остановился в лощине, оружие у всех нас было наготове. Дозор подал знак, что деревня свободна. Но когда мы стали входить в нее, нас неожиданно атаковал взвод немецких улан. Они с гиком и свистом скакали навстречу нам по деревенской улице. Офицер Бжизицкий поспешно подал команду «Направо кругом», т. е. отходить, и первый повернул коня.
Но мы не выполнили приказа взводного. Надоело нам то и дело бегать от врага. Как-то само по себе получилось, что мы пришпорили коней и бросились на атакующих немцев. Те, не ожидая контратаки, дрогнули. Трое немцев, остановив коней на всем скаку, вылетели из седел. Мы стали преследовать улан, захватили еще пленных. Когда вернулись на исходную позицию, офицера Бжизицкого в лощине не было. «Куда оп запропастился?» — ломали мы голову. Посовещались, перекурили и вдруг видим — на высоте маячат всадники. Подумали, что немцы снова изготовились к бою. Оказалось, это наш командир взвода Бжизицкий с двумя солдатами. Отсюда, с горки, он наблюдал, как мы контратаковали немецких улан. Увидев, что опасность миновала, Бжизицкий спокойно подъехал к нам.
— Ваше благородие, — доложил я ему честь по чести, — вышибли мы из деревни немцев, взяли пленных и [36] трофеи. — И не удержался, чтобы не высказать то, что думал каждый из нас: — Атаковали бы всем взводом, еще больше взяли бы пленных.
Этот бой Бжизицкий расписал в полку так. что нам никто проходу не давал, все дивились нашему геройству. А ведь геройства-то никакого и не было.
Наступала суровая зима 1915 года.
Из запасного полка начали прибывать маршевые эскадроны для пополнения. Прибывающие солдаты, в основном уже немолодые, привозили из тыла нерадостные вести:
— Вот вы воюете здесь, а семьи ваши разоряются. Идет только первый год войны, а на Волге народу жрать нечего, все под чистую забирают. Наживаются на войне одни буржуи...
Слушали мы их с тоской и гневом и думали, когда же кончится эта проклятая война да и многие ли из нас вернутся домой.
Между тем война из маневренной превратилась в окопную. Конницу спешили и посадили в окопы. 5-й кавдивизии отвели участок обороны на реке Бзура. Каждую неделю кавалерийские полки сменяли в окопах друг Друга.
Весна в том году выдалась ранняя. Трудно сказать, почему кавалерийское начальство решило в свободное время проводить конные строевые занятия, вроде мы не на фронте, а в летних лагерях.
Запомнился мне вопиющий случай офицерского самоуправства, который произошел на одном из таких занятий в 4-м эскадроне.
Эскадрон рассыпался в цепь, или, говоря по-казачьи, в лаву. Один из солдат, не помню его фамилии, несколько отстал от цепи. Тогда к нему подскочил поручик Жилиговский и ударил клинком по спине. Этого ему, видимо, показалось мало. Офицер на скаку ткнул солдату в спину клинок и заколол насмерть. В полку поднялся ропот, солдаты потребовали наказания убийцы. Однако дело замяли, а Жилиговского лишь перевели в другой полк.
В 1915 году 5-я кавдивизия была переброшена с Юго-Западного фронта на Западный, в район Поневеж — Шавли.
Положение на Западном фронте из-за разгрома самсоновской армии и отхода армии Ренненкампфа сложилось тяжелое. Союзники тоже терпели поражение. Прошел [37] слух, что французы запросили у царя Николая русские войска для посылки во Францию.
Мы только руками разводили:
— Ну вот, довоевались! У самих плохо, а тут помогай французу. Видать, русским солдатом хотят все дыры заткнуть.
...Под городом Поневежем эшелон остановился: оказалось, противник перерезал нам путь.
Не успел эскадрон полностью выгрузиться, как мы услышали сигнал боевой тревоги. К командиру эскадрона подскакал ординарец полка.
— В двух километрах северо-западнее железнодорожной станции противник, — сообщил он. — Эскадрону приказано его атаковать. Правее наступает 2-й, а левее 5-й эскадроны.
— Шашки вон, пики к бою! — подал команду ротмистр Козлов.
Эскадрон на рысях стал выдвигаться навстречу врагу. Над колонной разорвался шрапнельный снаряд. На левом фланге несколько впереди нас послышались крики «ура». Наш эскадрон развернутым строем перешел в галоп, и вот мы уже увидели перед собой колонну противника, которая, по-видимому, собиралась ударить во фланг нашего соседа слева.
С криками «ура» мы бросились на немцев. Атака была молниеносной. Противник не выдержал и начал беспорядочно отступать. На поле боя остались два орудия и другие военные трофеи.
Об этом бое под Поневежем было много разговоров, особенно среди солдат. Разгоряченные успехом, они шутили:
— Будем так воевать, погоним колбасников до самого Берлина!
Кто-то даже похвалил нашего дивизионного командира:
— А ведь наш-то Чайковский, генерал, научился воевать!
В ответ раздался насмешливый голос обо всем осведомленного Гилева:
— Научился! Как бы не так. Лез он из кожи вон, потому что в этом районе его имение. А мы-то, дураки, за его имение на смерть шли...
— А и правда! Под городом Сандомиром, помните, ребята, он, гадюка, не хотел помочь нашей пехоте, по его [38] вино много там полегло нашего брата, — поддержал его старый солдат Кулешов. — А за свое добро он хорошо воюет!
В разговор включился солдат Исаев, прибывший к нам с маршевым пополнением. Человек он был начитанный, грамотный, из петроградских рабочих.
— Будет вам, ребята, зря болтать. Разговорами делу не поможешь. Придет время, а оно не за горами, тогда смотри не дремли. Припомним все Чайковскому и кое-кому другому.
Разговор прекратился с появлением поручика Бжизицкого.
— Здравствуйте, братцы! — Он уселся на услужливо подставленный ему унтером Алтуховым стул. — А что, здорово мы немцев поколотили?
— Да, ваше благородие. Почаще бы их так. Но что-то у нас не всегда получается, — ответил я за всех.
— Как не получается, Тюленев, или вы не слышали из газет, как наши доблестные войска взяли крепость Перемышль?
— Так то оно так, но ведь и мы целую армию генерала Самсонова в Восточной Пруссии потеряли.
В последнее время офицеры стали относиться к подобным разговорам снисходительней, вероятно, потому, что в действующей армии усилилось брожение, недовольство затянувшейся войной, военными неудачами.
Бжизицкий, протирая платком стекла пенсне, ответил заученными, истертыми, как старые пятаки, словами:
— На войне, братцы, бывают успехи и неудачи. Наше дело солдатское, мы призваны воевать за веру, царя и отечество. За богом молитва, а за царем служба не пропадут. Уверен, что солдаты моего четвертого взвода вернутся после войны домой увешанные крестами.
Когда он ушел, Гилев, весело прищурившись, уставился на Зайнулина, словно уже видел всю его широкую грудь в георгиевских крестах.
— А ведь вам, магометанам, по вере вашей кресты не положено носить, — поддел он Зайнулина. — Куда же ты тогда кресты денешь?
— Нельзя носить крест на шее, а на груди коран не запрещает, — невозмутимо ответил Зайнулин. — А если уж правду говорить, то царская награда ничего солдату не дает. [39]
— Это верно. Знал я одного земляка, который с японской войны вернулся с тремя Георгиями, — поддержал Зайнулина Исаев. — А в девятьсот пятом году стражники не посмотрели на его царские кресты, вместе с другими мужиками так выпороли, что он скоро богу душу отдал.
Зачадив самокруткой, Исаев продолжал:
— Одному достанется серебряный крест, а тысячам — деревянный на погосте. Война кому нужна? Царю да генералам, вроде нашего Чайковского. А нам она на что? Земли прибавит? Самое большее — три аршина... Да, кому война мачеха, а кому мать родная. Второй год гнием в окопах, кормим вшей, а дома — разруха, голод. Останешься жив, вернешься с Георгием, много ли он тебе в хозяйстве прибавит, ежели у тебя грош в кармане да вошь на аркане.
Исаев поглядел на нас умным проницательным взглядом и, понизив голос, сказал:
— Уж коли воевать, то не с немцами, а со своими шкурорванцами, которые из нас кровь сосут. Как говорится, повернуть дышло, превратить войну империалистическую в войну с помещиками и фабрикантами.
Солдаты зашумели.
— Ну, Исаич, тут ты загнул! Обернуть одну войну в другую?! Да ты с ума спятил! Сколько же лет тогда нам воевать? Нам и эта война обрыдла...
Исаев приложил палец к губам:
— Товарищи, прошу об этом разговоре ни гугу. Объяснить я точно все не могу, но среди рабочих такой слух в Петрограде ходит. Сам слышал на Путиловском заводе перед отправкой на фронт.
Исаев перевел разговор на другую тему. Мы были уверены, что он не все нам сказал, что он знает больше, по нам, слабо разбирающимся в политике, пока не говорит. Позже я убедился, что именно так и было.
* * *
После нескольких удачных боев под городом Шавли и местечком Свинтяны наши войска к осени 1915 года начали вновь отходить. Конницу спешили, опять загнали в окопы.
На этот раз наш полк занял позицию по реке Дубице.
Всю зиму и весну на нашем участке было спокойно: ни [40] немцы нас не беспокоили, ни мы их. Лишь изредка пушки с обеих сторон вступали в артиллерийскую дуэль, и время от времени уходили за переднюю линию окопов лазутчики.
Летом же 1916 года фронт словно пробудился от зимней спячки. Немцы перешли в наступление. Мы их встретили сильным ружейным огнем, но наши пушки молчали — не было снарядов. Артиллерийский огонь противника за несколько часов сровнял с землей наши окопы. Остатки полка стали отходить за Двину.
Драгунский полк из шестиэскадронного стал четырехэскадронным: по два эскадрона из каждого полка перевели в пехоту.
В дивизию приехал новый командир — генерал Скоропадский. Мы уже не удивлялись смене начальства, привыкли, что после каждого поражения смещали одного, назначали другого и чаще всего, как говорится, меняли шило на мыло.
...Стояла дождливая осень 1916 года. Наш полк сменила в окопах пехота. Мы же готовились к торжественной встрече самодержца, который принял на себя верховное командование. По этому случаю в частях служились молебны о даровании русскому воинству победы.
Две недели мы лихорадочно готовились к встрече царя: выводили вшей, чистили амуницию, снаряжение и втихомолку проклинали Николая, суматоху, вызванную его предстоящим приездом.
В один из погожих осенних дней царь прибыл на фронт. Под Двинском был назначен большой парад войск 5-й армии, которой командовал генерал Плеве.
Полки вывели на гладкую, как плешь, равнину. Конницу в составе двух дивизий построили во взводно-резервных колоннах.
Выезжая на парад, мы шутливо перемигивались:
— Посмотрим, какой он из себя — наш бог на расейской земле.
Вдали показалась вереница автомобилей.
С правого фланга перекатами донеслась до нас команда «Равнение направо». Появилась группа всадников. Она манежным галопом подъезжала к правому флангу. Впереди скакал Николай Второй. Рядом с ним — министр двора Фредерикс и командующий 5-й армией Плеве.
Прозвучало тихое, неуверенное, картавое: [41]
— Здорово, дети-каргопольцы!
Бледное, болезненно-испитое лицо царя-полковника, щуплая фигурка, вялость в движениях, штатская посадка на коне разочаровали даже тех, кто последние дни не ел, не пил — скорее бы увидеть самодержца всея Руси.
— Ну и папаша, ну и отец... — подталкивали мы локтями друг друга. — Теперь понятно, почему Гришка Распутин да немцы, дружки царицы, управляют страной. Да какой же из него главнокомандующий? Пропала матушка-Россия!
Шли месяцы, а конца войне не было видно. Позиции, окопы, гнилая вода под ногами, стужа...
Наступал 1917 год.
По окопам поползли слухи о дворцовом перевороте, об убийстве Распутина, о бунте матросов на Балтике.
Солдаты чутко ко всему прислушивались, ждали больших перемен, хоть и не знали, с какой стороны они придут.
А война шла своим чередом. Немецкие и русские солдаты, зарывшись, как кроты, в землю по обоим берегам Двины, тянули осточертевшую лямку окопной жизни. По временам то на одном, то на другом участке тишину разрывала пулеметная и ружейная стрельба.
Двина была скована льдом. На пустынной ледяной глади лишь кое-где бугрились плохо замаскированные мины. Впереди наших окопов тянулось проволочное заграждение в три кола.
Дежурные части, часовые и подчаски в окопах и на командных пунктах вели тщательное наблюдение за противником. Обо всем замеченном на другом берегу Двины делались записи в журналы наблюдения.
Зима в тот год стояла в Прибалтике холодная, со снежными метелями. Чтобы не обморозиться, солдаты сменялись на постах каждые один-два часа. Треть эскадрона сидела в окопах, остальные грелись в землянках, дожидаясь своей очереди сменить товарищей.
Время от времени в непосредственной близости от наших окопов и землянок рвались снаряды. Смерть вырывала из наших рядов то одного, то другого. Глядя на носилки, покрытые окровавленной шинелью, мы невольно с тоской думали: кто следующий, кого ждет такая же участь? [42]
В зимние длинные ночи особенно мучительно стынуть в окопах. Чтобы как-то скоротать время до утра, мы зарывались в гнилую солому и, тесно прижавшись друг к другу, рассказывали всякие были и небылицы, предавались воспоминаниям о далекой мирной жизни.
В каждой землянке имелся свой признанный рассказчик, которого слушали с особой охотой. Был и у нас такой — пожилой солдат Кулешов, прибывший к нам в полк с маршевым эскадроном.
Мне запомнился один из его рассказов, образец солдатского фольклора. Байка эта называлась «От чего пошла война России с германцем».
Обычно Кулешов начинал ее так:
— Вот вы, братцы, спрашиваете, с чего пошла нонешняя заваруха? Ежели совру, поправьте, но, сказывают, накликал войну не бог, не царь, а... Впрочем, давайте уж начну по порядку...
И рассказывал не спеша Кулешов про Ваську-мудреца, сумевшего перехитрить мудреца немецкого, из-за чего кайзер Вильгельм, разгневавшись, объявил войну России.
Однажды, когда Кулешов закончил свой рассказ, Исаев, усмехнувшись, сказал:
— Хороша твоя сказка, только для малых ребятишек она. И придумали ее царские холуи, чтобы голову народу заморочить. А вот я тебе не сказку расскажу, а саму правду-матку.
Он расстегнул шинель, пошарил в нагрудном кармане гимнастерки, извлек оттуда сложенный вчетверо, потертый на сгибах газетный лист и со словами «Слушайте да мотайте себе на ус!» начал читать:
Нам в бой идти приказано:
«За землю сгиньте честно!»
За землю? Чью? Не сказано.
Помещичью, известно.
Нам в бой идти приказано:
«Да здравствует свобода!»
Свобода? Чья? Не сказано.
Но только не народа.
Нам в бой идти приказано:
«Союзных ради наций».
А главного не сказано:
Чьих ради ассигнаций? [43]
Кому война — заплатушки,
Кому — мильон прибытку.
Доколе ж нам, братушки,
Терпеть такую пытку?
— И это в газете пропечатано? — изумился Кулешов. — Да ведь это же крамола — против царя, против министров!
— Эх, ты, дурья голова, — опять усмехнулся Исаев. — Газета газете рознь.
Он поднес газетный лист к глазам Кулешова:
— Читай, если грамотный. Видишь буквы: РСДРП. Понял? И сложил эти стихи наш брат солдат, помудрее твоего Васьки-мудреца.
Признаться, мне, молодому солдату, не очень разбиравшемуся в политике, больше пришлись по душе стихи, прочитанные Исаевым, чем сказка Кулешова. Занозой засели в голове горькие, гневные строки:
Доколе ж нам, братушки,
Терпеть такую пытку? [44]
За власть Советов
Стоял март 1917 года...
Политические новости доходили до нас скупо. Хотя и принято считать, что солдат обо всем узнает раньше своих командиров, но мы даже в марте ничего толком не слыхали о Февральской революции. Только понимали, что офицеры нервничают не зря. Кое-кто из драгун объяснял это тем, что офицеры в долгу перед нами: из нашего фронтового приварка воровалась крупа, деньги за которую офицеры клали себе в карман. Солдаты поумнее, такие, как Исаев, говорили, что дело не в крупе: ведь обкрадывали нас уже не первый год, и до последнего времени это не мешало офицерам смотреть на нас свысока, без зазрения совести. Значит, причина в другом, в чем-то более важном. Но в чем?
Тут как раз подошел срок очередной смены. Драгун отвели из окопов в тыл на отдых, а наше место занял другой полк дивизии. Нас разместили в уединенном поместье, далеко от железной дороги. Глухомань...
Радио тогда не было, газет мы не получали. Единственный источник информации — полевой телефон. Обычно новости сообщали нам штабные телефонисты или дежурные по подразделениям. Но тут, как назло, сколько ни подслушивали солдаты телефонные разговоры, ничего узнать не удалось: офицеры говорили больше по-французски, а если по-русски, то «темнили».
Однажды — это было десятого марта по старому стилю — сидели мы на бревне в расположении полка, курили махру и ломали голову, как бы разжиться «разведданными» о событиях в тылу. Видим, едет наш эскадронный фуражир по направлению к железной дороге.
— На станцию? [45]
— На станцию.
— Обожди минутку!
Мы быстро посовещались, потом я подошел к фуражиру, дал ему три рубля и попросил купить, сколько бы ни стоило, газеты. Фуражир уехал.
Надо сказать, три рубля для солдата были большие деньги, если учесть, что его месячное денежное довольствие составляло пятьдесят копеек. Я же, как полный георгиевский кавалер, получал за свои четыре креста двенадцать рублей в месяц и считался в эскадроне богачом.
Кажется, в этот день мы не ели, не пили в ожидании фуражира. Наконец он приехал.
— Нате вашу газетку. Только на самокрутки она и годится, а спекулянт за нее целковый содрал!
Теперь, пятьдесят с лишним лет спустя, я уже не помню, что это была за газета, выветрилось из памяти ее название, да и не в названии дело. Но хорошо помню, как прочитали мы в ней: «2 марта Николай Второй Романов отрекся от престола в пользу своего брата Михаила». Ниже сообщалось: «Михаил также отрекся от престола на следующий день, третьего марта».
«Что это значит? Как отрекся, почему отрекся? Не по доброй же воле оставил престол?» Все перемешалось в голове. Кто объяснит, где собака зарыта? К кому пойти?
Посовещавшись, я и еще несколько солдат решили обратиться к нашему эскадронному командиру Козлову. Это был неразговорчивый и строгий служака, но солдаты уважали его за справедливость.
Встретил нас Козлов хмуро. На первый же вопрос ответил вопросом:
— Откуда узнали?
Показали ему газету. Эскадронный посмотрел на нас исподлобья, поджал тонкие губы:
— Это все — высокая политика. Я человек военный, в политику не вмешиваюсь. И вам не советую...
С тем мы и ушли.
На следующий день нам удалось раздобыть новую газету. Хоть и туманно было там написано, но поняли мы, что в Питере произошли важные события. Короче говоря, революция! Что это означало, мы тогда еще себе плохо представляли, но пришли к одному выводу: хуже, чем при царе, не будет. [46]
Среди нас, кавалеристов, не было большевиков, может быть, один только Исаев. Но ветер свободы, гулявший по России, залетел и в нашу глухомань. Все сразу решили: надо что-то делать, действовать! Стремление это было еще не осознанным, возникло оно стихийно.
Однажды собрались мы на лужайке, смотрим друг на друга, и кому-то бросилось в глаза, что очень уж много среди нас георгиевских кавалеров. На кого ни поглядишь — то медаль на груди, то крест, два креста, а то и полный набор — все четыре. И не удивительно: не один год воевал наш полк.
И опять верную мысль высказал Исаев: раз царя больше нет, долой царские регалии!
— Не выбрасывать же кресты, — возразил Исаеву Кулешов. — Как-никак серебро да золото.
— Зачем выбрасывать? Пожертвуем их в фонд революции, — предложил Исаев.
Сказано — сделано. Кто-то притащил мешок, и здесь же, на лужайке, в него посыпались георгиевские кресты и медали. Это был наш первый отклик на революционные события.
Отныне мы заботились главным образом о том, чтобы раздобыть газеты. Каждый день мы снаряжали на станцию посыльного, и он приносил все, что удавалось там найти. Обычно это были зачитанные, уже прошедшие через многие руки газетные листы.
Так как газеты попадались разных партий — и кадетов, и меньшевиков, — события в каждой из них толковались по-своему, оттого и сумбур в наших головах был еще больший.
Однажды встречаю Константина Рокоссовского — он служил в нашем полку, только в другом эскадроне. Идет мрачный. Остановились, закурили. Спрашиваю, как он смотрит на события. Оказывается, и у них в эскадроне тоже никто толком не поймет, что же происходит в России.
В конце концов мы все же выудили из газет то, что касалось нас непосредственно: повсюду — и в тылу, и в армии — создаются Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Стало быть, и нам надо объединяться...
...Полк снова уходил в окопы. На этот раз драгуны сменяли на позициях гусарский Александрийский полк.
В этом полку служил мой земляк Петр Лыков. Встретились мы с ним и, как обычно бывает между земляками, [47] сначала заговорили о родном селе — где кто теперь, что пишут из дому. А потом поделились свежими солдатскими новостями.
Лыков рассказал мне, что им приказано снять с погон трафарет — букву «А», обозначавшую имя царицы — шефа полка.
— Всю неделю соскабливаем краску с погон, а она так впиталась, что ее никак не счистишь, — сетовал Лыков. — Ребята смеются: «Вот беда свалилась на нашу голову. От царя избавились, скинули Николашку с трона, а царицу Александру никак с погон сбросить не можем. Засмеют теперь нас, гусар, драгуны». Да и есть над чем посмеяться. Погоны после чистки стали как тряпки, а метка от трафарета все равно заметна.
— А вы совсем сбросьте погоны, — предложил я.
Лыков возмутился:
— Ты что, Тюленев, рехнулся? Какой же солдат без погон?
— Ничего! Попа и в рогоже можно узнать.
Неожиданно Лыков задал мне вопрос:
— А что, Тюленев, в вашем полку получен указ, чтобы впредь в армии личный состав на «вы» друг к другу обращался?
Я ничего об этом не слышал.
— Так вот знай, — стал просвещать меня Лыков, — у нас уже зачитан приказ. Теперь мы должны величать друг друга «господин солдат», «господии ефрейтор», «господин унтер-офицер»... И начальство: «корнет», «поручик», «штабс-ротмистр», «ротмистр», «полковник» — все господа! Титулы «ваше благородие», «превосходительство» отменяются. А что, здорово Керенка придумал?
— Здорово-то здорово, — усомнился я, — да какая нам от этого польза? Права-то у офицера остаются прежние, хоть солдата и господином будут называть. Вот войну бы отменили, тогда другое дело.
— Да, не мешало бы, — согласился Лыков.
И тогда я высказал Лыкову то, над чем думал последние дни:
— Требовать надо, чтоб послали в Петроград делегацию от солдат, пусть разведает, что там делается.
Лыкову эта мысль пришлась по душе.
— Здорово! Но кто это потребует и у кого?.. [48]
— По начальству все нужно делать, — не задумываясь, ответил я. — Прежде всего доложить взводным, не согласятся — эскадронному...
Несколько дней спустя и в пашем полку объявили приказ Временного правительства. Солдаты уже знали об этом от гусар и потому не удивились новым титулам. Удивляло другое: отношение к нам со стороны начальства. Не только эскадронные, но и старшие офицеры полка стали больше интересоваться настроением солдат. Если раньше в окопы редко когда заглядывал эскадронный офицер, то теперь к нам стал наведываться и сам командир полка полковник Дороган.
Помню, как-то сидели мы в блиндажах. При появлении полковника дежурный унтер-офицер Прокофьев подскочил к нему с рапортом. При этом назвал его «господин полковник». Его высокоблагородие всего передернуло от такого обращения. Еще бы!
Дороган служил в свите его величества, с гордостью носил золотые вензеля монарха. Правда, к этому времени ему пришлось снять «высочайшие вензеля».
С трудом подавив раздражение, командир полка горько улыбнулся:
— Вот, господин унтер-офицер, мы теперь с вами равные, я уже не высокоблагородие, а некий демократ — гражданин, как и вы.
— Так точно! — гаркнул в ответ Прокофьев.
Это еще больше разозлило Дорогана. Он поспешил переменить тему разговора:
— Ну как, довольны солдаты службой при Временном правительстве?
— Службой-то довольны, вашбр... виноват, господин полковник, — ответил Прокофьев.
Высокомерная, снисходительная улыбка на лице Дорогана словно говорила: понимаю, трудно переключиться с «благородия» на «господина».
После непродолжительной паузы Прокофьев выпалил:
— Да вот только солдаты жалуются на войну. Все спрашивают, когда она кончится. Устали очень. Да и из дому вести плохие идут — голодают семьи...
Лицо Дорогана посуровело.
— Передайте, господин унтер-офицер, солдатам, чтобы они не беспокоились. Временное правительство примет все меры, чтобы улучшить положение их близких. А воевать, [49] братец, нам нужно до победного конца, иначе наши союзники обидятся.
Прокофьев молчал, солдаты переглядывались между собой, улыбаясь в усы, и тоже молчали.
Командир эскадрона Козлов, сопровождавший Дорогана, предложил ему пойти на командный пункт, и они вышли из блиндажа.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — сказал Кулешов, махнув рукой в сторону ушедших офицеров. — Воюй до победного конца. А где он, этот конец? В могиле?..
В этот день многие солдаты писали письма домой. Каждый сообщал семье, что, видимо, вернется не скоро. Что царь, что Керенский — одна шатия, и направление у них одно: сиди, солдат, в окопах, пока не сгниешь...
Вечером после дежурства зашел к нам в землянку связист Смолин и рассказал о подслушанном разговоре между полковником Дороганом и ротмистром Козловым:
— Дороган приказал командиру эскадрона брать на заметку пораженцев и изолировать их, а наиболее активных направлять в штаб полка.
Это сообщение Смолина обеспокоило солдат и в то же время еще более укрепило их решимость отстаивать свои права, бороться за прекращение войны.
В апреле в нашем полку и его подразделениях были созданы солдатские комитеты. В полковой комитет входили по одному выборному от эскадрона, команды и пять офицеров полка: тридцать выборных от четырех тысяч солдат и пять представителей от двадцати офицеров.
В президиум комитета были выбраны в основном офицеры, как наиболее грамотные и образованные. Но оказалось, что настроены они были отнюдь не революционно. Офицеры первым долгом осудили пораженчество, занялись выявлением «неблагонадежных» солдат, развернули агитацию за продолжение войны до победного конца. Их довод на первый взгляд звучал убедительно: «Заставим немцев подписать мир, а тогда айда по домам!»
Такая деятельность офицеров привела к тому, что на некоторых общих собраниях голосовали за резолюции, призывавшие к наступлению на фронте.
Но все же и мы кое-чего добились. На одном из собраний постановили послать в столицу делегацию, которая все выяснит и по возвращении доложит о том, что происходит [50] в тылу и какого направления нам, фронтовикам, держаться в дальнейшем.
Делегацию избрали в составе четырех человек: от офицеров — подполковника князя Абхазия и ротмистра Гутьева, от солдат — Давыдова и меня. Нам с Давыдовым солдаты дали наказ ясный: узнать, когда будет заключен мир, скоро ли передадут землю крестьянам, и потребовать, чтобы при дележе земли не забыли о тех, кто сидит в окопах.
У делегатов-офицеров были, конечно, свои планы. Накануне нашего отъезда меня и Давыдова вызвал к себе князь Абхазии. Говорил он с нами мягко, отеческим тоном. Но слова его нам не понравились. Он заявил, что по приезде в Питер мы все четверо первым делом пойдем к военному министру Временного правительства Гучкову и заверим его, что личный состав 5-го Каргопольского драгунского полка исполнен решимости продолжать войну до победного конца, что состояние духа у каргопольцев боевое.
Мы перечить не стали, а когда вышли от князя, Давыдов усмехнулся:
— Боевое-то оно боевое, только в другую сторону.
В общем, мы договорились в пустые пререкания с офицерами не вступать, а действовать по старому фронтовому правилу — осмотрительно, сообразуясь с обстановкой, но помня главное — выполнить поручение наших товарищей однополчан.
Приехали мы в Петроград 6 апреля по старому стилю.
Столица оглушила нас разноголосым шумом. На вокзале и привокзальной площади юркие мальчишки с кипами газет под мышкой выкрикивали звонкими голосами последние новости.
Немного пообвыкнув и осмотревшись, мы стали прислушиваться к тому, что выкрикивали газетчики. И что же оказалось — эта братва орала в полный голос то, о чем мы не решались говорить вслух, чтоб не попасть на заметку начальству!
— Долой войну! — пищал светловолосый шкет, штопором ввинчиваясь в толпу.
— Долой войну! — вторил другой.
Эти два слова, звучавшие для нас как сладчайшая музыка, сливались в одно звонкое:
— Долой войну! Долой войну! Долой войну! [51]
Чем дольше мы прислушивались, тем больше ликовали. Мальчишки-газетчики провозглашали то, что нам, солдатам 5-го Каргопольского полка, и на ум не приходило:
— Долой министров-капиталистов!
— Мир без аннексий и контрибуций!
«Контрибуция», «аннексия»... Мы, признаться, даже слов таких не слыхали. Но раз «Долой войну», «Долой министров-капиталистов», значит, и это что-то важное, хорошее...
Столкнувшись с богатейшей возможностью получить полную информацию, мы даже растерялись: привыкли на фронте, что газета в окопах — целое событие.
Когда наши офицеры вышли из вагона первого класса и присоединились к нам на перроне, мы с Давыдовым уже держали под мышкой по охапке свежих газет.
Князь Абхазий, поглядев на наши сияющие лица, поморщился, как от зубной боли.
— Сейчас — прямо к министру, — заявил он, — а газетами займетесь на досуге!
Здесь на вокзале мы были равными, не то что в окопах, и я решительно возразил:
— Нет, сначала в Петроградский Совет.
Князь криво усмехнулся:
— Кто тут старший? Или прикажете считать, что вы больше не солдаты, а я не ваш офицер?
Тон его подействовал, сказалась привычка к беспрекословному повиновению офицеру, и мы с Давыдовым молча последовали за Абхазием.
Войдя во дворец, невольно оробели: после окопной грязи непривычным казалось его великолепие да и трудно было еще нам, крестьянским парням, преодолеть робость перед барскими хоромами.
В приемной министра князь Абхазий пошушукался с адъютантом, потом отозвал нас в сторону и сказал шепотом:
— Самого министра нет. Сейчас нас примет его помощник Маниковский. Вы, Тюленев, должны от имени личного состава нашего полка заверить высшее начальство в несокрушимой верности идеалам отечества. Говорите просто, не волнуйтесь, скажите, что мы готовы воевать до победного конца. Это сейчас главное. Ваше слово [52] солдата, георгиевского кавалера, прозвучит убедительнее, чем наше с ротмистром.
Я покосился на Давыдова. Тот подмигнул мне, мол, молчи, не возражай, а там посмотрим.
Когда мы вошли в кабинет, навстречу нам из-за стола поднялся помощник военного министра Маниковский.
Князь Абхазий, вытянувшись в струнку, доложил, кто мы такие, а потом приветливо кивнул мне:
— Говорите, Тюленев!
Я откашлялся, тоже стал по стойке «смирно» и начал так:
— Ваше высокопревосходительство...
Маниковский снисходительно улыбнулся, а князь Абхазии поправил меня:
— Не надо именовать господина помощника министра вашим высокопревосходительством».
Но я пропустил мимо ушей замечание князя.
— Ваше высокопревосходительство! Солдаты послали нас с Давыдовым, — я кивнул на товарища, — чтобы узнать, когда конец войне. Хватит с нас! Это наша солдатская резолюция. А от имени офицеров я говорить не уполномочен.
Улыбка исчезла с холеного лица Маниковского. Он удивленно вздернул брови, вопросительно поглядел на князя. Тот процедил сквозь зубы в мой адрес: «Мерзавец!» Адъютант поспешно вывел меня с Давыдовым из кабинета. На этом наша аудиенция у помощника военного министра закончилась.
Офицеры остались в главном штабе. Мы не стали ждать их и пошли в Таврический дворец, где находился Петроградский Совет рабочих, и солдатских депутатов.
Таврический дворец напоминал развороченный улей. С большим трудом, растерявшиеся, оглохшие от шума, разыскали комендатуру. Получив талоны на питание и ордер в общежитие, пошли потолкаться по коридорам. Именно потолкаться, потому что во дворце было оживленнее и многолюднее, чем на Невском.
Военные, штатские, рабочие в кожаных куртках, сухопарые господа во френчах и золотых очках — кого только не заденешь плечом! И у всех во взгляде одинаковый, как вам показалось, огонек, словно все эти люди только недавно с пожара и отсвет пламени еще не погас в их глазах. [53]
В одном из залов стояла группа пожилых людей, с виду рабочих. Мы с Давыдовым остановились, прислушались, о чем они говорят. Содержание разговора нам было непонятно, но мы обратили внимание, с какой любовью они повторяли: «Ленин сказал...»
Стояли мы тихо, стараясь не обращать на себя внимания, и все же один из группы, усатый, в потертой кожаной куртке, заметил нас:
— Из окопов, война?
«Война» — так называли друг друга солдаты на фронте. И это обращение сразу же расположило нас к усатому.
— Сегодня только прибыли, — сказал я.
— А по какой нужде?
Мы коротко объяснили, откуда и зачем приехали.
Усатый цокнул языком:
— Эх, опоздали маленько! Дня на два пораньше — Ленина бы послушали.
Ленин! О нем мы слышали от Исаева. Говорил Исаев о вожде большевиков с безграничным восхищением. Вспомнилось и то, какая ненависть и злоба появлялась на лицах наших офицеров, особенно князя Абхазия, когда они слышали это имя.
— А нам можно повидать Ленина? — робко спросил Давыдов.
Усатому, вероятно, такой вопрос показался наивным.
Он улыбнулся:
— Этого я вам, ребята, сказать не могу. Много дел сейчас у Владимира Ильича. А вы вот что — раздобудьте «Правду», слыхали про такую газету? Там печатаются статьи товарища Ленина. А все остальные газетки надо читать с поправкой, на ветер. Понятно?
Очень нам понравился этот рабочий-питерец!
Мы не замедлили воспользоваться его советом, здесь же, в Таврическом, купили «Правду».
В один из последующих дней попали мы на шумное собрание. Председательствовал смуглолицый чернявый человечек, как мы потом узнали, — меньшевик Чхеидзе.
На трибуну по очереди взбирались разные ораторы, каждый говорил прямо противоположное тому, что сказал предыдущий. Но теперь, после того как мы побывали на многих собраниях, потолкались в коридорах и залах Таврического дворца, не столько умом, сколько сердцем почувствовали: [54] большевики говорили то, о чем думали и я, и Давыдов, и любой солдат из 5-го Каргопольского полка.
Мы возвращались в свой полк, окрыленные всем, что увидели и услышали в революционном Петрограде. Везли вашим товарищам нечто более ценное, чем любое оружие, — большевистскую правду, имя Ленина. И мы знали теперь, что нам делать по возвращении в полк.
Солдаты встретили нас восторженно: заждались! И хотя собрание, на котором мы отчитывались о своей поездке в Петроград, вел офицер, а резолюцию поручили писать полковому попу, пьянице и картежнику, все решилось так, как постановили солдаты: «Довольно криков о продолжении войны! Довольно обманывать крестьян!»
Отныне весь полк знал, чей голос надо слушать. И если даже Ленин подписывал статью или заметку одним из своих псевдонимов, мы узнавали его голос, потому что никто не мог выразить наши думы и чаяния так глубоко и ясно, как он.
Ленин, большевистская партия помогли нам в ту грозную пору выбрать единственно правильный путь борьбы за новую жизнь.
Лето семнадцатого года прошло в полку напряженно. Офицеры, повинные в воровстве солдатского пайка, предпочли улизнуть. Та же часть офицерского состава, которой пришлось по душе Временное правительство, а также ярые монархисты, не терявшие надежд на восстановление царской власти, вели упорную борьбу против солдатских комитетов. Они люто ненавидели простой народ, старались любыми средствами избавиться от активных, революционно настроенных солдат.
Вот так и получилось, что в августе 1917 года меня (по мнению полкового начальства, большевика) перевели в Сызрань, где стоял запасный полк нашей дивизии. Уставы армии еще продолжали по инерции действовать — я подчинился.
* * *
Казалось бы, чем дальше от столицы, тем тише и спокойнее жизнь. Но в Сызрани, находившейся втрое дальше от Петрограда, чем Двинск, обстановка была не менее напряженной, чем в столице.
Вскоре я подал рапорт об отпуске и через несколько дней приехал в родное село Шатрашаны. [55]
В те дни шатрашанцев всколыхнула весть об установлении в Самаре власти Советов. Что это означает, мы поняли немного позже, когда узнали, что за два дня до этого, 25 октября, в Петрограде совершилась социалистическая революция — правительство Керенского было свергнуто, власть в свои руки взяли рабочие, крестьяне, большевики, вооруженный народ. Новое правительство рабочих и крестьян во главе с В. И. Лениным приняло декреты — о мире, о земле, об уничтожении сословий, о национализации промышленности и другие.
Всколыхнулись, заволновались мужики во всех деревнях нашего уезда, каждый день собирались на сходы, приветствовали власть Советов. Богачи же, естественно, выступали против.
С утра до ночи люди до хрипоты спорили: кому должна принадлежать власть — Советам или Учредительному собранию?
Земляки послали меня делегатом от Шатрашан на волостное собрание. Делегаты там подобрались в большинстве своем из бедняков, и мы постановили: признать власть Советов, голосовать за Ленина. Так и написали в наказе делегатам, ехавшим на губернский съезд в Симбирск. Правда, во втором пункте наказа значилось, что надо все-таки выслушать и тех, кто голосует за Учредительное собрание.
На губернском съезде я получил первый урок конкретной политической борьбы. У всех делегатов съезда имелись на руках наказы в письменной форме от избирателей. А так как во многих селах и городках все еще господствовали эсеры и меньшевики, то во многих наказах в той или иной форме высказывались симпатии Учредительному собранию.
И вот на съезде выступает делегат в Учредительное собрание от Поволжья некий Алмазов. Он всячески агитирует за «учредилку», поносит «невоспитанных» большевиков. Его все время перебивают ядовитыми замечаниями с мест, но это не смущает оратора. Общий его вывод: долой Советы!..
Начинаются прения. Один за другим поднимаются на трибуну посланцы из волостей, и из пяти четверо заканчивают свои выступления призывом:
— Вся власть Советам! Да здравствует Ленин!
Тогда опять берет слово Алмазов и предлагает: раз у [56] каждого выступающего есть писаный наказ, то нечего тратить время на разговоры. Следует просто зачитать наказы, а секретариату — подсчитать, сколько за какую власть подано мандатов. Вероятно, этот деятель и его соратники были хорошо осведомлены о содержании липовых наказов, не отражавших истинной воли народа.
Президиум съезда воспользовался минутным замешательством и принял предложенный Алмазовым порядок.
Но тут на сцену поднялся стройный, подтянутый молодой человек, красивый, темноволосый, с бледным лицом. Я сидел близко от сцены и внимательно слушал его.
— Товарищи делегаты! Разве вы собрались здесь для того, чтобы читать по бумажке? Тогда зачем было ехать? Прислали бы по почте — и нечего на дорогах грязь месить. Выходит, вас послали просто курьерами? Вопрос, который мы должны здесь решить, слишком серьезен. Вы, полномочные представители народа, сами обязаны сказать свое слово, а не читать по бумажке, неизвестно кем составленной.
С этой трибуны, — продолжал оратор, — Алмазов обвинял большевиков, Ленина за то, что они разогнали Учредительное собрание. Но он не сказал главного: почему была разогнана «учредилка». А разогнали ее потому, что она отстаивала интересы буржуазии, плелась в хвосте правительства Керенского, которое, как известно, обманывало народ.
Теперь господа керенские хотят снова захватить власть в свои руки. Не выйдет, господин Алмазов, сейчас не те времена! Рабочие и бедняки крестьяне научились хорошо распознавать, кто их друзья, а кто враги. Большевики, Ленин предлагают установить во всей стране власть подлинно народную — власть Советов!
Под бурю аплодисментов, возгласов «ура» большевистский оратор сошел с трибуны.
— Кто это? — спросил я шепотом у делегата-горожанина, сидевшего рядом со мной.
— Куйбышев, большевик, — с гордостью ответил он.
Предложение Алмазова было поставлено на голосование и отвергнуто большинством голосов. В конце заседания съезд принял решение: установить по всей Симбирской губернии власть Советов.
Этот съезд навсегда связал мою судьбу с большевиками. Когда съезд закончил свою работу, я собрался ехать [57] в Сызрань, в свой запасный полк, в котором продолжал числиться.
Провожал меня односельчанин Яков Тингишов — моряк с Балтики, лучший мой товарищ.
— Что же ты, Иван, делать будешь в полку? — спросил он.
— Как что! — удивился я. — Прежде всего нужно оформить демобилизацию, а то я вроде дезертира. Стало быть, нужно документы получить, чтоб все было в порядке.
— А у кого ты документы получать будешь? — усмехнулся Яков.
— Как у кого? У Советской власти. Сам же за нее голосовал.
— Что верно, то верно. Власть теперь наша, народная, и никому ее у нас не отнять.
Свернув самокрутку и закурив, Яков продолжал:
— Но отнять пытаются. Контрреволюция подняла голову — меньшевики, эсеры и прочая нечисть. Слыхал, как на съезде меньшевик Алмазов защищал «учредилку»? Уж больно ему хотелось, чтобы власть снова попала в их руки. Таких алмазовых еще много в нашей стране. Не уступят они нам дешево то, что мы у них отняли, сопротивляться будут, проклятые. Выходит, без драчки нам не обойтись, а чтобы драться, нужна сила.
— Так надо создавать ее, — говорю я Якову.
— Да ты, Иван, настоящий большевик!
— Партийного билета в кармане не имею. А что большевик — то верно, — улыбнулся я. — Ты ведь тоже беспартийный, а голосовал за большевиков.
— Да, брат, это так, — сказал Яков, немного помолчав. — Недавно нас с тобой серой солдатской скотиной считали, а сейчас о больших государственных делах толкуем. Это большевики сделали нас такими.
— Ну, мне пора на станцию, — заторопился я, — а то опоздаю на поезд. Домой меня скоро не ждите, пойду в красногвардейский отряд.
На прощание мы крепко пожали друг другу руки.
На вокзал я добрался вовремя. С большим трудом втиснулся в вагон, забитый демобилизованными солдатами-фронтовиками. Было жарко и душно, от густого махорочного дыма кружилась голова. Во всех купе шел оживленный разговор. Одни говорили о «закончившейся войне [58] «, рассказывали о муках окопной жизни, другие на все лады обсуждали вопрос передачи земли крестьянам. То и дело в разговорах упоминалось имя Ленина.
На одной из железнодорожных станций я увидел эшелон вооруженных солдат, направлявшийся на восток. На мой вопрос, откуда и куда едут, один солдат ответил:
— Демобилизованные мы, едем по домам. Кому где нужно, там и сходит.
Он вынул из-за пазухи лист бумаги и, водя по ней своим заскорузлым пальцем, прочитал по слогам:
— «Съезд армии постановляет: признать за солдатами право на оружие для защиты Родины от контрреволюции и ее приспешников... Солдаты все должны принять участие в установлении Советской власти, а для этого нужно оружие. Провезти оружие можно, только двигаясь организованно, сильными отрядами...» Уяснил, что к чему? — спросил он, складывая лист бумаги и пряча его за пазуху. — Так что нам без оружия никак нельзя.
Он поспешил в вагон, а я долго смотрел вслед уходившему эшелону... [59]
В горниле гражданской войны
В нашем запасном полку, куда я вернулся в декабре 1917 года, тоже полным ходом шла демобилизация. Солдаты торопились уехать домой. Многие, не дожидаясь документов, уходили на станцию, втискивались в переполненные вагоны и теплушки или устраивались на крышах.
В одной из полковых казарм шла запись добровольцев в красногвардейские отряды.
Формированием красногвардейских отрядов ведали Сызранский Совет солдатских депутатов и уездный военный комиссар. По их распоряжению я сколотил два конных отряда. <...>
**************************
Ранее были выложены воспоминания о старой армии:
Г.К. Жукова - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
В.Л. Абрамова - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
С.М. Будённого - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
А.В. Горбатова - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
М.М. Громова - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
А.В. Белякова - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
С.А. Красовского - https://cont.ws/@mzarezin1307/...
А.М. Василевского - https://cont.ws/@mzarezin1307/... .


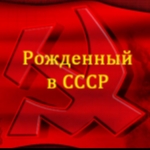




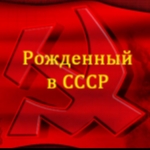
Оценили 10 человек
22 кармы