http://militera.lib.ru/memo/ru...
Верховский А. И. На трудном перевале. — М.: Воениздат, 1959. — 448 с. (Военные мемуары) / Примечания С. С. Хесина.
Глава 3-я.
Разгром в Галиции. 1915 год
<...>
После целого лета тяжелых отступлений 9-я армия к началу сентября 1915 года отошла к реке Серет, почти к самой границе России. Штаб армии находился уже в России, в маленьком украинском городке Дунаевцах. Командующий и генерал-квартирмейстерская часть, его ближайшие помощники по руководству операцией, поселились на окраине городка в небольшом помещичьем доме, окруженном тенистым, запущенным парком. В маленьком зале окнами в парк, где играли яркие осенние краски, работал оперативный отдел. Рядом жили братья Ракитины, руководившие разведкой, молодые, но очень солидные, важные, уверенные в себе. По другую сторону, в большом зале, находилась служба штаба — целая телеграфная контора. Два десятка аппаратов Юза день и ночь стучали, передавая распоряжения, сообщения, извещения, определяя судьбы каждого человека и каждой части в армии.
Штаб армии казался мощным, энергичным центром, который по телеграфным проводам призывал войска к действию.
3 сентября застало меня за расчетами деликатной операции. Армия отходила за реку Серет; в это же время нужно было вывести из боевых линий 30-й корпус и направить его по приказу фронтового командования на помощь [83] 8-й армии, положение которой было особенно трудным.
Да и вообще положение русских армий было в это время угрожающим. Австро-германцы все лето наносили полновесные удары, на которые русские войска не могли отвечать, так как не хватало снарядов. Были сданы Варшава и вся Польша. Утеряны крепости Новогеоргиевск, Брест, Ковно. В Галиции мы потеряли Львов и Перемышль. Русские войска отходили шаг за шагом, и вражеское вторжение грозило уже коренным русским землям. Генерал Иванов, раньше требовавший отстаивать каждую пядь земли, теперь предался отчаянной панике и готовился эвакуировать Киев.
Офицеры Генерального штаба и штаба 9-й армии загрустили. Полковник Суворов, обычно скромно сидевший в уголке оперативного отдела за своим столиком, рассеянно следил за тем, что я делал на большой карте, и ворчал:
— Целое лето непрерывных отступлений. Одна неудача за другой. В Киеве построено пять мостов для того, чтобы бежать через Днепр... Черт знает что такое!
— Хуже всего то, что мы сами в этом виноваты, — отвечал я ему. — Мы ведем себя, как больной на операционном столе. Немцы режут нас где хотят, а мы даже не шевелимся.
Суворов поднял голову.
— Что же мы можем сделать? — равнодушно и без надежды спросил он, устав от того, что после целого лета отступления все оперативные расчеты неизменно приводили к выводу, что сделать ничего нельзя.
— Как что? Очень много! Мы получили первые ящики снарядов, заготовленные военно-промышленными комитетами. В войсках заметен перелом настроений в связи с тем, что дело доходит до «ридных хатинок» на Украине. Мы можем воспользоваться этим, дать противнику встречный удар накоротке и остановить его наступление.
— Да, но вы забываете, — возразил подошедший Ракитин, — что противник готовит мощный удар на Тарнополь, на соседнюю 11-ю армию, что атака противника на наш 2-й корпус на Днестре развивается полным ходом и что наш последний резерв, пластунская бригада, введен в бой. [84]
— Именно поэтому я и предлагаю атаковать где-нибудь посредине, прорвать фронт неприятеля и вынудить его прекратить свои атаки. Иначе он нас действительно загонит за Днепр, — резко ответил я.
— Вы говорили об этом генерал-квартирмейстеру? — спросил Суворов.
— Конечно, говорил.
— И что же Головин?

Н.Н. Головин (о Головине - https://cont.ws/@mzarezin1307/... )
— Он считает, что командующий армией не согласится. Он не захочет рисковать.
— Ну, пусть Головин поговорит со штабом фронта. Оттуда могли бы дать соответствующую директиву.
Я махнул рукой:
— Из этого ничего не выйдет. Головин не хочет получить отказ. В этом человеке гордыни больше всего.
Суворов задумался:
— Ну, а что, если переговорить по линии «нижнего этажа»?
Нижним этажом в штабе называли установившуюся в ходе операции связь между офицерами Генерального штаба в штабах армий, корпусов и дивизий.
В штабе фронта у меня были друзья — капитаны Рябцев и Тилли, в соседней армии — подполковник Баумгартен, в штабе 22-го корпуса — капитаны Дорман и Архипов, и так почти в каждом штабе. Этот слой молодежи был объединен общим желанием добиться победы России и общим негодованием против стариков, срывавших своим малодушием и военной безграмотностью всякую возможность победы. Иногда молодежи удавалось общим натиском на старшее командование добиться проведения той или другой меры, отвечавшей их взглядам на ведение войны.
В данном случае нужно было добиться быстрого перехода в наступление, чтобы сдержать натиск противника. Вначале требовалось путем разведки выяснить, где же именно выгоднее всего нанести такой удар. Приказ об этом удалось получить, и 6 сентября 11-й корпус, стоявший на самом выгодном направлении, бросил в разведку две сотни казачьего полка во главе с сотником Ягодкиным, лихим рубакой и забубённой головой. Так началась операция на Стрыпе 6–12 сентября 1915 года.
Выкинув вперед дозоры, Ягодкин переправился через реку Серет и двинулся на запад. Его встретили выстрелами. [85] Он не смутился, развернул свои сотни лавой и стремительной атакой прорвался на десять километров в глубину. Донесение об этом произвело в штабе армии целую сенсацию. Братья Ракитины с телеграммой в руках прибежали в оперативный отдел. Разведка сотника Ягодкина со всей очевидностью показала, что противник для своих ударов у Тарнополя и на Днестре собрал силы за счет того, что растянул в тонкую нитку фронт перед остальными участками армии. Надо было этим воспользоваться и немедленно атаковать. Там, где две сотни сделали прорыв на десять километров, наступление корпуса могло привести к разгрому неприятеля. На шум спора в оперативном отделе подошел Суворов.
— Слушайте, молодежь, — обратился он к спорщикам, — в регламенте Петра Великого про вас сказано: «Если три прапора соберутся вкупе, то гнать их батожьем нещадно, ибо ничего путного не придумают, но в пустом словопрении время проведут».
— Оставьте шутки, Михаил Николаевич, — возразил я ему. — Посмотрите, что происходит, — и я вместе с братьями Ракитиными нарисовал Суворову сложившуюся обстановку.
Положение было «ясно, как кофе».
— Действительно, — согласился Суворов. — Надо немедленно доложить генералу Головину.
Генерал-квартирмейстером 9-й армии был тот самый генерал Головин, профессор военной академии, который пытался реформировать ее после русско-японской войны и поставить на рельсы современной стратегии и тактики. Съезд объединенного дворянства обвинил его в том, что он формирует из молодежи академии «младо-турецкую партию»; о нем донесли императору, и Головин был отправлен «в глушь, в Саратов» командовать драгунским полком. В начале войны император сменил гнев на милость. Головину дали в командование гвардейских гусар, с которыми он совершил несколько действительно славных подвигов. Позже этого молодого генерала назначили генерал-квартирмейстером к генералу Лечицкому, который в оперативных вопросах, как известно, не был силен. Но Головин был человек весьма себе на уме и вопросы своей карьеры ставил превыше всего. Поэтому, зная упорное нежелание Лечицкого рисковать переходом в наступление, он встретил мой доклад очень [86] холодно. Однако мои доводы были столь убедительны, возможность нанести противнику поражение и вынудить его прекратить атаки на Днестре столь веские, что он скрепя сердце пошел говорить с Лечицким.

П. А. Лечицкий
Немного спустя Головин вернулся. Офицеры, находившиеся в оперативном отделе, поднялись, ожидая решения командующего. Но Головин заговорил о другом, давая Ракитину-старшему указания по разведке на следующий день. Он явно избегал даже смотреть на меня. Я переглянулся с Суворовым. «Неужели он не говорил с Лечицким? — подумал я. — Если так, то пусть он это скажет». Так оставлять дело было невозможно.
— Николай Николаевич, — спросил я, — какое решение принял командующий?
Головин с недовольным видом повернулся ко мне.
— Генерал Лечицкий считает наступление несвоевременным.
— Но ведь тогда противник нас не сегодня-завтра разгромит окончательно на Днестре и снова погонит назад. Выделив 30-й корпус, мы не сможем оказать ему никакого сопротивления. Мы не смеем оставаться пассивными, когда обстановка так благоприятствует переходу в наступление 11-м корпусом.
— Что же делать? — холодно возразил Головин. Он вообще держался дружески со своими подчиненными, но сейчас я наступил на больное место, заставляя его идти на столкновение с командующим. — Ведь армией командует генерал Лечицкий, а не вы.
Такой довод я принять не мог и горячо возразил:
— Но ведь разбито будет войско не генерала Лечицкого, а русское войско, и неприятель ворвется на нашу родную землю. Мы не смеем теперь молчать. Мы должны добиться того, чтобы готовящееся наступление было сорвано.
В разговор вмешался Суворов.
— Быть может, если командующий не хочет брать на себя ответственность за наступление, то он разрешит 11-му корпусу выполнить эту атаку по собственному почину? Нужно предложить ему такое решение.
Предложение Суворова было оригинально и действительно давало выход из глупого положения. Однако оно не понравилось Головину. [87]
— Я боюсь, что все наши разговоры окажутся бесполезными.
Я, однако, не мог равнодушно отнестись к делу, от которого, по моему мнению, зависела судьба осенней кампании в Галиции, и, обращаясь к Головину, который всегда был для меня большим авторитетом, сказал:
— Николай Николаевич, если в этом случае личные соображения вы поставите выше интересов успеха операции, история вам не простит.
В обычное время Головин, конечно, не позволил бы своему подчиненному разговаривать с ним подобным образом. Но он прекрасно понимал, что я говорю дело; если в случае чего все это всплывет, ему будет нанесен большой ущерб. Головин промолчал и снова направился к командующему.
Пробыл он у него около часу. Видя, что дело идет туго, молодежь настояла на том, чтобы на помощь Головину пошел Суворов, которому Лечицкий доверял. Суворов пошел, и долго еще из-за запертой двери слышались голоса споривших. Молодежь не спешила принять участие в этой дискуссии; она знала, что в разговоре с Лечицким такое нарушение воинской субординации могло бы лишь повредить делу. Наконец Суворов вышел, потирая руки, очень довольный.
— Ну, Александр Иванович, — обратился он ко мне, — все в порядке, ваша мысль одобрена. Командующий, — Суворов никогда иначе не говорил о Лечицком, подчеркивая этим свое уважение к старику, — разрешил Головину переговорить с начальником штаба 11-го корпуса и намекнуть ему, что он ничего не имеет против того, чтобы 11-й корпус перешел в наступление по собственному почину.
Я тут же побежал в аппаратную, чтобы предварительно переговорить с оператором 11-го корпуса капитаном Полковниковым и сообщить ему необходимые аргументы, с помощью которых можно убедить его командование.
Для осуществления указаний командующего Головин избрал самый длинный и осторожный путь. Он вызвал к аппарату не командира корпуса и даже не его начальника штаба генерала Май-Маевского, впоследствии одного из деятелей белой армии, а того же самого капитана Полковникова. Очень осторожно он намекнул [88] ему, в чем дело. Но генерала Май-Маевского таким способом нельзя было сдвинуть с места. Выслушав доклад своего подчиненного, он немедленно вызвал к аппарату Головина и потребовал точных указаний. Лишь тогда Лечицкий разрешил передать, что наступление корпуса должно быть частичное, с задачей сковать противника и не позволять ему перебрасывать силы с фронта корпуса, не больше. Этого было достаточно. Люди властны остаться в стороне от событий или принять в них участие. Но если они решили действовать, то события разворачиваются уже по своей внутренней закономерности, не считаясь с предварительными соображениями людей.
На рассвете 7 сентября в туманной дымке, поднимавшейся из низин, длинные цепи пехоты пошли вперед, имея позади артиллерию, готовую поддержать их при первой надобности. По дорогам позади пехоты шли бронеавтомобили. Утренняя свежесть бодрила, ожидание встречи с противником рождало тревожное возбуждение.
После короткого сопротивления австрийский фронт оказался прорванным на участке в десять километров. Было захвачено четыре орудия и около двух тысяч пленных. Это было хорошо, но нужно было продолжать... Я вызвал к аппарату оператора 22-го корпуса капитана Дормана, изложил ему все, что происходило, и просил доложить своему командованию о необходимости в порядке частной инициативы присоединиться к атаке 11-го корпуса. Дорман, молодой талантливый офицер, имевший большое влияние на своего командира корпуса старика барона Бринкена, выполнил эту миссию как нельзя лучше.
Наступление 22-го корпуса было назначено на 8 сентября.
Примерно такая же сцена разыгралась и в другом корпусе, соседнем с 11-м.
8 сентября фронт трех корпусов атаковал врага. Было взято уже до 115 тысяч пленных, 30 орудий; войска продвинулись в расположение противника на 15 километров, а конная разведка проникла в глубину на целый переход и дошла до реки Стрыпа. Противник начал переброску резервов из-за Днестра и от Тернополя. Тактический успех перерастал в оперативный. Все, что могло быть сделано по инициативе штабных работников, было [89] сделано. Настало время самим старшим начальникам взять дело в свои руки. Но тут-то и начались «художества».
Утром девятого из штаба соседней 11-й армии мне сообщили, что по приказу начальника штаба армии 22-й корпус прекратил атаки и отошел в исходное положение. Начались переговоры с оператором 11-й армии Баумгартеном, и под его нажимом на свое командование 22-му корпусу приказано было возобновить атаки. Эта беда миновала, пришла другая. Пехота 11-го корпуса, так успешно наступавшая и захватившая высоту 382 на восточном берегу Стрыпы, вдруг остановилась и не могла продвинуться дальше.
Головин был одним из немногих в то время начальников, понимавших, что между армейским штабом и передовой линией войск должна поддерживаться прямая и тесная связь путем посылки офицеров Генерального штаба. Чтобы выяснить причины остановки наступления, которое теперь захватило и его, он послал меня. Молодежь очень любила такие задания, позволявшие вырваться из обстановки штабной писанины и своими глазами увидеть то, что делалось на поле сражения.
На этот раз мой путь лежал через расположение 11-го и 33-го корпусов. Быстро мелькали по сторонам голые осенние поля; деревеньки поражали своей бедностью; а рядом с ними стояли роскошные, величественные дворцы помещиков.
Грохот артиллерийской стрельбы, доносившийся сначала глухо, постепенно нарастал. К нему примешивался треск ружейной перестрелки и дробный стук пулеметов. По мере того как автомобиль, срезая повороты шоссе, приближался к полю битвы, мрачная симфония боя становилась все более ясной, и казалось, что этот чертов кипящий котел откроется за следующей грядой холмов. Но до поля боя было еще далеко.
У шоссе стояло несколько автомобилей. Я остановился. Оказалось, что это командный пункт 33-го корпуса. Он находился в двенадцати километрах от боевой линии, и с него ничего не было видно. Командир и его начальник штаба корпуса были в том возрасте, когда человек за долгую службу мирного времени в штабах утрачивает волю к деятельности, военные знания и навыки. Бумага заслоняла им боевую действительность. Мне были предъявлены [90] все необходимые приказы и распоряжения, Все было в порядке, все бумажки занумерованы, расписки получены, на каждый вопрос был ответ, строго согласованный с действующими уставами и законоположениями. Одного только вопроса они сами себе не ставили и не могли ответить на него и мне: почему остановилось наступление? Они этим не интересовались. Их занимало другое: сохранить свою особу от ненужного утомления и опасностей войны. Их командный пункт был оборудован по всем правилам инженерного искусства. Толстейшие бревна защищали их высокопревосходительства от огня противника, если бы последний каким-либо чудом мог забросить снаряд в такую безопасную даль.
В штабе корпуса делать было нечего, и я поехал в штаб дивизии. Дивизией командовал генерал Гнида, милый и добрый старик, по странной случайности продолжавший командовать дивизией, вместо того чтобы отдыхать где-нибудь на теплой лежанке. Он еле ходил, не мог сесть на коня, но о себе не заботился и мужественно держался под огнем противника. Но, увы, он ничего не понимал в военном деле и не давал распоряжаться своему энергичному начальнику штаба полковнику Токаревскому. И здесь я не услышал удовлетворительного ответа на поставленный Лечицким вопрос и поехал вперед, на командный пункт артиллерийского дивизиона. Отсюда открывалось поле боя, и можно было ясно видеть, что происходило. В десяти километрах к западу от командного пункта видны были позиции австрийцев — рощи и деревеньки, наскоро укрепленные ими. В 1000–1500 шагах от австрийцев лежали русские цепи. Время от времени из-за высот западного берега Стрыпы слышались орудийные выстрелы, и над цепями вспыхивали розоватые облачка австрийских шрапнелей, напоминая бойцам, что в случае попытки подняться их ждет ураганный огонь неприятельской артиллерии. Тут и там блестели вспышки пулеметного огня, показывая, что и пулеметчики противника не дремлют. Русская же артиллерия, на обязанности которой лежало подавление огня неприятельских батарей и пулеметов, молчала. Лишь далеко впереди одиноко гремели выстрелы какой-то сумасбродной батареи, выдвинувшейся вперед со своей пехотой.
На командном пункте тяжелого дивизиона было тихо [91] и мирно. Командовал им мой старый знакомый полковник Макалинский, в просторечье Макала — «мужик богатый», как он любил себя называть, потому что с небольшого именьица в Московской губернии он имел добавочный доход к своему содержанию офицера и благодаря этому располагал «свободной» наличностью, охотно предоставляемой в трудные минуты в распоряжение своих нуждавшихся товарищей. Стрелять он не умел и не любил. У него был для этой роли его разведчик, лихой парень бомбардир Балденко.
— Балденко, не балдей, — шутил он в трудные минуты, — что ты наблюдаешь?
— Перелеты, ваше высокоблагородие.
И сям Макалинский не сомневался, что было именно так: глаз у Балденки был, как телескоп. Макалинский уменьшал прицел. А в общем он был приятнейший человек. Хороший хозяин и хороший начальник, прекрасно относившийся к своим подчиненным. Что он не умел стрелять, это все знали и ему в вину не ставили.
На командном пункте моим глазам представилась трогательная картина мирного жития непосредственно на поле сражения. Офицеры собрались и закусывали чем бог послал. Адъютант дивизиона поручик Редечкин с увлечением рассказывал о том, как он спасся от смерти только потому, что вовремя ушел с того места, на которое упала граната противника.
— Представьте себе, господа, — говорил он, — лежу я и чувствую, что надо мне уйти и доложить что-то командиру дивизиона. А о чем говорить, не могу вспомнить. Все-таки встал и пошел, думаю, по дороге вспомню. Только сделал десять шагов, а граната как грохнет в то самое место, где я только что лежал. Меня отбросило в сторону и крепко стукнуло. Ну, думаю, конец. Однако поднялся — ничего. Смотрю, шинель разорвана. Осколок застрял в полевой сумке. Вот и говорите, что не надо верить предчувствиям.
Я, однако, приехал не для того, чтобы слушать пусть даже и интересные анекдоты. Меня интересовало, почему артиллерия не поддерживает атаку пехоты и стоит в десяти верстах от противника.
— Почему вы не переедете ближе? — спросил я, вспоминая полковника Комарова, который с конвоем, наверно, передвинул бы артиллерию вслед за своим полком. [92]
— Александр Иванович, дорогой, — всполошился Макалинский. — Да мы с нашим удовольствием. Но ведь нет приказа на переезд, и вся артиллерия корпуса стоит так же, как и мы, без дела. Может, вы чем-нибудь поможете, ведь пехота без нас шагу сделать там впереди не может.
— А вы пробовали напомнить о себе? — спросил я.
— Как не пробовали! Я лично звонил начальнику артиллерии корпуса, а он сел на воздушный шар и улетел в небо. Видите, вон он качается наверху.
Действительно, вдалеке виднелся воздушный шар.
— Сколько у вас снарядов? — спросил я.
— Полный комплект, ночью пополнили.
— Когда можно будет возобновить наступление?
— Когда наступать... — протянул он. — Да вот... когда вся корпусная артиллерия перейдет вперед. А пока 130 орудий стоят неизвестно зачем в десяти верстах в тылу.
Причина неудавшегося наступления лежала вовсе не в невозможности наступать, а в том, что местное командование не умело использовать имевшиеся в его распоряжении силы. Я невольно задумался о том, как бы просто был решен вопрос, если бы не маленький офицер Генерального штаба, а сам командующий побывал на поле боя и, выяснив все, дал бы на месте необходимые указания. Добравшись до штаба корпуса, я сделал по Юзу предварительный краткий доклад о том, что видел, и только было собрался ехать в Дунаевцы, как нарастающий грохот артиллерийской перестрелки привлек мое внимание.
Создавалось впечатление, что противник готовится атаковать высоту 382, занятую Рыльским полком. Опасаясь, что там происходит что-то неладное, я решил заехать на участок Рыльского полка.
По мере того как автомобиль мчался к месту нового очага боя, артиллерийская канонада разгоралась все сильнее и сильнее. По дороге нам стали попадаться солдаты, отходившие на восток. Около одной из групп я остановил машину и спросил проходивших солдат, неужели они оставили высоту 382. Высокий солдат, находившийся ближе других ко мне, поднял на меня глаза. «Это кто оставил высоту, рыльцы что ли? Рыльцы не отступят!» [93] Он отвернул полу надетой внакидку шинели и показал забинтованную грудь.
На командном пункте полка я застал начальника штаба корпуса генерала Май-Маевского, жестоко спорившего с командиром 9-й кавалерийской дивизии генералом князем Бегильдеевым, опередившим свою дивизию, подходившую к полю боя. День клонился к вечеру. Солнце спускалось к горизонту, из-за которого гремели немецкие пушки, и было ясно видно наступление пехоты, каски которой временами мелькали на фоне закатного неба. Рыльский полк в двухдневном бою понес тяжелые потери, и положение его было трудным.
Между тем подход конного корпуса задерживался. Генерал Раух, верный своим обычаям, послал вперед одну дивизию, а от этой 9-й дивизии выделил всего один полк — каргопольских гусар.
Суровый, но твердый старик, каким был генерал Май-Маевский, видел один только выход из положения. Он говорил Бегильдееву:
— Вы должны с наличными силами атаковать противника в конном строю и отбросить в исходное положение. Это задержит его до утра, а на рассвете подойдет генерал Раух со своими дивизиями.
Бегильдеев возражал со всей страстностью:
— Вы шутите, ваше превосходительство. Разве вы не видите, что наступает темнота, что все поле изрыто окопами и опутано проволочными заграждениями. Здесь не только коннице, но и пехоте атаковать невозможно.
— Я вижу только одно, — спокойно, но настойчиво возражал Май-Маевский, толстый, стоявший на своих коротких, как тумбы, ногах, — что мы все служим нашему императору — и пехота и конница. И если пехота может сидеть и погибать в окопах, то и конница, спасая пехоту, может сделать невозможное. Я вас предупреждаю, что в случае отказа я немедленно телеграфирую, что вы струсили и отказались атаковать, как на Днестре.
Насквозь пропитанный предрассудками своей касты и подхлестнутый напоминанием о конфузе на Днестре, Бегильдеев насупился:
— Нет, ваше превосходительство, конница не трусит. У каргопольских гусар выбило за войну народу не меньше, чем в любом пехотном полку.
— Если так, то вы имеете случай показать, что говорите [94] не пустые слова, — твердо произнес Май-Маевский. — Вы должны отбросить германскую атаку.
Не говоря больше ни слова, Бегильдеев повернулся, сел на коня и, с места подняв его в галоп, скрылся из виду. Несмотря на свои пятьдесят пять лет, он сохранил ту молодость и гибкость движений, которая присуща кавалеристам.
Бегильдеев подскакал к квартиро-биваку каргопольских гусар. У них был полковой праздник, и, несмотря на походную обстановку, полк раздобыл вина; все — от командира до молодого гусара, забыв об окружающем, о том, что их ждет впереди, проводили минуту досуга за чаркой вина и веселой песней. Бегильдеев сошел с коня и замолкшему с его появлением собранию коротко приказал:
— Кончить праздник. Государь и родина требуют от вас подвига. Немцы окружают Рыльский полк на высоте 382. Ваш полк пойдет в атаку, опрокинет немцев и спасет рыльцев.
Офицеры были навеселе. Гусары тоже. Они пели песни о былой славе полка, о смелых атаках, о захваченных у врага орудиях и пленных. Приказ атаковать был встречен восторженно. Но Бегильдеев готовил полк к смерти. Он хотел, чтобы осталось ядро славного полка, вокруг которого можно было бы воссоздать часть в случае ее гибели, и приказал:
— Выделить от каждого эскадрона по одному офицеру и по десять гусар. Полк должен жить. Господа офицеры, проститесь друг с другом, но... без победы не возвращаться.
Все было сделано, как приказал Бегильдеев. Офицеры и гусары простились друг с другом. Командир полка подал команду «По коням», и через несколько минут полк двинулся за своим командиром. Почти в полной темноте он вышел в исходное положение, развернулся и на рысях пошел в атаку через поле, только что оставленное бежавшей пехотой.
Немцы заметили угрозу слишком поздно. Всадники выросли перед ними как из-под земли. Зажглись прожекторы. Взвились ракеты. Каргопольцы под бешеным ружейным и пулеметным огнем противника перешли на галоп и понеслись вперед. Кони и люди проваливались в ямы, опрокидывались на проволочных заграждениях, [95] но остальные продолжали нестись вперед, и тени, отбрасываемые длинными лучами прожектора, мчались за всадниками, как привидения.
Немцы заколебались, затем колебание переросло в панику, которую уже ничто не могло остановить. Противник был смят ураганом атаки, а каргопольцы, к удивлению, потеряли только 45 человек и 120 лошадей. Положение было восстановлено: Рыльский полк удержался на позициях. Но когда полк собрался, на гусарах и офицерах не было лица. Хмель прошел в атаке, и пережитый ужас на много дней вывел полк из строя.
Я вернулся в штаб, чтобы доложить командующему, что я видел, и предложить меры для продолжения наступления. Но в штабе я узнал, что соседняя армия снова не только приостановила наступление, но и оттянула свои корпуса назад. Баумгартен извещал, что он ничего не мог сделать. Значит, на следующий день на помощь его армии рассчитывать не приходилось.
То же происходило и в штабе 9-й армии. Лечицкий уже два раза хотел приостановить наступление, и оба раза его удерживали Головин и Суворов. Именно теперь, когда обозначился первый успех, можно и нужно было добиваться решающих результатов, которые заставили бы противника оттянуть резервы от 8-й армии Брусилова, все еще имевшей перед собой почти двойное превосходство сил противника и продолжавшей отступать.
Лечицкий маленькими нервными шагами ходил по оперативному отделу и ворчал: «Дикие мы люди!.. Неумные люди!.. Из лесу вышли! Когда мы научимся воевать?» Командующий пока не произнес своего решения, но чувствовалось, что еще минута, и он так же, как и его сосед Щербачев, отдаст приказ об отходе.
— Николай Николаевич, — обратился я к своему генерал-квартирмейстеру, — не сочтете ли вы возможным переговорить со штабом фронта и просить его вмешаться в ход операции, ведь она давно переросла рамки армейской. Войска совершают легендарные подвиги, но так как высшие штабы не руководят этими войсками, не хотят видеть того, что делается вокруг, все усилия пропадают зря.
Головин холодно посмотрел на своего не в меру горячего [96] подчиненного и возразил вежливо, как всегда:
— Я не могу вмешиваться не в свое дело. Главнокомандующий справедливо скажет, что я ему навязываю свое мнение.
Видя, что в обычном порядке ничего сделать нельзя, я решил прибегнуть к испытанному средству и лично переговорить со штабом фронта. Я вызвал к аппарату капитана Рябцева.
«Хочу побеседовать с вами, дорогой Константин Иванович, на тему, которая волнует меня и вас, конечно, одинаково, — передавал я ему. — Я говорю без ведома моего начальства, но молчать в такую минуту невозможно. Вы, конечно, следили за тем, что у нас делается. Противник, который нас атаковал, опрокинут и отступил на целый переход, оставив в наших руках 70 тысяч пленных и 33 орудия. Но дальнейшее наступление задерживается из-за несогласованности действий между армиями. Теперь фронт должен взять на себя руководство дальнейшим развитием действий и нашим успехом помочь 8-й армии. Я знаю, что и старшие у нас держатся такого же мнения, но не хотят лично говорить с командованием фронта, боясь, что их одернут».
Я кончил и стал ожидать ответа Рябцева. Положение фронта оценивалось генералом Ивановым совсем по-другому. Успех 9-й и 11-й армий рассматривался как частный успех, и опасность по-прежнему висела над участком Брусилова.
«Позвольте, — снова застучал я, — ведь в бой у нас втянуто пять корпусов на фронте в 120 километров. Если его развивать дальше, успех перейдет в полный разгром австрийцев».
Рябцев согласился, обещал доложить об этом генерал-квартирмейстеру фронта и через два часа вызвал меня к аппарату.
«Сделать ничего не удалось, — равнодушно выбивала лента. — Главнокомандующий считает, что все происходящее у вас не может иметь серьезного значения, да и патронов маловато. Общей директивы на наступление он не даст».
Аппарат продолжал стучать, не выбивая букв. Видно, Рябцев хотел еще что-то сказать, но не решался или не мог подобрать слова. Но вдруг на ленте появились слова: [97]
«Сердцем и умом разделяю и сочувствую всему тому, что вы мне сказали... Если бы вы знали, какая здесь царит затхлая атмосфера, вы бы поняли весь ужас, охватывающий каждого нового человека. Вам известно первое лицо штаба (Рябцев имел в виду бывшего начальника штаба жандармов генерала Саввича). По-видимому, главным доводом является то, что начальство, как сказал генерал Иванов, не даст капитанам командовать фронтом».
В тот же вечер Лечицкий и Щербачев отдали приказ об отходе. Брусилов, ожидая прибытия подкреплений, тоже продолжал катиться на восток.
Через месяц же, когда противник пришел в себя, подбросил свежие силы и укрепился, главнокомандующий приказал сделать то, что так легко было сделать в сентябре. Но то, «что упущено в одно мгновенье, — как писал Шиллер, — целая вечность не может восстановить». Все атаки кончились полной неудачей, войска понесли тяжелые потери, и тот порыв, который поднял их в наступление в сентябре, перешел в жуткое озлобление.
Через несколько дней после окончания наступления генерал Лечицкий получил сообщение о том, что император взял на себя верховное командование, отправив Николая Николаевича командовать войсками Кавказского фронта. Начальником штаба главного командования был назначен генерал Алексеев{14}.
Новый верховный главнокомандующий пожелал лично познакомиться со своими войсками и прибыл в 11-ю армию; генерала Лечицкого пригласили присутствовать на смотре и представиться государю. Суровый старик после всего пережитого не хотел видеть своего императора. Он приказал доложить Николаю, что положение на фронте армии не позволяет ему отлучиться ни на час, хотя у нас царило то, что называют полным затишьем.
В это время повернулось и колесо моей судьбы. Я получил назначение в штаб 7-й армии. Это не радовало и не печалило меня. Правда, мне тяжело было оставлять друзей, с которыми я сжился в трудные дни операций в Галиции, но нравственно я так измучился нелепостью того, что мне пришлось видеть, что был рад какой угодно перемене. [98]
Товарищи тепло проводили меня. Братья Ракитины утешали:
— Ничего, Александр Иванович, ничто не помешает нам одержать победу над Германией и Австрией. Физические и моральные силы их будут истощены раньше, чем наши, и это приведет к страшному кризису, который мы используем как нужно.
Но Суворов качал головой:
— Дорогие друзья, я с горечью должен сказать, что ваши предположения — лишь прекрасная мечта. Вот послушайте, что пишут социал-демократы, — и он показал нам листовку Петроградского комитета большевиков, найденную в одной из рот 11-го корпуса. «Снова вас оторвали от ваших семей, — говорилось в этой листовке, — дали в руки ружье и послали защищать престол и отечество от врагов. Вам говорят, что враг — немцы. Они, дескать, напали на нашу страну и угрожают все поработить и разграбить. Но разве мы свободны? Разве над нами не свищет полицейская нагайка? Разве царские слуги не бросают нас в тюрьмы, когда мы боремся за лучшую долю для наших жен и детей? Братья рабочие, вы знаете, что это делает царь Николай со своими помещиками, полицейскими и казаками».
Суворов покачал головой и грустно сказал:
— Русский народ не забудет того позора и ужаса, который мы пережили в 1915 году. Мы идем прямой дорогой к революции. [99]



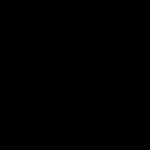



Оценили 12 человек
24 кармы