
http://militera.lib.ru/researc...
М. Н. Империалистская война. — М.: Соцэкгиз, 1934. — 449 с. — Тираж 12 000 экз.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Всем известна фраза Ленина в одном из его «Писем издалека», что русская буржуазия вела войну не на свои деньги,—что русский капитализм был участником (партнером) англо-французского. Как очень часто бывало с брошенными налету ленинскими характеристиками, весь глубочайший реализм этого определения стал нам понятен только теперь, после целого ряда длительных детальных изысканий. Изыскания эти с несомненностью установили, что русская крупная промышленность и русские банки накануне войны были форменными подданными заграничного капитала и что различные группы иностранных капиталистов вели между собой борьбу на русской территории задолго до того, как эти группы сплелись в смертельной схватке мировой войны. Победе в России антантовской ориентации точно соответствовало постепенное вытеснение из русского хозяйства германского капитала, господствовавшего или уверенным шагом шедшего к господству до 1910 г. Эту борьбу мы можем проследить до мельчайших деталей: до того, например, как один завод, изготовлявший различные принадлежности для миноносцев под эгидой крупнейшей англо-французской фирмы, моментально прекратил это занятие, как только его акции очутились в портфеле одного из берлинских банков. Банковые действия весьма аккуратно, хотя и бескровно, отвечали операционным линиям будущей войны.
В 1914 г. зависимость России именно от англо-французского, антантовского капитализма обозначилась уже вполне. Выбора больше не было. Характерно, до какой степени рабски российский империализм слушался своих «старших». Как всякому империализму, российскому в перспективе был нужен выход на океан—потому что, только владея океанскими путями, можно серьезно говорить о разделе мира. Всем известно, что англо-германское столкновение было прежде всего другого столкновением в области морских интересов и морских вооружений. Русский империализм перед 1914 г. ставил себе также «морские» цели. Но почему его привлекало такое узенькое море, как то, которое лежит между Черным и Средиземным и которое вело русский империализм, в конечном счете, даже не к океану, а только к одному из замкнутых морей, только в несколько
340
раз большему, чем наше Черное? Почему, рождался естественный вопрос, царская Россия не попробовала выйти на прямую океанскую дорогу через Мурман, который пришлось все же в конце концов использовать, но после уже того, как война за Дарданеллы началась? Теперь мы знаем, что это было вовсе не праздное мечтание досужих любителей географии—что в последнее десятилетие перед войной существовал определенный план использовать Мурманское побережье как базу для русского военного и торгового флота. Но проект этот никакого «дальнейшего движения» не получил, и Мурманскую дорогу построили, как известно, только во время войны. Совершенно ясно, почему так было: на Мурмане, т. е. на Атлантическом океане (так называемый Ледовитый океан есть, в сущности, лишь залив Атлантического), Россия могла столкнуться только с Англией, и англо-французскому империализму, который командовал империалистской Россией, это было совсем не нужно. А на Босфоре и в Дарданеллах. русские империалисты сталкивались с германскими и их грандиозным планом железной дороги от Берлина до Багдада. Поэтому «ключей от собственного дома» и надо было искать на берегах Золотого Рога, а не на берегах Варангер-фиорда. Остается только добавить, что «мурманский» проект принадлежал никому другому, как Витте, германофильство которого всем хорошо известно. И на этом участке мы имеем, таким образом, победу антантовского капитализма над германским.
Во время войны зависимость от Антанты превратилась в иго.
Английский посланник в Петербурге был вторым императором, и когда первый император его не послушался, второй принял меры к тому, чтобы его ссадить. И если этого не удалось осуществить, то только благодаря «совершенно непредвиденным событиям»—в образе выступления на сцену рабочего класса. А избавившись от императора, Антанта начала возводить и низводить министров. Дневники Бьюкенена и Палеолога не оставляют никакого сомнения в том, что Керенский был выбран и облюбован Антантой несравненно раньше, чем его «избрали» меньшевики и эсеры, в этом случае на нашей территории игравшие ту же роль, какую этого сорта люди играли и играют всюду по отношению ко всем империалистам. Менее известно,— а стоит об этом упомянуть,—что и Милюков был низведен так легко потому, что он не угодил Антанте, слишком надоедливо напоминая
341
о Дарданеллах, при каковом напоминании Англия всегда морщилась. Бестактного слугу не то что прогнали—прогнали его массы,—но его ие стали защищать, «отдали на жертву». А 4 месяца спустя, когда разочаровались и в Керенском, на его место выдвинули Корнилова— дневник Бьюкенена не оставляет никаких сомнений насчет того, кто именно это сделал. В это самое время американский капитализм, более склонный «к экономическому» давлению, чем к военным заговорам, взял эсеровскую верхушку прямо на жалованье, притом, что «собенно пикантно и любопытно, на частное жалованье, на личный кошт одного американского миллионера [В другой работе 1927 года ("Выход России из войны") Покровский называет Томсона. - М.З. ]. Дальше этого «услужение» уже не могло итти.
И надо было видеть переполох в этом лагере, когда массы, подлинные массы, а не статисты Керенского, стали у власти. Теперь перед нами налицо документальные остатки этого переполоха. Это вздор, будто большевики заключили тогда мир против решительного протеста вчерашних «союзников», напоминавших России о «чести», «совести:» и т. п., причем окаянные большевики, разумеется, не обратили на эти протесты никакого внимания. На самом деле рядом с этими официальными протестами шло неофициально шушуканье англичан, американцев и прочих антантовцев с низвергнутыми Октябрьской революцией мелкобуржуазными партиями—шушуканье, смысл которого вкратце можно выразить так:, что ж вы, дураки, вовремя не догадались мир-то заключить? Ведь теперь большевики этим козырем вас без остатка покроют! И вот начинается хождение спустя лето по малину. Английский посланник Бьюкенен, вчерашний некоронованный император, а теперь поднадзорный «нежелательный элемент» в Петрограде, телеграфирует своему министру, что было бы куда благоразумнее «освободить Россию от данного слова», раз она воевать не хочет. Не хочет—так не хочет, ничего с ней не поделаешь. А как силой загоняли русских солдат обратно в бой при Керенском, об этом позабыли! В том же роде начали шевелиться мысли и в тугом мозгу американского полпреда Френсиса. А на фронте в это время потерявшие власть керенщики, почесывая всей пятерней в затылке, придумывали, как бы это устроить, чтобы заключение мира досталось, в руки не Ленина, а... Чернова. И додумались наконец: вскоре по фронту гуляла глупейшая и подлейшая прокламация, с неслыханным бесстыдством утверждавшая, что главным препятствием к заключению мира являются именно большевики: их же ведь никто не признает,— кто с ними будет вести переговоры? А вот если поставить во главе государства правительство «из социалистических партий» с Виктором Михайловичем Черновым во главе—тогда совсем другая будет музыка. С этим почтенным человеком и с его почтенными коллегами всякий за честь почтет разговаривать, и мир, которого «страна ждет— не дождется три года» (как будто в счет этих трех лет керенщина с ее попытками удержать Россию в войне совсем и не входила!), будет заключен в два счета. А генерал Духонин, отказавшийся вести переговоры с немцами по приказу Совета народных комиссаров, в частных, беседах заявлял, что он миру вовсе не противник и не прочь вести переговоры с кем угодно,—но чтобы не от имени большевиков, конечно. Иностранные же военные представители, в первую минуту грозным окриком ответившие на приказ Совнаркома о переговорах, вдруг потом смягчились, стали говорить, что они, собственно, не против мира,—а против беспорядка, сиречь, опять-таки, против большевиков. А уж совсем по душе (но, однакоже, с помощью телеграфа) заявляли, что они и их правительства даже советуют поскорее заключить мир. Потом, конечно, когда выяснилось, что генерала Духонина и его помощников, на всем фронте слушаются только две роты ударников да три эскадрона польских улан и что главнокомандующий западного фронта сколько-нибудь безопасно себя чувствует
342
лишь в ставке польского генерала Довбор-Мусницкого,—телеграмма была объявлена подложной.
А тем временем в Смольный начали ходить «соблазнители». Люди без официального звания, имена которых официальные дипломаты старались даже не упоминать, они были неофициально связаны с самыми верхушками антантовской коалиции и сулили большевикам золотые горы, если большевики выпустят из рук тот козырь, которого никто покрыть не мог,—откажутся от заключения мира. Среди соблазнителей были люди всякого сорта: был и наивный французский оборонец Садуль, позже ставший коммунистом; был и до крайности сомнительный американский человек Робинс, совмещавший в себе самые разнообразные качества: шахтера, полковника и попа; был и форменный английский шпион Локкарт; был и французский монархист граф де Люберсак, «злыми глазами» смотревший на Ленина, но признававшийся, что заключить сейчас мир—самое умное дело. Со всей этой пестрой публикой разговаривали, надеясь выжать из нее то, что было дозарезу необходимо новорожденной рабочей республике для того, чтобы в будущем, близком будущем, повести отчаянную борьбу со всем буржуазным миром: локомотивы и аэропланы, снаряды и пулеметы, съестные припасы и военных техников. Некоторые из этих людей так и остались в убеждении, что кабы вот та-то телеграмма пришла неделей раньше, так наверное Россия вернулась бы в войну на стороне Антанты. А Ленин лукаво прищуривал глаз и готовил войну не против какого-нибудь одного империализма, а против империализма вообще.

Жак Садуль

Раймон Робинс

Брюс Локарт
Вся эта антантовская возня около заключения мира с Германией лишний раз нам напоминает, до чего важен и нужен был мир в эту минуту не большевикам, как об этом кричала подкупленная буржуазная пресса, а стране, всей стране, всей России. Реакция для России в этот момент выразилась бы в возвращении в войну: вот отчего, прежде всего другого, реакция была невозможна. В этом отношении Россия 1917—1918 гг. и Германия следующей зимы были в диаметрально противоположном положении. Германская буржуазия оказалась чуточку похитрее Керенского с компанией и заключила мир сама, не дожидаясь пока его придется заключить победоносному пролетарскому правительству. И это подсекало под корень германское революционное движение: революция не только не давала мира, а, наоборот, ставила под угрозу немедленной интервенции со стороны победившей Антанты. Интервенция была и у нас, но у нас, в разгаре последней схватки двух боровшихся империализмов, антантовского и германского, она не могла принять сколько-нибудь серьезных размеров. Армии Антанты были «заняты», а перед германской революцией стояла «освободившаяся» Антанта.
Но то обстоятельство, что пролетарская революция означала для России выход из войны, продолжало действовать и долго после того, как мир был заключен, в известном смысле продолжает действовать и до сих пор. Ибо в Брестском мире, это не все тогда уловили, был не столько важен мир с германцами, сколько разрыв с Антан-
343
той. Буржуазия вопила, что мир «похабный» и «презренный», а на самом деле мир выводил Россию из самого презренного состояния, какое можно себе представить в какой бы то ни было стране, когда иностранный посланник является в этой стране некоронованным императором. Игу Антанты над Россией был положен конец, и это ярче всего выразилось не в том даже, что мы заключили мир, сколько в том, что мы отказались платить всякие, военные и довоенные, долги. Мы перестали быть «участниками», партнерами какого бы то ни было капитализма и империализма, и в это рабское состояние нас никому уже не загнать. Если в 1917 г. «реакция» обозначала «войну», то теперь реакция обозначает дань в сотни миллионов, наложенную на рабочих и крестьян Советского союза. И недаром умные белогвардейцы давно заметили, что самой трудной стороной «реставрации» является именно вопрос о долгах. Если бы российский буржуа мог явиться домой с грамотой, которой все иностранные буржуа великодушно освобождали бы наследников покойной Российской империи от всех и всяческих долговых обязательств, заключенных этою последней! Но буржуа на то и буржуа, чтобы никому не прощать никогда и ни одной копейки долга. А пока «реакция» обозначает «дань», до тех пор никакой реакции, не облеченной в форму вооруженного нашествия извне, быть не может.
Таково было международное, условие, определившее, что наша революция, в отличие от всех своих предшественниц, будет революцией без реакции.
Журнал <<Коммунистическая революция>>, 1927 г., № 20.



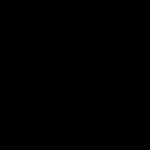




Оценили 14 человек
30 кармы