Но вернёмся к обрядовому отцеубийству претендента на княжескую власть. Новый князь, получивший власть и статус священного змея-охранителя в позднепотестарном и раннеполитическом обществе последних, разумеется, мог и не быть сыном или, скорее, сестричичем старого князя. Главное здесь – выигрыш в ритуальном поединке, суде богов, хотя, в сознании народа, после прохождения соответствующих обрядов он, возможно, всё же воспринимался именно как сын княгини, и не иначе. Стадиально более поздними были отношения между Индрой и его родителями в древнеиндийской традиции. Он не принимает магическую силу от матери с целью убийства престарелого лидера, своего отца, как у восточных славян, а, ужаснувшись мощи породившей его дакшины (лона), по всей видимости, убивает свою мать (1). В этом отвратительном ритуале, скорее всего, следует видеть борьбу за верховную власть между женщиной и мужчиной – главой мужского союза индоариев. В восточнославянской обществе, с его сильными матриархальными чертами, подобное, разумеется, было немыслимо. В описании же борьбы со Змеем у восточных славян мы можем найти и мифологическое осмысление компромисса между властителями. Иногда Змей предлагает герою неслыханные богатства. В печорской старине Добрыня избивает змею тремя металлическими прутами. В результате же она выблевала сперва ему золоту казну, / Она выблевала затим да коня доброго, / Ищэ выблевала ему да красну девицу. «Опоясывание» царства тождественно его поглощению, перемещению в иной мир, поэтому перед нами – просто одаривание победителя прежним лидером (княгиней-воительницей, учитывая её косы!) за компромисс. В архангельской старине из сборника А.Д. Григорьева дала ему аналог себя – добра комоня (иной аналог Велеса), а также цветно платье, которое не износится, и красну девицу, которая вовек не состарится. В последних двух случаях Змей выступает как хозяин Нижнего Мира как мира неиссякаемого богатства и локуса, где находятся души умерших. Он же даёт девушку, которая на поверку оказывается сестрой князя Владимира, т.е. из рода божественных правителей. В другом печорском тексте герой не идёт на соглашение, хотя змея, как предшественник покровителя княжеской власти Велеса, говорит ему: Ты прости меня, Добрынюшка, / Я и дам тебе города, / Города все с пригородками, / И села со деревнями! Подобное объяснение старин в корне противоречит обыденным представлениям человека Нового времени. Однако история и на Востоке, и даже на Западе, по крайней мере, до Геродота, воспринималась в мифологическом ключе. Те события, которые сейчас понимаются как борьба народов, в архаическом сознании преломлялись как действия богов или полубогов (2). Таким образом, в нашей трактовке этих эпических текстов для изучаемой эпохи нет ничего необычного.
Борьба же змееборца за женщину фактически оказывается «с двойным дном». Дело в том, что принесение жертвы Змею – явление, широко известное в фольклоре. В одной из русских сибирских сказок данный обычай и его изживание даже объяснены. «Водились змеи трёхголовые, шестиглавые, двенадцатиглавые. И вот им оброк давали, – сообщает источник. – Если что-то не ладится в государстве, то жертву приносили. Жертву приносить жребий тащили». Вызвавшемуся же спасти её от змея царевна говорит: «Этого не бывало, не слыхано». Перед нами – ценнейшее свидетельство, ибо так ясно об этом сказки обычно не говорят. Но съедение и вступление в брак у восточных славян сближались, что, кстати сказать, имеет параллели в ряде иных традиций (3). Таким образом, перед нами – особый вид кормления, что было обычно для архаического сознания восточных славян (4). Существовало, в частности, представление и о кормлении Земли (5). Это кормление Змея, которым князь становился в ритуале, как живого бога. Такое действие, видимо, поддерживало его магическую мощь. Таким образом, спасение девицы, схваченной Змеем, первоначально, по всей видимости, имело значение только как «изменения адресата», которому приносилась жертва. Последняя же фактически тождественна невесте из рода правителей, женитьба на которой, в соответствие с древними законами материнского рода, делало власть лидера легитимной. Поэтому в одной из русских сибирских сказок змей, требовавший в день по человеку за воду, после съедения царской дочери перестаёт требовать людей в обмен на животворную влагу (6). Разумеется, сказочник уже не понимал исконного смысла поведения змея. Сохранилась лишь идея, согласно которой именно съедение дочери лидера прекращает враждебность чудовищного «владыки вод». Данное объяснение вовсе не исключает трактовку змееборства Добрыни и близких ему сказочных героев как борьбу шамана-воина, подобного, в определённой степени, и Болат-Хамицу, с владыкой смерти за душу девушки, ибо брак равен не только съедению, но и смерти. Подобный вывод кажется неправдоподобным, но существует южносибирский былинный текст, согласно которому похищенная княгиня сама выступает инициатором священного брака со Змеем, подобного браку матери Волха, брака-похищения, тождественного похищению владыкой смерти, от которого её и «спасает» потом Добрыня: И ходила княгиня в зеленом саду, / И ступала княгиня с камня на камень. / Со бела камня ступала на люта змее.. / Вкруг ног её змеишшо обвивается, / Садит её на могучи плеча /И унёс её в пещеры свои глубокие… (7) Разумеется, позднее певцы, для которых девушка могла восприниматься лишь как страдательная сторона, постарались избавиться от такой шокирующей детали.
Известны, однако, и другие варианты осмысления данного явления. Так, иногда змееборство воспринимается и как бой с чудовищной хозяйкой лавы – змеёй, которая, проиграв, готова стать женой Добрыни, как бы предлагая саму себя как своего рода «возмещение», подобно тому, как фактически предложил самого себя Святополку убийца его отца Владимир Святославич, о чём писал Н.И. Милютенко: По-худому змея да извиваетца, / А конается удалому доброму молодцу: «Ты не бей же меня, да змею лютую, / Я те дам ище собя, да красную девицу!» Так как сюжет о змее, предлагающей себя в жёны, известен на Печоре, то ничего удивительного в этом нет. Об этом резонно писали комментаторы данного текста в новейшем полном собрании былин. Тот же, по сути дела, мотив мы видим и в белорусской волочебной песне, когда исполнители данного обряда предлагают человеку, если он не хочет дарить, идти вместе с ними (8). То, что змея, а фактически – «змея в ритуале», княгиня-жрица, предлагает и себя, и какую-то «красную девицу», тоже неудивительно. Восточнославянское общество во времена борьбы матриархата и патриархата вовсе не было строго моногамным.
На первый взгляд, обрисованная выше схема, объясняющая змееборство периодической сменой князей, носит весьма абстрактный характер и не может быть датирована даже приблизительно. Но это не так. Пожалуй, легче всего датируются те былины, где волшебным оружием выступают три металлических прута – железный, медный и оловянный: Изломал ле он нынь, право, железной прут, / Он хватил ищэ, право, да меной прут, / Ён пуще стал стегать да змею лютую… / Изломался у его да, право, меной прут, / Он хватил ище нынь, право, оловянной прут, / Ён пуще стал стегать да змею лютую… / Он ведь пуще стал змею ище постегивать, / Оловянной прут у него не ломитце… Но железо прочнее олова, на что обратил внимание ещё Д.М. Балашов. Продолжая его мысль, следует сказать, что перед нами восприятие железа как материала нового, ещё мало опробованного, материала, которому ещё не совсем доверяли. Следовательно, перед нами сюжет, восходящий к тем временам, когда оно только появлялось в обиходе, т.е. самое начало железного века. В одной из русских сибирских сказок броня играет решающую роль в поединке со змеем (9), что датируется более ранним временем начала использования металла, что произвело большое впечатление на древних индоевропейцев. В стадиально несколько более поздней онежской былине Добрыня бьёт змею уже булатной палицей. В русской же сибирской сказке герои отстреливают головы змею выкованными стрелами (10). Наконец, иногда и сам Змей Горыныч «присваивает» себе атрибуты, датируемые железным веком (железные хоботы) (11).
Однако, сам миф, описывающий змееборство, а может быть, и соответствующая ритуальная практика появились гораздо раньше, в местности, где имела место вулканическая деятельность. Далёким отзвуком чрезвычайно древних реалий, реалий каменного века, по нашему мнению, является и тот былинный текст, в котором Добрыня убивает чудовище шапкой, наполненной камнями (12) или сер-горючим камнем (13) (каменным углем?), а может быть, и песком (14).
Таким образом, его образ не менее древний, чем образ бога грозы индоевропейцев. Сам же Змей, по сути дела, одушевлённая и обожествлённая древними индоевропейцами вулканическая лава. Так, огонь, судя по одной обмолвке в сербском фольклоре, – живое существо (како ватра жива). Огненной змея называется и в кулойской былине о Добрыне. «Вдруг трёхглавый змей летит, вся земля горит», – читаем в одной из русских сказок Сибири. Царевна же так описывает явление чудовища: «Меня за двести метров огнём жгло, нет мочи сидеть, когда они дрались» (15). Но его можно победить тем же огнём. «Стал он сухостой рубить, – читаем в другом сказочном тексте. – Разжёг костёр. Смотрит, дракон из пештеры и ползёт. Схватил Иван долгу головню, стал в хайло ему складывать одну за другой. Тот так и помер. Ослобонил, паря, царевну» (16).
У нас есть печорский текст из Усть-Цильмы, который показывает нам едва ли не изначальный облик змееборца. Змея здесь – хозяйка и воды, и огня. Хочу я тебя, молодца, теперь в воде стоплю, / Хочу тебя в огне сожгу, / Хочу тебя в смоле сварю! – говорит она Добрыне. Однако, чуть ниже мы видим совершенно удивительные, на первый взгляд, факты: Ухватил Добрыня копьецо бурзамецкое, / Начали они тут ратитьсе. / От руки его копьецо загоралосе, / По насадочке извихалосе. / Бросил его Добрыня на мать сыру землю, / Схватил он тогда сабельку вострую, / Он начал рубить змею той саблей вострою. / От руки его сабля загораласе, / По насадочке извихаласе, / И с носка до пяты вся исщербаласе. / Бросал её Добрыня на матушку сыру землю, / Схватилсе он со змеюшкой в рукопашной бой. Когда же герой обессилел, стала змеюшка посвистывать. / Пала в ум Добрыне плёточка шелковая, / Что давала родна матушка (17). Свист змеи как её волшебное оружие также следует отметить. Но более своего удивительно, почему Добрыня не смог победить змею человеческим оружием и вынужден был идти врукопашную. Оружие в руках Добрыни именно «изгорается», а не просто ломается.
И здесь мы предпочитаем «поверить источнику». Оружие может сгореть или хотя бы загореться только в том случае, если соприкасается с неким источником огня или высокой температуры. Но в таком случае Добрыня – не обычный человек, а некое существо огненной природы. Отсюда получает объяснение и ещё один парадокс, на который указывал В.П. Аникин. Дело в том, что огненная река в былинах с данным сюжетом практически никогда не жжёт героя. По мнению исследователя, это «тематическая частность более ёмкого образа опасной реки, в которой никто не смеет купаться из-за того, что в воду залегло чудовище». Разумеется, змей, в любом случае, воспринимался как хозяин воды. Порой он, к примеру, плавает в синем море. Но змей – и «хозяин огненной воды» (лавы), впрочем, как и лютый зверь крокодил в средневековой русской книжности, о котором писал А.Н. Веселовский. Так и следует понимать, по нашему мнению, образ огненной реки и в русских заговорах, не сводя его просто к концепту воды, как это делает, к примеру, С.Г. Шиндин. Качества змеи как хозяйки воды и огня не противоречат друг другу, что показывает, в частности, следующая беломорская былина, в которой она говорит Добрыне: Уж ты хоцёшь ли, Добрыня, я тибе водой залью, / Ишше хоцёшь ли, Добрыня, я тибя огнём сожгу, / Ишше хоцёшь ли, Добрыня, дымом затушу. Возвращаясь же к печорской старине, можно сказать, что он наделён теми же способностями, что и его враг. Поэтому он и становится победителем. Из того же круга представлений вышел и мотив использования огня против «хозяина огня», о чём мы писали выше. Мы отдаём себе отчёт в том, что подобные представления в сохранившемся до нашего времени эпическом фонде в значительной степени смазаны, вследствие чего герой обычно действительно хитрит, чтобы оказаться на земле, а не в реке (18) или же, как в кулойском тексте, умоляет змею огненную вынести его на землю, к коню (19).
Тем ценнее для нас анализируемый печорский текст из Усть-Цильмы. Но образы, содержащиеся в нём, вовсе не уникальны. «Стану я, рап Божий, благословясь, – читаем в одном из заговоров, записанных П.Г. Богатырёвым. – Пойду, перекрестесь. Из ызбы дверьми, из ворот воротами. Там есть огненная река. В огненной реки лежыт стар матёр человек. И не плит, и не горит, и не плиндиваит. Так бы у меня, раба Божья, рана не плела, и не горела, и не плиндивала». Таким образом, перед нами не вариант «чёрного» заговора. Путь человека, изрекающего его, характерен для существ мира людей, а не чудовищных обитателей нечеловеческих миров, и он, будучи «двоеверцем», называет себя рабом Божьим. В остальном же данный текст, опубликованный только в 1993 г., имеет очень глубокие, видимо, праиндоевропейские корни, что потрясает. В огненной реке (лаве) лежит некий человек в полном расцвете его сил, не боясь огня. Он же является и образцом, «точкой отсчёта» для исполнителя заговора, носителем качеств, жизненно необходимых для человека с раной. Цель заговора, собственно говоря, состоит в том, чтобы сообщить раненому свойства этого «владыки лавы». Исключительная древность подобных представлений объясняет нам и тот факт, что они сохраняются и у южных славян. Так, судя же по сербскому требнику 1423 г. (рукопись XVII в.), в котором сохранилась молитва ап. Павла от змеи, змею изгоняют в огненную реку: «змия пастнаго, заклишано те вь реку огньную». После прочтения данного текста укушенный змеёй должен был исцелиться, а сама змея – умереть (20), т.е. покинуть мир, где она могла бы встретиться с людьми. Таким образом, перед нами, по сути, – та же отсылка существа, с которым хотят прекратить общение, в «его» мир.

Однако, мы можем датировать и время гибели той ритуальной практики замены старого правителя-змея новым, которая и послужила субстратом сюжета «Добрыня и змей». Ключевое значение, по нашему мнению, имеет тот факт, что в ряде текстов Добрыня и Алёша, что доказали И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, «могут оказаться в каком-то смутно угадываемом самими певцами родстве с князем». Оба они, судя по всему, первоначально мыслились как племянники (видимо, сестричичи) Владимира. Относительно Добрыни об этом нам сообщает сборник Кирши Данилова, а относительно Алёши – одна из былин Северо-Востока Сибири, записанная в ходе знаменитой экспедиции 1946 г. Таким образом, перед нами, смена старого лидера новым, т.е. Владимира – змееборцем Добрыней. Полагать, что «здесь это родство – результат дефектности текста, неполного и путаного», как писали в своё время Ю.И. Смирнов и Ю.Г. Смолицкий относительно сборника Кирши Данилова (21), как минимум, неосторожно. К тому же, именно такое восприятие Добрыни прекрасно сочетается с особой ролью уя (дяди по матери) и сестричича, чем буквально пестрит русский фольклор, впрочем, как и иные памятники культуры различных ветвей индоевропейцев. Таким образом, Перун-змеевич и эпические герои Добрыни и Алёша, убийца Змея-Тугарина, весьма близки. Исследователи, например, В.П. Аникин, много писали о том, что Добрыня лично бескорыстен, что его подвиг, имеющий огромную общественную значимость, в эпосе, в противоположность сказкам, не бывает ничем вознаграждён. Тот былинный текст, где Владимир покорно отдаёт спасённую ему Апраксию в жёны последнего, но герой не принимает такую награду, «ссылаясь на то, что она ему сестра крестовая», исследователь объясняет сильнейшим влиянием сказочного канона (22). О влиянии этого канона также нельзя забывать, тем более, что в некоторых старинах, например, у М.С. Крюковой, текст заканчивается свадьбой змееборца со спасённой им девушкой. В отказе Добрыни от брака с родственницей князя И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин видели отражение конфликта последнего и богатыря. Богатырь, по их мнению, своим поведением, в частности, отказом от брака с родственницей правителя как бы маркирует эти отношения с последним (23). Но Добрыня не всегда отказывается от брака. К тому же, и это обстоятельство, по нашему мнению, имеет ключевое значение, ему этот брак далеко не всегда предлагают (24). Подобное же обстоятельство требует особо внимательного отношения и объяснения.
Похоже, всё дело в том, что эпос и сказка отразили разные стадии развития одного и того же потестарно-политического института, а сами русские старины во многом механически соединили два различных образа князя. Оба они некогда реально существовали. Один из них описан нами в другом месте. Это князь-Солнце, бездеятельный священный владыка восточных славян (русов), описанный восточными источниками. Другим же, по все видимости, был образ князя как священного Змея, некогда убивший старого Змея или вступивший в брак с княгиней-«змеёй», победив её в ритуальном поединке. Нередко новый лидер действительно был сестричичем старого князя. Но если это так, то Добрыня действительно должен был унаследовать власть и жену последнего. Если же это был не родич прежнего князя, он женился на племяннице старого правителя. Отказ Добрыни от девушки или каких-либо иных благ стал прославляться как бескорыстие позднее. Вначале имело место соединение двух традиций в рамках зарождающейся восточнославянской государственности. Но как оно происходило? Бездеятельный князь-Солнце не воспринимался как Змей. Данная потестарно-политическая традиция не действовала в Киеве времён двойственности власти, которую здесь можно датировать до середины X в. (см. позже, в других постах) Судя по тому, насколько эти традиции несхожи между собой, можно скорее говорить об их бытовании у различных союзов племён восточных славян. Одно из них легко идентифицировать. Это поляне. Другие же – какое-то неполянское восточнославянское объединение.
Учитывая факт умыкания невест и роль древнего матриархального принципа передачи княжеской власти от тесты к зятю, а ранее – от уя к сестричичу или же к мужу дочери сестры, ясно, что в ходе ожесточённых межплеменных войн женщины, которые могли легитимизировать таким образом власть, нередко похищали. Врагами полян, видимо, были племена, поклонявшиеся Змею, князь которых, в свою очередь, отождествлялся с ним. Спаситель девушки от похитителей, в соответствие с подобной логикой, также воспринимался как змееборец. Но почему же русский эпический герой в таком случае далеко не всегда женится на спасённой им племяннице (дочери, жене) князя Владимира и не наследует, таким образом, стол? Объяснение, которое выдвигает в былине Добрыня, отказываясь жениться на племяннице или жене князя, возможно, также было взято из жизни: претендента на лидерство заставляли проходить некий обряд «вхождения в род» князя, в результате которого он уже не мог жениться на этой женщине, ибо считался её родственником. Позднее подобное языческое искусственное родство в сознании певцов было заменено крестовым. Имея же в виду былину из сборника Кирши Данилова, ясно, что в аналогичных случаях князья, чтобы сохранить власть в своём роду, стремились, чтобы таким спасителем стал их же законный наследник – сестричич. Поэтому Добрыня, названный здесь племянником Владимира, и спасает тётушку князя Марью Дивовну (25). Видимо, некогда в таком случае сестричич женился на своей родственнице, чтобы удержать власть. Разумеется, понятно, почему сообщение о таком сценарии развития событий сохранилось, и то скорее в виде намёков, только в одном тексте, ибо о кровосмешении положительного героя сказители, разумеется, петь не могли.
Мы отдаём себе отчёт в том, что бог грозы в балто-славянской традиции – бородатый старик (26), а не юноша, подобный Индре. Это можно объяснить тем, что для изучаемых нами племён, в отличие от индоариев, главным было отметить не юный возраст лидера, сменившего старого князя, а, наоборот, подчеркнуть его «матёрость», приобретённую, разумеется, позже, через годы после отцеубийства. Иными словами, миф балтов и славян показывал бога грозы в полном расцвете сил. Интересно, что в литовской сказке «Три похищенные принцессы» близкий к Вяльнясу персонаж – человечек с длинной бородой. Дело в том, что борода – один из важнейших атрибутов мужчины, в том числе, и лидера. У обычных людей в различных индоевропейских традициях борода – сосредоточие мужской силы, в том числе и магической (27). Отсюда, собственно говоря, образ карлика – царя подземного мира, который называется мужичком с ноготок, борода с локоток (28). Судя по описанию Ярославской битвы 1245 г., тогда «долгие бороды» были едва ли не этническим признаком руссичей, по крайней мере, в глазах поляков, о чём писал ещё М.С. Грушевский (29). Покушение на бороду свободного человека строго каралось ст. 67 Пространной Правды (30), а покушение на бороду посла являлось поводом к войне, причём как в Древней Руси, так и в Древнем Израиле (31). В поздней традиции барин, в частности, в наказание мог остричь крепостному полголовы и полбороды (32). Таким образом, ветхозаветная традиция здесь не противоречила древнерусской. В исторических песнях особо подчёркивается, что ради исполнения военной хитрости Платов был вынужден обрить бороду, что считалось, видимо, немалой жертвой с его стороны (33). «Основной миф» индоевропейцев – стадиально позднее явление по сравнению с мифами о Великой Матери, владычицы жизни и владычицы смерти.
Здесь выступают уже мужские божества, причём один становится «князем живых», а другой – «князем мёртвых». Велес, судя по литовскому vėlės – ´духи мёртвых´ и древнеисландскому valr – ´сражённые на поле боя´, сливается с подчинёнными ему мертвецами. Отсюда, кстати сказать, и божба, сохранившаяся в детской среде: «Волос буду!» «Умерший теряет индивидуальность, пол, возраст и соединяется с анонимным множеством «предков», – это наблюдение Т.А. Бернштам, сделанное на основе этнографии восточных славян позднейшего времени (34), подтверждает высказанный нами тезис.
Однако, подобное деление Перуна и Велеса как повелителя живых и повелителя мёртвых тоже не является жёстким, ибо их миры постоянно взаимодействуют между собой. Отсюда и поклонение именно Велесу по преимуществу в ряде областей Руси, например, в Медвежьем углу и в Ростове Великом, в Чудском конце которого имел место идол этого божества, который здесь был сокрушён св. Авраамием Ростовским (35). Велес-медведь был ритуально убит князем-Перуном (Ярославом), но это не смерть-уничтожение. Бог продолжает жить, являясь владыкой смерти, и ему продолжают поклоняться живые. Может быть, в истоках сказочного сюжета о помощи зверей змееборцу речь шла о признании ими нового владыки, генетически близкого к Перуну. В русских сказках сохранились глухие отзвуки того, что Великая Мать (Баба-Яга) считалась сильнее нового, мужского божества Нижнего Мира и смерти. Отсюда и дубинка, которую дал змееборцу чёрт из избушки на курьих ножках, явно заменивший здесь Бабу-Ягу. Этим оружием, аналогичным кию и ваджре Индры, герой и убивает змея (36). Между образами змеи, Земли и Великой Матери есть и сходство: все они могут рожать из самих себя, без участия мужского начала (37). Разумеется, владыками небесной воды первоначально также являлись женщины или девушки, а не мужские божества наподобие индийского Парджаньи или славянского Перуна, позднее заменённые у восточных славян Ильёй-пророком или ап. Павлом (38).
На Балканах под именем пеперуд «хозяйки дождя» известны уже в историческое время. Они, видимо, воспринимались как дочери Перуна, но исторически пеперуды явно древнее образа бога грозы как дарителя дождя. В Воронежской губернии ещё в начале XX в. колдунья, как считалась, могла своей рубашкой разогнать тучи. На первый взгляд, однако, между богами и людьми – гигантская дистанция. Но не такова, как мы видим, была логика древних людей. Относительно классической древности на это факт указывала, как мы помним, О.М. Фрейденберг. Интересно, что «матерью дождя», судя по данным Украинского Полесья и культуры переселенцев-болгар из Фракии в Бессарабии, считалась, по всей видимости, печь, тождественная, как мы показали выше, женскому лону и, в конечном итоге, родовому маточнику и лону Великой Матери (Бабы-Яги). Именно так мы склонны интерпретировать обычай разрушения печи, которая осталась от уничтоженного строения. Учитывая, что заброшенное или неиспользуемое (нежилое) строение фактически является одним из вариантов сакрального пространства, понятно, что эта деталь неслучайна и неплохо вписывается в представления славян – восточных и южных. Данный обряд проводился во время засухи. Переселенцы-болгары в таких случаях разрушали печь, сложенную до Юрьева дня (39), т.е. до «отмыкания весны», т.е. в период времени, в ритуале сближаемый с зимой, холодом, мраком и, видимо, смертью. Таким образом, такая печь фактически тождественна тем скалам, где противник индоевропейского бога грозы спрятал (заключил) воды. К тому же кругу представлений и образов относится и велесов огонь как огонь подземного царства. Отсюда, по резонному предположению В.Н. Топорова, вызывание душ умерших на Великий Четверг и паление тогда же соломы (40).

С рассматриваемым кругом представлеррний о животворящей силе дождя соприкасаются и особые воззрения, связанные с верой в животворящую силу молнии (громовой стрелы), пробивающей границу между мирами живых и мёртвых. В причитаниях и иных жанрах фольклора сохранились сведения о некоем ритуале, с помощью которого на время можно было на время оживить мертвеца. Это проводилось в некое судьбоносное для представителя его рода, а позднее – государства время. Источники, сообщающие о таком воскрешении, противоречивы и неизбежно разностадиальны. Так, в одном из свадебных текстов невеста-сирота призывает крёстного ударить в большой колокол, чтобы раздалась мать-сыра земля и встал отец, у которого она просит не золота-серебра (намёк на неисчислимые богатства того мира, где он сейчас находится), а благословения. В стадиально более позднем причитании, фиксирующем исчезновение веры в то, что подобное вообще может быть возможным, сирота примерно так же обращается с брату, вопрошая его, не раскололась ли гробова доска умершей матери. Иногда ей отвечают, что не раскололась (41).
Обряд проводился на закате Солнца, при этом использовался конь вороной масти. Обе эти детали легко объяснимы в данном контексте ритуального контакта с миром смерти. Удар же в колокол семантически тождествен удару громовой стрелы. Так, на закате Солнца сирота с подругой или сестрой идёт на могилку и причитает: И надойди, надойди, туча грозная, / И выпусти, выпусти громову стрелу! / И приударь, принудь, громова стрела, / И разбей, разбей гробову доску / И выпусти ты моего батюшку… В другом случае читаем, что сирота обращается к брату с просьбой взять ворона коня. Далее видим следующее: Поезжай-ка во Божью церковь, / Ты узлезь-ка на колоколенку, / Ты ударь-ка в большой колокол. / Затяни-ка калену стрелу, / Ты раздай-ка мать-сыру землю, / Ты разбей-ка гробову доску, / Пробуди-ко мою мамушку… Здесь, как обычно в фольклоре, новое причудливо смешалось со старым: стрела соседствует с церковным колоколом, причём брат невесты-сироты как родовой жрец в ритуале фактически выполняет функции громовержца, а для архаического сознания, возможно, даже является им. В южносибирском тексте, стадиально более позднем, невеста с той же целью уже просто просит брата ударить в церковный колокол. Ещё в одном свадебном тексте призыв выпустить мать невесты обращён к Богу, но делает Он это, выпустив огненную стрелу. Все эти явления связано с сильными дождями, которые призваны промыть жёлтые пески (атрибут смерти). Более сокращённый вариант аналогичного типа мы видим и в младших исторических песнях (42). То, что в вышеприведённых случаях речь идёт не реальности, а о потенции, не должно нас смущать и сводить всё к «восстановлению равновесия» между мирами, как у Л.Г. Невской. По её словам, тогда «возникает волнующий мотив возможности преодоления» «разъединённости» миров, «встречи с покинувшим этот мир и далее вечного его возвращения. Апелляция при этом происходит к деструктивным хаотическим силам (ветры, гроза), т.е. делается попытка вновь сделать проницаемой границу между сферами жизни и смерти, восстановленную в ходе» погребального обряда. «Однако, – заключает исследовательница, – обряд окончательно закрепляет их равновесие… и обеспечивает умершему спокойное загробное существование…». Но мы не можем согласиться с подобной трактовкой. Глаголы в приведённых выше примерах, как правило, стоят в повелительных формах, что указывает, как писала, в частности, Э. Олупе, на стадиально ранний тип текстов и соответствующих им обрядов. И действительно, в восточнославянской культуре существуют тексты, где данная потенция реализуется. В духовных стихах о Егории Храбром царь Демонище закапывает его живьём, но гремучая туча, порой принесённая ветрами, или же сами ветры «разметали» пески рудожёлтые, и выпустили героя (43).
Без вышеуказанных примеров непонятна и та сибирская сказка, где змееборец перед схваткой впадает в сон (аналог смерти), и просит ту девушку, которую он хочет спасти от морского змея, бить его молоточком, чтобы разбудить. Но молот – кий, оружие громовержца, семантически тождественный возрождающей громовой стреле-молнии. Данная сказка показывает, кроме всего прочего, неверие в возрождающую силу молота: девушка смогла разбудить героя только своей слезой (атрибут женщины как более мощного, чем мужчина, существа), что, впрочем, имеет многочисленные параллели в иных сказочных текстах (44). Наконец, известно и обращение сироты непосредственно к матери грозной туче. Обращения с просьбой выпустить молнию нет, а отец должен при этом прилететь, разумеется, едва ли в человеческом обличье. Похоже на то, что перед нами – реликт обращения к женскому божеству, предшественнице мужских божеств, которая сама по себе отождествляется, таким образом, с тучей, как и Змей. У южных славян мы видим разительную параллель: ала здесь – и градоносная туча, и змея, и женское лоно, потому женщина может отпугнуть такую тучу. Если снять некоторый эвфемизм с текста, приводимого Е.Е. Левкиевской, понятно, что в данном случае женщина даёт понять одушевляемой змее-туче, что она, и именно как женщина, наделена не меньшим волшебным могуществом, чем та (45). Обращение же к балтской традиции позволяет, по всей видимости, нащупать и иные черты этого женского божества, видимо, предшественницы Велеса. Здесь она сохраняет древние черты богини жизни и смерти, воспринимаясь уже как жена громовержца. Следы подобных представлений обнаруживают, однако, и славяне. Русская Маланья Маланьица, Огненная Мария, болгарская Огняна Мария, сербскохорватская Мариjа огњена, а также Богородица или Мария Магдалина как хранительница молнии у южных славян, русское верование в то, что Мария Магдалина наказывает бога грозы за непочтение к её дню – всё это трансформации жены бога грозы, о чём и писал В.Н. Топоров. Божья коровка у балтов, противопоставленная стрекозе как «чёртову насекомому», помогает разыскивать стадо, что также отсылает нас к тому же кругу представлений. В польско-ятвяжском словарике, в любом случае отражающем определённые культурно-языковые реалии какой-то группы балтов, łaume определяется как `счастье`, тогда как у литовцев и латышей laũme сохраняет черты амбивалентного женского мифологического существа, дарующего судьбу. Слово же łaume стоит рядом с Piarkun и рядом с польским словом pogánske. З. Зинкявичюс отмечал, что здесь явно пропущено слово bogi. Таким образом, тот факт, что названия этих `языческих (богов)` стоят рядом, является дополнительным аргументом в пользу существования у балтов веры в божественную супружескую пару – Лауме и Перкунаса (46).
Итак, былинный Змей, как и некоторые другие животные, воспринимался как священный оберегатель той или иной страны. Сказки говорят об этом с такой определённостью, что игнорировать их свидетельства невозможно. Их свидетельства подтверждаются и данными одной из старин, в которой такими же священными хранителями Руси выступают иные священные животные, связанные и с Нижним, и с Верхним Мирами – туры во главе со своей матерью. Из данного текста, кроме того, ясно, что перед нами – существа с перемежающимся обликом, иными словами, жрецы в личинах и шкурах диких быков. Такие же качества считались совершенно необходимыми и для правителя, на сей раз уже в человеческом облике. Убивший Змея – оберегателя государства должен был стать таковым сам, и обитатели этой страны не оказывали ему в таком случае никакого сопротивления. Судя по некоторым намёкам, он становился очередным мужем правительницы, что отсылает к «мотиву Мала» и древнекельтскому обряду присвоения королём верховной власти. Сюжет же о поединке Добрыни и Змея (Змеи) позволяет нам рассмотреть различные исходы последнего. Иногда это соглашение, связанное с даром Добрыне тех или иных благ, что хорошо объясняется статусом Велеса как хозяина богатства и реальными случаями компромисса между князьями. Иногда же перед нами – предложение себя в жёны вместе с девушкой-наложницей. В последнем случае «косы» противницы героя выдают, что перед нами, на самом деле, – княгиня-воительница в маске Змеи.
Сохранившиеся былинные тексты позволяют датировать сложение сюжета и змееборстве Добрыни и основные вехи его эволюции. Змей порой воспринимался восточными славянами не только как обожествлённая молния или туча, но и как лава. Это хозяин воды и огня. Представление о том, что олово более действенно против него, чем железо, позволяет уверенно относить данный мотив к самому началу железного века, когда железу ещё не всегда доверяли. Образ же оружия, сгорающего в руках Добрыни, как и образ не боящегося огня человека (жреца), лежащего в огненной реке, восходит ко временам гористой индоевропейской прародины с действующими вулканами. Последнее обстоятельство, вместе с мотивом каменных орудий громовержца, позволяет датировать зарождение сюжета о змееборстве каменным веком.
Объединение же различных племён вокруг Киева не просто «привязало» фигуру победителя Змея к киевскому циклу. Совокупность данных русского эпоса позволяет предположить, что в IX-X вв. вместе с обрядовой и потестарной практикой, когда бездеятельный князь воспринимался как Солнце, в иных традициях восточных славян существовали и представления о князе как Змее, который, в результате ритуального поединка, заменяется своим сыном или, скорее, сестричичем – молодым Змеем. Отсюда и ещё одно основание восприятия Змея как иноземца, по крайней мере, не проживающего в Киеве. Обе традиции – полянская (князь-Солнце) и какая-то некиевская некоторое время сосуществовали в раннем Киевском государстве. Ожесточённая борьба за власть между племенными союзами проходила в том числе и рамках ритуалов, имевших многотысячелетнюю историю. Похитителем женщины из княжеского рода полян был, видимо, князь-змей некоего враждебного последним племенного союза. Умыкание невесты, традиционное для многих восточных славян, но уже не для полян, в таком случае давало право на власть. Перед нами то, о чём не упомянул летописец, хотя едва ли не знал о подобном. Чтобы обеспечить преемственность княжеской власти в пределах одного рода, иными словами – передать власть своему сыну или какому-либо иному родственнику по мужской линии, киевские князья стремились провести некий обряд, «вводя» в свой род тех предводителей войск, которые могли освободить их похищенную племянницу, дочь или жену. Считаясь, в таком случае, родичами последней, они уже не могли на ней жениться, а значит, и претендовать на княжескую власть в Киеве.
Однако, образ змееборца / «велесоборца» не исчерпывается Добрыней. Но о других аналогичных персонажах - в следующем посте.






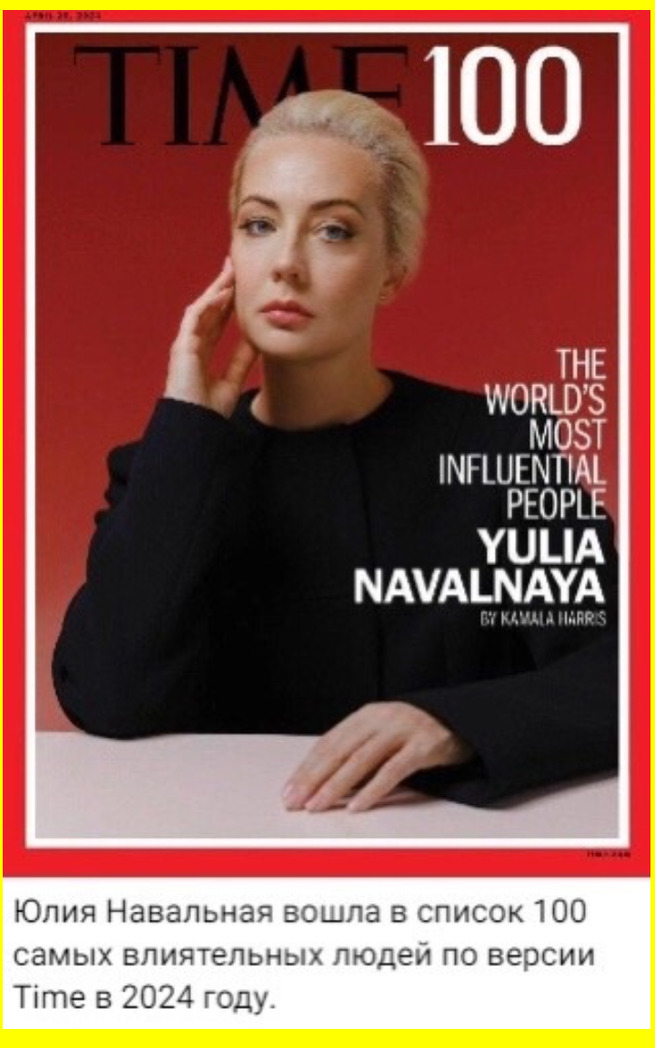
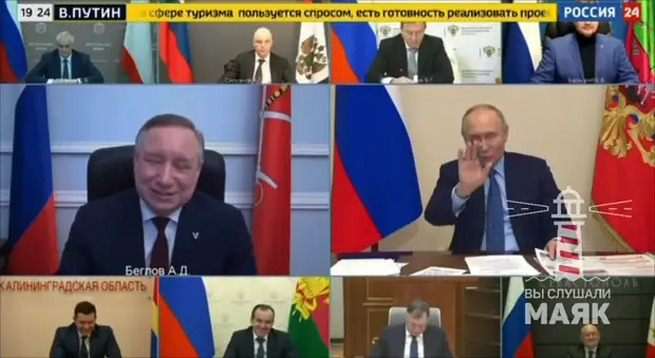



Оценил 21 человек
40 кармы