
В конце прошлого — начале нынешнего столетия собирание и изучение русских былин стало ведущей отраслью отечественной фольклористики, несмотря на то что и расцвет эпоса, и само знание былинных сюжетов в народе были уже позади, и многое, слишком многое оказалось невозвратно забытым.
Открытие учеными-собирателями во второй половине прошлого столетия «Исландии русского эпоса» показалось именно чудом, в которое иные даже не сразу и поверили, — так не сочеталась новейшая капиталистическая цивилизация с живым наследием далеких тысячелетий. Но вот открытие состоялось, и оказалось вскоре, что для всей культуры нового времени древний эпос столь важен и необходим, что представить теперь русскую культуру лишенной эпического наследия стало уже невозможным.
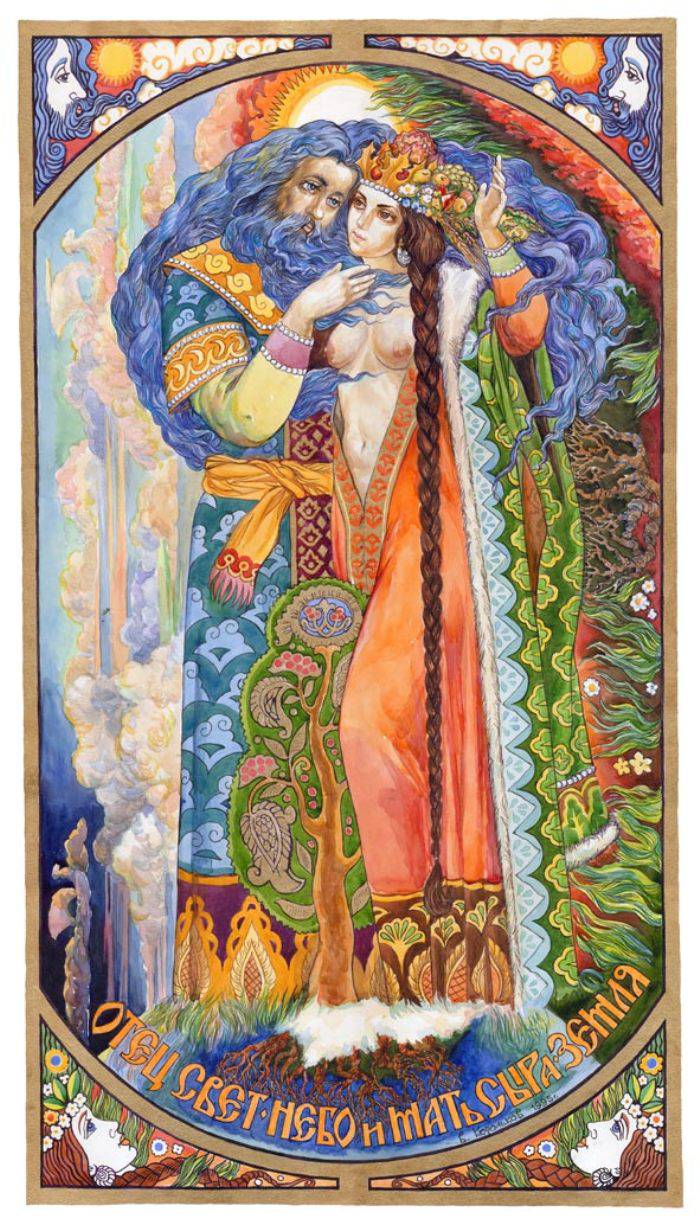
Сказителей привозили в столичные города, удивлялись их строгой гордости, их чувству человеческого достоинства, тому, как спокойно и свободно И. Федосова или Рябинины вели себя в ученом обществе. М. Д. Кривополенова (нищенствовавшая у себя на родине!) всерьез обиделась, например, что А. В. Луначарский, уже после революции зазвавший знаменитую сказительницу в Москву, не сам приехал за ней в гостиницу, и смягчилась лишь потому, что прислал всё-таки «седатых людей» — академиков, пригласивших Марью Дмитриевну на встречу с наркомом.
В XVIII—XIX столетиях эпос уходил в прошлое, доживал, отступив на окраины, к казачьим станицам юга, за Урал, в Сибирь и в просторы древнего новгородского «Заволочья», туда, где сам строй жизни, «свобода и глушь», по выражению Гильфердинга, помогали памяти народной. Особенно благотворным для древнего народного искусства оказалось неяркое солнце Русского Севера. Здесь, в Олонецком крае, в Обонежье и архангельском Поморье, было сделано в четыре раза больше былинных записей, чем во всех остальных районах бытования эпоса вместе взятых.

Устная память далекого прошлого — «веков минувших» — быть может, самое великое чудо народной культуры, чудо, мимо которого можно легко пройти, не заметив, не поняв, не ведая даже, что, например, вон тот одинокий старик-рыбак или та улыбчивая тётка хранят в памяти своей предания великой киевской старины, ежели не еще более древние, от седых изначальных веков бытия наших далеких пращуров.
«Былина» — книжное название, в народе эпические песни зовут «ста́ринами», иногда «стихами», объединяя в последнем случае с прочими жанрами повествовательной песенной эпики. Отношение к старинам и в годы угасания эпоса было исключительно уважительным. Старины, наравне с духовными стихами, пели Великим постом, когда мирских, будничных песен петь было нельзя, воспринимая каждое слово как заветное предание, бережно храня ставшие чужими или сторонними для северян приметы глубокой старины и иного природного окружения.
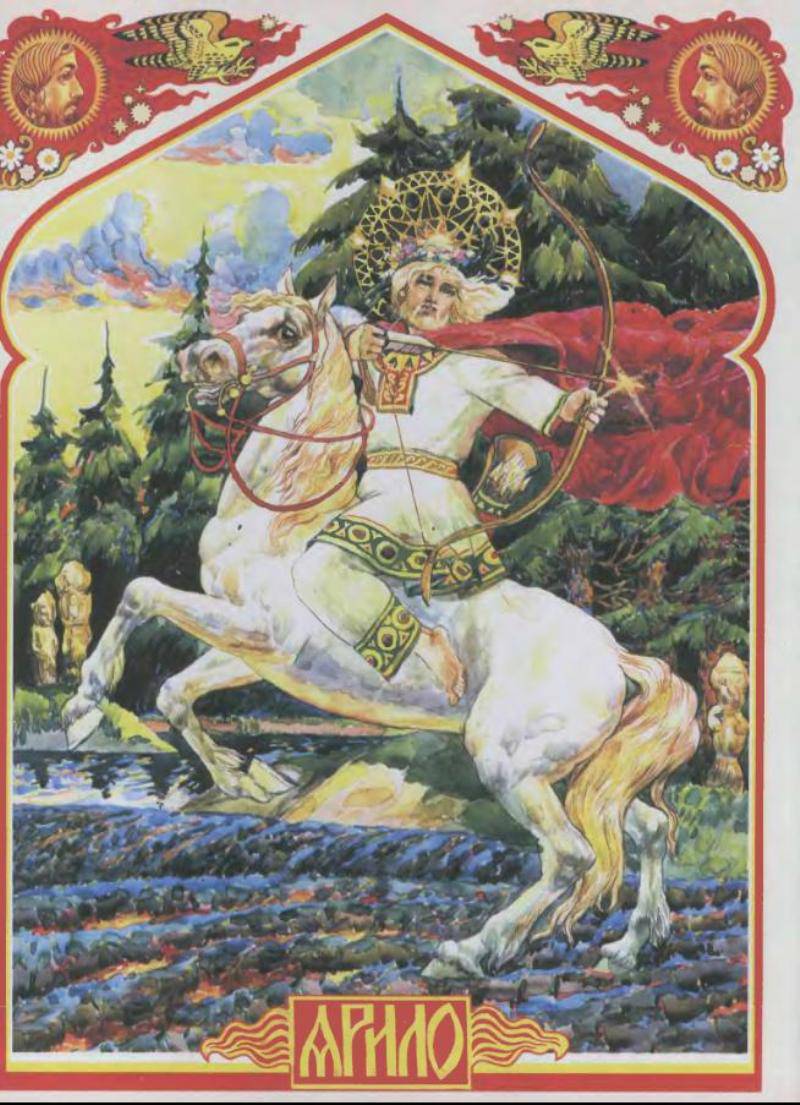
«Нужно побывать на нашем Севере, чтобы вполне понять, как велика твердость предания, обнаруживаемая в народе его былинами. Мы, жители северных широт, не находим ничего особенно необычного в природе, изображаемой нашим богатырским эпосом, в этих „сырых дубах“, в этой „ковыль-траве“, в этом „раздолье чистом поле“, которые составляют обстановку каждой сцены в наших былинах. Мы не знаем, что сохранение этой обстановки приднепровской природы в былинах Заонежья есть такое же чудо народной памяти, как, например, сохранение образа „гнедого тура“, давно исчезнувшего, или облика богатыря с шеломом на голове, колчаном за спиною, в кольчуге и с „палицей боевою“».
Певцы былин пользовались в Обонежье особым почетом. Слава о лучших сказителях, таких как Илья Елустафьев, жила долго после их смерти. В промысловые артели, уходящие на Север бить морского зверя, обязательно старались залучить сказителя, иногда глубокого старика, — лишь бы пел. Знаменитого Т. Г. Рябинина не раз промысловики манили с собою: «Если бы ты к нам пошел, Трофим Григорьевич, — говаривали рыболовы, — мы бы на тебя работали: лишь бы ты нам сказывал, а мы бы тебя всё слушали».

Старины исполняли вечерами в охотничьих избушках, на рыбацких тонях, в дорогах. П. Н. Рыбников впервые услышал былину случайно ночью у походного костра, на пути в Заонежье.
Когда-то в древности пением героического эпоса вдохновлялись воины на походе. Так, славяне, входившие в свиту греческого посла Никифора Грегораса (1326 г.), проезжая ночью македонскими лесами, «нимало не заботясь об окружающей действительности, выкрикивали и громким пением превозносили славу древних богатырей».
Греческим послам было уже непонятно, что именно эта слава и должна была испугать возможных врагов, придав смелости их противникам.
Почему эпос сохранился именно на окраинах — в общем-то ясно. Здесь не было крепостного права. Здесь крепче сохранялись устои древнего народного общежительства. Сюда, в Сибирь, на Урал, на южную степную границу, приходили наиболее энергичные, не растратившие пассионарного заряда творческой энергии люди; приходили, принося с собой память о древней эпической родине. На Север эпос занесли деятельные новгородские землепроходцы. Полные опасностей и неожиданностей морские промыслы, как и охрана южных рубежей страны, поддерживали в певцах память о древних, «досюльных» героях.

Дальнейшая судьба эпического наследия была разной в каждом из регионов. У казаков ста́рины зачастую исполнялись хором, сливаясь с протяжной маршевой песней, а из всего сюжета сохранялся один запев, мотив дороги как начала, исхода богатырского деяния:
Ой, да из славного было да из города,
Из славного Ке... вот из Кеива,
Ой, да из того только было из селеньица, да
Села Карача... ой, да, Карачарова,
Ой, да, там-де пролёгивала шлях-дороженька,
Она не широ... ой, не широкая,
Ой, да долиною-то она, шлях-дорожечка,
Она конца кра... ай, конца-краю нет..
Такие песни пели протяжно, «чтоб ни конца, ни краю не было», про них на Дону говорили, что «их играть надо обрядно: обрядная ета песня — из темных, давних веков»

В Сибирь былинная традиция пришла и с Севера, и с Юга, с казачеством. Новый быт, новые сложные отношения, этнические взаимодействия, развитие торговли и промышленности привели к забвению древней эпической традиции. Но на первых порах они уживались. На Урале, в вотчине промышленника Акинфия Демидова или его наследников, был составлен сборник Кирши Данилова, обогнавший на полвека, если не более, развитие мировой фольклористики, — сборник, более трети которого составлял собственно былинный эпос, стилистически примыкавший к северорусскому, но с сильным оттенком исчезнувшей из живого бытования московской традиции XVI—XVII вв.
В конце XIX — начале XX столетия такие сказители, как Л. Г. Тупицын или Михаил Соковиков, были в Сибири редким явлением, но их искусство по-прежнему притягивало людей. Михаила Соковикова прозвали на Колыме «Кулдарем» — так принято называть колодцы в Средней Азии: старины и сказки текли из уст былинщика как из чудесного источника «кулдара», живительной влагой утолявшего путников.
***
Сейчас не все даже и знают, что былины поют, а сохранившиеся звуковые записи старин в исполнении заонежских сказителей обидно редки и фрагментарны. Одному из авторов этих строк живое былинное пение удалось услышать впервые на Средней Печоре. И это первое впечатление буквально ошеломляло.

Пел Еремей Провович Чупров. Сухощавый, как-то очень по-древнему красивый старик, не потерявший к седьмому десятку лет ни стати, ни даже черноты волос, нацело лишенных седины. Он молчаливо розлил зелена вина гостю, себе и старшему сыну — и повлек всех от бытовой суедневности, от насущных дел в высокий эпический мир...
Нет, то было не пение! Полилась яростная, сверкающая река, река удали и пыла, и гнева богатырского, и уже в этом напоре, в этом бурном стремлении древней властной красоты понялось, стало внятным как-то само собою то, что некогда, при книжном чтении былинных текстов, казалось наивным, детским, быть может, слишком далеким и сторонним для нас: и чаша в полтора ведра, и палица в тридцать пуд...
Всё приобрело свой смысл и вид, и уже яснело, что надо именно так — не переложить сло́ва, ни образа переменить не можно в этой величественной памяти веков; яснело и приходило в ум, что воистину былина — это постройка из золотых кирпичей, каждое речение здесь драгоценно и найдено, уложено на века, навсегда!
Потом пришлось услышать и совсем иные манеры: мягкий говорок-речитатив Вокуева, красивый, даже торжественный, полный плавной величавости напев Лагеева, — но ощущение чуда, некоего высшего бытия осталось и уже стало неотрывным от понимания эпоса.

«Это Волхово-то, что тако?» — спросил как-то Лагеев, прервавшись. И, узнав, что река Волхов существует на самом деле, удовлетворенно покивал головой: «Стало, правда, так оно все и есть!»
Для них, последних носителей великого искусства, эпос был и продолжал оставаться некоей реальностью, подлинной стариной (поэтому так истово и пели!), где, однако, все было чудесно преувеличено, все обладало значительностью, превосходящей меру окружающего, и невзирая на то (а вернее — именно поэтому) являлось истиною великой учительной старины.
Слушали былину «с такою же верою в действительность того, что в ней рассказывается, как если бы дело шло о событиях вчерашнего дня, — правда, необыкновенном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном»: певец жил мыслью в том мире, который воспевал.
Онежский сказитель Никифор Прохоров сопровождал пение былины о Михаиле Потыке такими замечаниями: «Каково, братцы, три месяца прожить в земле!», «Вишь, поганая змея, выдумала еще хитрость», «Вот, подумаешь, бабьи уловки каковы» (Гильф., I, с. 36, 37).

Впервые приехав в Москву, М. Д. Кривополенова сразу увидела ее песенной. Ее воображение было поражено не столичной сутолокой, а совпадением сложившегося в фольклоре облика «каменной» Москвы с действительностью: «Уж правда, каменна Москва, дома каменны, земля каменна».
Она сама все высмотрела — и Кремль, и гробницу Ивана Грозного, и могилу его второй жены, Марьи Темрюковны, о свадьбе которой знала веселую скоморошину. Отыскав за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова, она, не удержавшись, топнула посреди улицы ногой и запела старину...
***
Эпосов много, записанных по-разному и в разные века. Будь ли то повествование о Гильгамеше, найденное при раскопках в развалинах древних ассирийских дворцов: глиняные таблички с выдавленным на них клинописным письмом, из немыслимой тьмы тысячелетий донесшие до нас великую поэму, эпос загадочного народа Шумер... Будь то величавые поэмы Гомера; «Илиада» и «Одиссея», вобравшие в себя героическую память ахейской Греции. Или рыцарское великолепие «Песни о Роланде». Или мрачноватая громада Нибелунгов. Будь то ирландские саги, где стихи перемежаются с возвышенной прозой (неясно, впрочем, не есть ли это пересказ того, что пелось некогда или читалось нараспев, так возвышен, так «певуч» стиль этой древней прозы).
Будь то якутское олонхо́ — песни-сказания о героях или гигантские, исполняемые по многу дней, эпические повествования нашей Азии: «Манас» и «Джангар». Будь ли то задумчивый перелив рун «Калевалы»... Но везде, всюду и всегда это высокое искусство, торжественная повествовательная песнь о героях, точнее, о героической старине, о великом, славном учительном прошлом — «идеальной древности». Везде и всюду эпос представляет в череде типов героев-богатырей героизированное обобщение национального характера, как бы возвышенный образец, завещанный последующим векам.

Скажем тут: национальный характер находится не в статике, а в динамике. По мере развития и угасания этносов меняются идеалы, появляются новые черты и свойства, но при всем том эпический мир, эпические герои остаются высшим образцом. В пору упадка — укором, а при всяком подъеме национального самосознания — одною из его важнейших духовных основ.
Благодаря этому своему свойству эпос «крепок к этносу» — он не переходит свободно от народа к народу, как сказка, да и вообще не переходит, ежели не происходит слияния, переливания друг в друга самих этносов и национальных культур, при особых условиях начальной фазы этногенеза.
Простого сосуществования народов — носителей эпоса рядом или даже чересполосно на одной территории для этого недостаточно. (Примеры переходов: шумерского эпоса к ассирийцам, ахейского к классическим грекам, кельтского, в Британии, к саксам и англосаксам, скандинавского к готам и германцам — говорят сами за себя.)
Русские и карелы в Обонежье, например, за тысячу лет совместного сосуществования так и не обменялись эпической сюжетикой (а факты перехода русской былины в фольклор коми немногочисленны), и подобные примеры бессчетны. Это свойство роднит эпос с мифом, от коего он зачастую и отталкивается, переводя, так сказать, с неба на землю принцип учительности как таковой.

Если миф — идеальная модель мироздания, служащая основою земных поступков людей, то эпос — идеальная учительная конструкция национального типа в его героическом варианте. Эпический герой и является в эпосах архаического типа сперва в облике культурного героя, т. е. младшего божества или полубожества, устроителя мира и подателя жизненных благ людям своего племени.
Все сказанное, однако, еще не определяет художественной специфики эпоса, его особенности, своеобычности, неповторимости в ряду других песенно-сказовых форм словесного искусства. Мы не будем здесь касаться природы эпического стиха (она разная у разных народов), ни композиции, ни даже проблемы эпитета — отметим главное, что выделяет именно эпос и что вместе с тем роднит эпосы разных народов друг с другом.

Главная особенность художественной структуры эпоса — эпическое преувеличение, или гипербола.
Народная поэзия вообще любит гиперболу (идеализирующую, как в жанрах обрядового свадебного фольклора, или сатирическую), но только в эпосе преувеличение становится основным формообразующим элементом, лишь там гипербола является средством типизации, непременным способом создания той самой великой идеальной действительности, изображение которой отличает и выделяет эпос в ряду прочих жанров словесного творчества.
Гиперболы бросаются в глаза всякому, кто возьмет в руки любой сборник былин: чара в полтора ведра или палица в тридцать пуд, богатырская ископыть, безмерная сила героев и их коней — ярость поединков, побивание «тьмы тем» врагов и прочее. При невнимательном чтении кажется, что перед нами некий мир великанов, противопоставленный миру обычных людей. Некоторые современные художники, ничтоже сумняшеся, так и изображают эпических героев — огромных, часто безобразных размеров гигантов. Но все это является лишь при невнимательном, поверхностном чтении.
Вот Илья Муромец надел платье нищего и — затерялся в толпе. Куда же исчез его гигантский облик? Вот поляница-богатырша сажает героя вместе с конем себе в карман, а затем становится женою названного героя, что, во всяком случае, было бы невозможно при реальном соотношении указанных размеров. Тот же Илья Муромец, способный разметать весь Киев, — будучи схвачен слугами князя (отнюдь не богатырями!), сидит заключенный в погребе.

Сила, огромность героев, изображенные средствами внешней гиперболизации, на деле, в самом эпическом действии, оказываются, скорее, выражением их духовной мощи. Далеко не всегда даже прямое «измеренное» указание на огромность богатыря следует понимать буквально.
Вот примеры из якутского эпоса (олонхо). «Стан (героя) в перехвате был в пять саженей. Шести саженей дороден в плечах был. В три сажени были округлые бедра...» От боя героя с противником сотрясается земля, он кричит, «разрывая на части дно верхнего мира <...> расщепляя надвое дно подземного мира...» «В толпе других людей он как самец-вожак в стаде важенок».
То есть он, действительно, выше, сильнее, больше других людей, но все же безмерные великанские обмеры героя, названные в предыдущих стихах, есть лишь способ создания определенной эмоциональной атмосферы огромности, а никак не исчисление реального роста богатыря.
Вот иной пример, взятый с другого края Евразии, — из ирландских героических саг. Речь идет о Кухулине, главном герое эпоса Ирландии. Приходя в ярость во время боя, он «чудесно искажался: мускулы его вздувались, один глаз западал так, что „цапля не могла бы его достать“, от скрежета его зубов извергалось пламя, удары сердца его были подобны львиному рычанию, в облаках над головой его сверкали молнии, исходившие от его дикой ярости...
Шире, плотнее, тверже и выше мачты большого корабля била вверх струя крови из его головы, рассыпавшаяся затем в четыре стороны, отчего в воздухе образовывался волшебный туман, подобный столбу дыма над королевским домом».
Соответственно ведет себя Кухулин и в бою: «Подобно удару метлы, гонящей перед собою врагов на равнине Муртемне, настиг он вражеское войско и занес нам ним свое оружие... И сколько есть в море песчинок, в небе — звезд, у мая капелек росы, у зимы — хлопьев снега, в бурю — градин, в лесу — листьев, на равнине Брега — колосьев желтой ржи и под копытами ирландских коней — травинок в летний день, — столько же половин голов, половин черепов, половин ног и рук и всяких красных костей покрыло всю широкую равнину Муртемне. И стала серой равнина от мозгов убитых после этого яростного поединка, после того, как Кухулин поиграл там своим оружием».
Но вот он же едет к своей невесте Эмер — и, завидя Кухулина, подруга Эмер говорит: «На колеснице вижу я темного, хмурого человечка, самого красивого из всех мужей Ирландии».
То есть был он темноволос и мал ростом.
Соответственно Илья Муромец, например, взяв за ноги татарина, сокрушает им тысячи врагов и, однако, есть былина, где тот же Илья, встречая по дороге калику, принесшего известие о захвате Киева, укоряет того, говоря: «Силы в тебе в три меня, а мужества и в половину нет». То есть опять же не в силе дело! И, кстати, эпические герои разных стран весьма часто встречают и поражают в бою истинных великанов, намного превосходящих самих героев и ростом, и силою.
Таков же — пределен в своих качествах — и эпический пейзаж:
Высота, высота поднебесная,
Глубота, глубота — окиян-море...
Пейзаж этот служит зачином былины, разом создавая картину идеальной эпической страны (тот же прием присутствует в якутских олонхо). Такова же и сцена пира, с которой обычно начинаются былины о воинских подвигах. Это всегда идеальный возвышенный пир, пир для всех, кто так или иначе участвует в управлении страной, — князей, бояр, богатырей, а иногда и еще шире — вообще для всех сословий: купцов, горожан и всех людей православных. Тем самым создается ситуация идеального, гиперболизированного единения нации вокруг былинного Киева и князя Владимира.
Столь же предельна, доведена до высшей степени утонченности в эпосе красота теремной затворницы:
Ай-я статным она статна, полна возраста,
Волосом она руса, лицом бела,
Ай-я сквозь ейну рубашку тело видетця,
Ай-я сквозь ейно тело да кости видятця,
Ай-я сквозь ейны кости мозг переливаетця,
Не скачен ли женьчуг перекатаетце,
А ще как можно перёд князём стоять,
А ще как можно кнегиною звать.
Столь же предельны достоинства убранства коня, красота терема: до высшего совершенства доведена каждая деталь эпического повествования, почему-либо важная певцам. Иначе говоря, с помощью зрительного, числового, количественного и качественного преувеличения творцы эпоса создавали образы могучих духом героев и могучей, величественной во всех своих аспектах действительности.

На героев эпоса ложился как бы отсвет общенародного величия, дух молодого этноса, находящегося в первоначальной фазе подъема, когда создающийся народ, выступая на арену истории, действует весь целиком, в едином монолитном усилии, когда еще не сложилось классовое общество с его неизбежными антагонизмом общественных групп и этикетным ограничением прав отдельного человека. То есть сложение эпоса, сложение этого гиперболизирующего искусства только и возможно в начальную пору этнического развития — в пору так называемого «детства народов».

Снижение гиперболы, разрушение эстетической формы эпоса, неизбежно наступающие с ростом классовой государственности, и есть конец его творческого, продуктивного бытия. Возникают новые формы, более приспособленные для отражения новой действительности (баллада, историческая песня и прочее), эпос же остается памятью прошлого — прошлого величия, прошедшей, идеальной старины, и уже оттуда, из дали минувших веков, сквозь тысячи лет и событий продолжает светить своим неугасимым светом, вплоть до новейшего времени, когда древнее, ушедшее из живого бытования искусство обретает новое бытие в литературе, музыке, живописи, ораторском слове и политических устремлениях современного человечества.
И те же ирландские саги оживают в деятельности борцов за свободу Ирландии — фенниев. В Германии Вагнер, в поисках национальной самобытности, воскрешает древних Нибелунгов в цикле своих опер. А Джавахарлал Неру, борясь за свободу Индии, в своих обращениях к народу напоминает внятные каждому индусу образы Рамаяны и Махабхараты. Так же, как и русские художники, композиторы и поэты конца прошлого столетия воскрешали образы героев древнего эпоса в борьбе за новую, демократическую культуру страны; древний мифологический персонаж Микула, богатырь-пахарь, становился символом народа, готового к социальной борьбе. А Илья Муромец вдохновлял русских солдат в суровые дни Великой Отечественной войны.
***
Сколько столетий собирались богатыри за пиршественным столом князя? Никто этого точно не знает.
В том виде, в каком они дошли до нас, былины, конечно, являются прежде всего отражением времени киевской государственности.
В свою очередь, «киевский» и «новгородский» эпос как художественная система отражал раннюю древнерусскую государственность в эстетических формах, выработанных сотнями предшествующих поколений.

Для того, чтобы стать «государственным», ему необходимо было опираться на развитую фольклорную и эпическую традицию в целом, вырасти из эпоса более раннего, архаического. В недрах последнего когда-то под действием великой «пластической силы» (А. Н. Веселовский) мифа отливались первые типы сюжетных коллизий, поэтические приемы и образы. Во многом наследуя мифу, былина является «формой исторического и местного» его приурочения; миф в былине «связан с историей, связан ее определениями, мелочами быта и исторически определенных событий».
Исследуя взаимоотношения архаического и государственного эпосов, В. Я. Пропп пришел к выводу, что прямолинейного следования этих типов эпосов друг другу не было: государственный эпос во многом отрицал идеологию предшествовавшего ему родоплеменного, изображал его конфликты «с обратным знаком».

Сейчас можно считать установленным уже, что эпос появляется на стадии разрушения родоплеменного быта, на стадии появления «военной демократии». Самый древний пласт эпоса как раз и посвящен той духовной революции, выражаясь современным языком, которая происходила на этом сломе, — рушилась стена устарелых уже, но еще очень сильных норм и догм родового общества, освященных и закрепленных мифологией; ранние эпические герои — это и есть борцы с традициями божественной предопределенности. Столкновение сил здесь выражено в восстании против норм мифологического мышления и, соответственно, мифологических существ.
Ранний эпический герой подчас с риском для жизни крадет у богов и передает людям культурные блага — навыки земледелия и обработки металлов, мореходства, рыболовства и прочее. Эпос на этой стадии отражает не столько конкретно-исторические, сколько более общие духовно-идеологические конфликты своего времени. Ибо без освобождения от уз родовой идеологии двигаться дальше было бы невозможно.
Связи эпоса и мифа далеко не просты, и далеко не всегда эпический герой — это бунтарь, враждебный богам. Он может быть и героическим защитником древних, уходящих в прошлое норм родового права, но уже героическим защитником (исключительность!), и уже — уходящих в прошлое (т. е. слом, крушение древней идеологии и тут налицо).

В дальнейшем все большее внимание творцов эпоса обращается к подвигам, к воинскому героизму — миф уходит в прошлое, теряет актуальность, и с ним гаснут, теряют актуальность и древние темы. Эпос на ранне-государственной стадии — это преимущественно эпос героический (воинский), с новыми идеями, новыми духовными устремлениями.
***
Все эти процессы отразились в русском эпосе.
Современные русские (Русь Московская) сложились как народ после заката Киевской державы на ее окраине в XIII—XIV вв. Однако этногенез Московской Руси происходил уже в условиях развитого феодализма, меж тем как эпос складывается на предшествующих стадиях развития этносов.

О сформировавшемся эпосе у восточных славян в докиевскую эпоху и в раннекиевское время говорят устойчивые устнопоэтические образы, попавшие в летопись, древнерусские повествования, а также рассказы путешественников о Руси, — явно восходящие к эпической жанровой системе. Влияние эпоса на летопись видели в рассказах о сватовстве невесты для Владимира (под 988 и 1128 гг.) — этот рассказ построен по классической эпической сюжетной схеме сватовства невесты для князя, с ее насильственным увозом, оскорблением сватов и изображением сватовства как боя (в былинах о Дунае Апраксия жалуется отцу, что он не мог ее выдать «без бою, без драки, без кровопролития»).
Явно на основе эпических повествований сложился образ царя русов у Ибн-Фадлана — пассивного, не покидавшего своего «ложа», где он пирует в окружении богатырей и куда ему приводят красавиц. Бремя правления и охраны государства падает всецело, по свидетельству Ибн-Фадлана, на его заместителя, командующего воинами.(Сам Ибн-Фадлан в Киеве не был и использовал устные рассказы.)

Историю Киевской Руси до недавнего времени начинали с VIII в. Не будем тут касаться норманнской теории, поскольку вопрос о национальной принадлежности Рюрика для истории народа не важен, что же касается племенного термина «русь», то он применительно к славянам в форме «рос» зарегистрирован уже в VI в. византийскими историками (т. е. за двести лет до вокняжения Рюрика в Новгороде).
Впервые этноним «рус» («hrus») упоминается в сирийской хронике VI в. псевдо-Захария Митиленского. Там говорится, что племя русь — рослый и сильный народ — обитало в первой половине VI в. севернее Азовского моря, где-то на Дону или за Доном. Термин «русь» — не тюркского и не скандинавского происхождения (предположительно — восход к сарматам).

Вот как представляет дело современный исследователь:
«История полянского региона среднего Поднепровья представляется следующей. В V—VI вв. здесь жили славяне-анты. Эта диалектно племенная группировка сформировалась в условиях славяно-иранского симбиоза. Наряду с другими языковыми элементами славяне восприняли и этноним рось. Вероятно, под этим названием скрывается одно из антских племен...
Одновременно, в VI в., в правобережной части Киевского Поднепровья расселяются славяне-дулебы, в результате территориального членения которых формируется племя полян. В VIII—IX вв. поляне и потомки росов окончательно перемешиваются между собой, их прежние культурные различия нивелируются». Позднее этноним русь распространился на всех славян восточных.
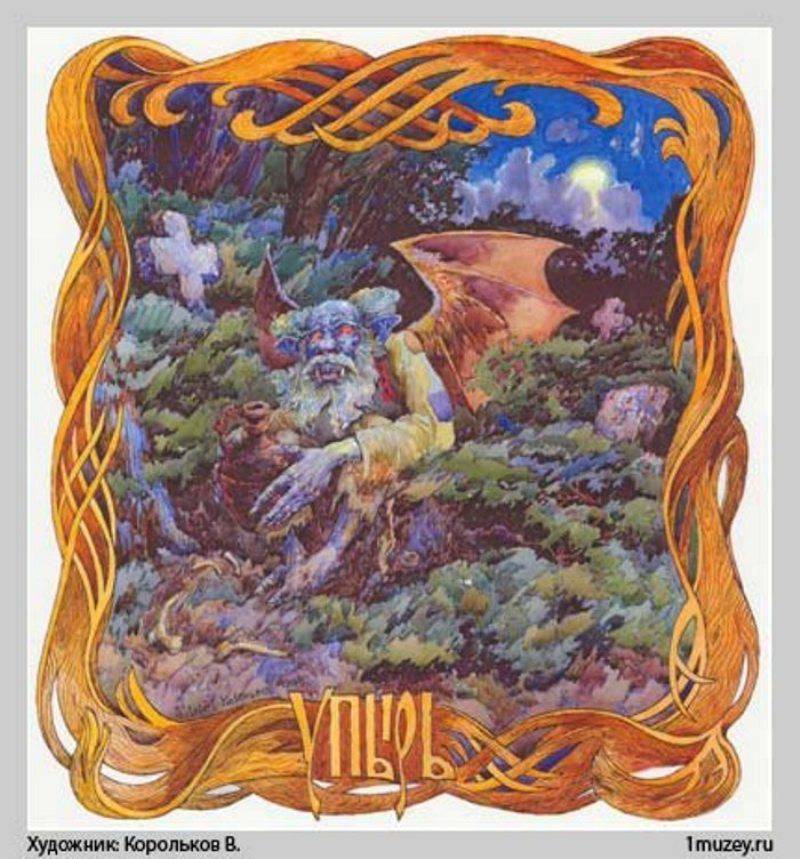
Добавим, что в «Деяниях готов» Иордана упоминается, в числе врагов готского короля Германариха, создавшего в III—IV столетиях эфемерную разноплеменную державу в Поднепровье, некое племя росомонов (в переводе «люди» или «народ росов»).
Как Афина из головы Зевса явилась в полном вооружении и взрослой, так появились на арене истории славяне VI—VIII вв.
Исторический период застает у нас весьма развитую общественную жизнь, крупные племенные союзы типа раннегосударственных объединений, в частности уже существующий киевский каганат — предок державы Рюриковичей, развитое железоделательное производство, высокий уровень кузнечного и ювелирного, не говоря уже о других, ремесел, градостоительство, торговлю, значительное классовое размежевание.
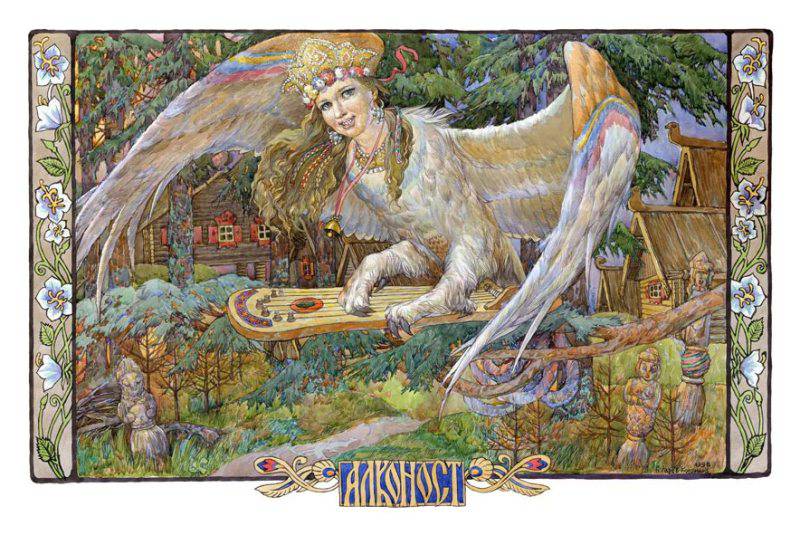
Полагать, что в первых веках славяне еще не сложились этнически, не приходится.
Впрочем, об огромном славянском мире, протянувшемся от Адриатики до Балтийского моря, говорят еще римские историки начала нашей эры. Вопрос только в том, когда славяне появились в Поднепровье, т. е. вступили в соприкосновение с кочевыми народами причерноморских степей. Установлено, что ранняя культура славян складывается как полиэтничная: «Думать, что историю жизни славянства следует начинать с компактной группы, полностью единообразной в этническом и языковом отношении, не представляется возможным».

Установлено, что древняя киевская культура (конец II — середина V в. н. э.) во многом связана с зарубинецкой (II в. до н. э. — II в. н. э.) и черняховской (III—V вв. н. э.) культурами Поднепровья. Уже наиболее ранней, зарубинецкой, культуре были присущи достаточно сложный погребальный обряд с урновыми захоронениями, жилые постройки разных типов, развитые ремесла: гончарное, ювелирное, железоделательное, торговля с античными странами и земледелие.
Археология еще не сказала последнего слова в определении культур, предшествовавших зарубинецкой. Можно пока лишь предполагать, что носители лесостепных Поднепровских культур скифского времени, а также Чернолесской и Белогрудовской культур (XI—VI вв. до н. э.), восходящих к эпохе бронзы, были предками славян, продвинувшихся сюда с Запада. Так или иначе, но генетическая связь этих культур с последующей зарубинецкой, уже несомненно славянской, просматривается.

Ежели мы вспомним события II—IV вв. до н. э. — массовые движения племен, сражения, подобные битве при Недао, в которых погибали целые народы, всю эту бурную эпоху, обостренную гуннским нашествием, то неизбежно придем к заключению, что начало собственно Киевской Руси и следует отнести к II—IV векам нашей эры, т. е. к началу эпохи переселения народов. Это — что касается собственно Руси Киевской, которая, в свою очередь, создалась как коалиция уже имеющихся славянских племен.
Принято считать, что развитие раннекиевской славянской культуры было задержано гуннским и аварским нашествием. По традиции, созданной норманнистами, в этом перечне отсутствуют готы, как-никак, главные враги днепровских славян накануне и во время гуннского нашествия.

Авары (обры русских летописей) были действительно жестокими врагами славян. Разгромив антов, они остановили во второй половине VI в. натиск славян на Византию, после чего славянская экспансия направилась на восток и северо-восток (от этих событий как раз и начинается летописное повествование Нестора). Отношения с гуннами были неизмеримо сложнее и совсем иного характера.
Гунны появились в 370 г. и шли широким фронтом через славянские земли, попутно вытеснив из Причерноморья готские и сарматские племена (их империя распалась в 452 г., после смерти Аттилы). Славяне в отличие от готов остались на своих местах и влились в гуннское государство на правах младшего партнера. Рассказ готского историка Иордана о столкновении остготов Винитария с антским королем Божем очень показателен. Винитарий, по Иордану, первоначально разбитый антами, затем сумел захватить предводителя антов в плен и «распял короля их Божа с сыновьями его и с семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покоренных».
Гуннский король, в свою очередь, выступил против Винитария, разбив и убив последнего, т. е. рассматривал славян как союзников, а готов — лишь как непокорных данников. Знаменательно, что сразу же вслед за распадом гуннского союза племен славяне начинают огромными массами переходить Дунай, захватывая земли Византийской империи, т. е. движутся по уже проторенной ранее дороге.

Ошибочно думать, что славянский мир в те далекие времена еще никак не проявлял себя или что воздействие кочевников было односторонним. Археология давно установила, что оседлые цивилизации оказывают большее влияние на кочевников-завоевателей, чем те на них. Византиец-историк Приск, присутствовавший на похоронах Аттилы, приводит слова «страва» (пир на тризне) и «мед» (название употреблявшегося у гуннов напитка), т. е. влияние славян в ту пору на гуннов было чрезвычайно значительным.
Мы говорим — чрезвычайно, ибо оба эти факта — распространение национального напитка с его самоназванием (мед — национальный напиток славян, кочевники гунны его не знали и не могли производить) и влияние на столь интимную и трудно поддающуюся инонациональным воздействиям часть жизни, как похоронный обряд, — говорят именно об огромном влиянии. Сказать об этом необходимо еще и потому, что в науке до сих пор не выяснено происхождение слова «богатырь» в русском эпосе. Слово это тюркское (боотур, богатур), но допустить, что оно заимствовано у монгол (как никак, противников Руси!) и успело полностью вытеснить из эпоса национальное название героя — не представляется возможным.

Законнее отнести укрепление у нас тюркского термина именно к IV—V вв, когда киевский этнос только складывался, т. е. был пластичен и восприимчив, а славяне, вошедшие в орду Аттилы как союзники, могли взять себе иноязычное слово без «потери достоинства». Национальным (более древним) названием героя было, по-видимому, «поляник», «поляк», или «полянин» (ср.: «поляница преудалая», «поляковать» и прочее), но слово «поляне» стало самоназванием всего племени («племя героев»), почему для обозначения собственно былинного богатыря и понадобился термин, перенятый от гуннов.
Однако и II—III века н. э., с коих начинается история Руси Киевской, далеко еще не являются начальным периодом появления славян на арене истории, как и не являются начальным периодом возникновения русского эпоса. Очень многое в позднейшей культуре Киевской Руси уводит нас к предшествующей эпохе скифского и сарматского господства в южно-русских степях, т. е. к середине и второй половине I-го тысячелетия до н. э., ежели еще не далее к самому началу I-го тысячелетия до н. э.
О тесных скифо-славяно-сарматских контактах начала новой эры свидетельствуют лингвистические данные и данные топонимики. Есть сведения, что на месте Киева был город с иным названием еще в те далекие времена. О древнем имени Киева упоминает Константин Багрянородный (VII в.). Еще ранее — во II в. — Птолемей знает город на Днепре выше Ольвии с названием «мать-город», сохраненном воспоминаниями еще XI—XII вв.
Славяно-сарматские связи прослеживаются и в узорочье. Так, принесение быка в жертву богине (голова быка у ее подножия) встречается в северно-русской вышивке и на золотой пластине сарматского женского головного убора. «В иконографии сарматской торевтики, так и в северно-русской иконографии шитья, изображения бычьих голов являются символами тавроболии».
Сарматы кровью этих животных причащались при отправлении культа великой богини. (В древнем Новгороде и в Архангельской губ. существовал обычай: для общественных пиров — братчин — откармливать быка на общественных лугах и сообща съедать, закалывая в праздник.)
Анализируя мотивы северно-русских вышивок — женская фигура в позе адорации, женская фигура и два всадника по обеим сторонам от нее, женская фигура и дерево, проф. Городцов делает вывод: «В искусстве народов, населявших территорию Европейской России до первых веков христианской эры и не принадлежащих к русской нации, мы не находим аналогии с описанным народным творчеством, но как только соприкасаемся с сарматскими древностями, то тотчас нападаем на искомые совпадения. Они прослеживаются и в скифских древностях, но очень слабо».
Сарматы родственны скифам. Во времена Геродота они еще жили на Востоке, в Задонских степях, и назывались савроматами. Общественная организация савроматов характеризовалась чрезвычайно сильными пережитками матриархата, что видно по захоронениям, в которых женщины часто погребались как воительницы — с луком и стрелами и прочим военным убором. Видимо, женщины-воительницы были главным образом стрелками из лука.
Отметим и заметим эту особенность. Потомки савроматов — сарматы (IV в. до н. э. — IV в. н. э.) ко II веку до н. э. перешли Дон, потеснив скифов, и вступили в тесные взаимоотношения со славянскими Зарубинецкими племенами. С I века до н. э. бывшая территория Скифии в низовьях Дона и Днепра получает у античных авторов имя Сарматии. Вскоре сарматы появились на Дунае. Лишь в III веке н. э. сарматы были потеснены в Причерноморье нашествием готов, а в IV в. разгромлены гуннами. Часть их перешла в Западную Европу, часть смешалась с окрестными племенами, в частности со славянами.
О постоянном смешении славян с сарматами путем перекрестных браков пишет еще Тацит. Тацит затруднялся, отнести ли ему венедов к германским или сарматским племенам, склоняясь к первому (см.: «О происхождении германцев»).
Археологические раскопки поселений лесостепной полосы Заднепровья подтверждают это сообщение, ибо в одних и тех же селениях встречены вперемешку два вида захоронений: с трупосожжением и трупоположением.
Смешение путем перекрестных браков — это путь к познанию и усвоению национальных обычаев, а также, возможно, и эпических традиций. (Внешние контакты: выплата дани, войны, — как правило, оставляют народную массу в неведении относительно внутренней организации жизни соседей.) Надо, впрочем, сказать, что эпос даже в таких условиях наиболее трудно заимствуется. Соседство славян с германскими народами, даже эпизодическое вхождение их в державу Германариха, в эпосе не оставило следов. Почти тысячелетнее существование бок о бок карел и новгородцев в Обонежье, Поморье, как уже говорилось, не привело к взаимному усвоению героического эпоса.
Причина этого в том, что эпос отражает тот духовный подъем, который испытывало племя, превращаясь в народ. И в позднейшей истории эпос оставался именно памятью открывшегося когда-то впервые самосознания нации. Понятно, что подобная внутренняя идея почти исключала возможность заимствования со стороны, столь обычную в жанре сказки или лирической песни, например. Эпос скорее мог отразить чужую эпическую стихию негативно, в образах «врагов». Так, можно предположить, что смешение славян с сарматами и пережитки савроматского матриархата у сарматских племен повлияли на создание образов поляниц преудалых русского эпоса — соперниц русских богатырей.
Сложнее установить связь праславян в Поднепровье со скифами. (Скифы появились в Причерноморье в VIII в. до н. э. и господствовали тут до IV в. до н. э., до появления сарматов.) Скифы — народ иранской группы, светловолосый и голубоглазый, создавший оригинальную и значительную культуру.
Отрицать связь праславян со скифами невозможно, учитывая иранские (скифские) заимствования в языке наших предков и особую близость, в пределах индо-европейского единства, иранской группы языков к праславянской, а также традиции «звериного стиля», как бы доставшиеся нам по наследству от скифского узорочья, как и установленный факт вхождения иранских божеств в древнерусский пантеон (Хорса, Симаргла и Сварога), что говорит о долгом и тесном взаимодействии.
Геродот (середина V в. до н. э.) пишет о скифах в четвертой книге своей «Истории», подразделяя их на царских скифов, кочевников, скифов-земледельцев и скифов-пахарей, привязывая последних к Поднепровью, месту обитания позднейших славян-антов. «Скифией» называли земли, заселенные славянами, и позднейшие византийские историки. Можно предположить, что уже скифы-пахари были не скифами, а предками славян Поднепровских.
Во всяком случае, так считает акад. Б. А. Рыбаков, относящий поселения праславян в Поднепровье ко времени еще более раннему, чем приход скифов, а именно к концу II тысячелетия до н. э. — началу I тысячелетия до н. э.:
«Накануне нашествия скифов днепровское лесостепное Правобережье, а также долина Ворсклы были заселены земледельческим населением, говорившим на славянском (точнее праславянском) языке» (по данным гидронимии). Скифы-кочевники, придя в Среднее Поднепровье, восприняли занятие оседлых праславянских племен (потомков чернолесских племен), так что скифами были больше по названию. В свою очередь «скифы-иранцы влияли не только на внешний быт, но и на язык, и на религию праславян.
Влияние, по всей вероятности, шло через славянскую знать, и началось оно довольно рано, когда скифы только что возвратились из своих многолетних победоносных походов в Малую Азию и сменили в степях киммерийцев. Пышная скифская мода уравнивала славянских всадников и купцов с настоящими скифами и делала их настолько сходными в глазах греков, с которыми днепровские земледельцы вели торговлю хлебом, что греки называли их тоже общим именем скифов». Геродот называл потомков носителей чернолесской культуры по географическому признаку «борисфенитами», а по экономическому — «скифами-пахарями».
Многие археологи давно уже, начиная с Любора Нидерле, предполагали, что под этими условными описательными наименованиями, скрываются славяне. Геродот писал о ежегодном празднике у «скифов», во время которого чествовались якобы упавшие с неба священные земледельческие золотые орудия — плуг и ярмо для быков — и другие предметы.
Поскольку Геродот одиннадцать раз писал о том, что настоящие скифы-скотоводы, кочующие в кибитках, не имеющие оседлых поселений, варящие мясо в безлесной степи на костях убитого животного, не пашут землю, не занимаются земледелием, постольку для нас ясно, что при описании праздника в честь ярма и плуга он имел в виду не кочевников-скифов, а народ, условно и ошибочно называемый скифами. Это самое Геродот и сказал словами: «Всем им в совокупности (почитателям плуга) есть имя — сколоты по имени их царя. Скифами же их назвали эллины».
***
Прежде чем переходить к обзору былинных сюжетов, необходимо сделать еще одно замечание общего характера. В эпосе в форме, казалось бы, редкостных или «личностных» эпизодов отражаются, как правило, большие, значительные для всего народа события. Судьба героя как бы вбирает часть общенациональной судьбы.
В самом бытии эпического сюжета, как установлено многочисленными исследованиями, костяк, схема сюжета сохраняется наиболее прочно (как и образ героя). Детали, антураж меняются от эпохи к эпохе (особенности вооружения и одежды, денежные эквиваленты и прочее). Сама же сюжетная конструкция сохраняется чрезвычайно долго и сохраняет в себе иногда уже в виде мертвых рудиментов, внешне не имеющих смысла, память глубочайшей старины, память той поры, когда эпос только еще складывался.
Эта особенность эпоса дает в руки исследователя надежный ориентир для снятия последовательных пластов, наложенных на сюжет временем. Скажем тут, что за всякими чудесными или непонятными явлениями в эпосе всегда стоит что-то, во что наши предки свято верили как в живую реальность (именно таковы были когда-то для далеких пращуров змеи и прочие мифические существа).
Не повторяя здесь того, что эпос прежде всего искусство и что само построение эпических сюжетов, поэтическая трансформация фактов реального бытия творились по канонам эпической поэтики, напомним: в согласии с мифом как высшей реальностью проверялась и организовывалась предками текущая, окружавшая их бытовая действительность.
Увы, мифология наших предков не исследована и до сих пор. Известно, что праславяне относятся к иранской ветви арийской группы народов; известно, что они были солнце- и огнепоклонниками, что ко времени знакомства с ними византийских историков (VI—VII вв.) переходили к единобожию, а вскоре начали принимать христианство (еще до общего крещения Руси Владимиром). Знаем мы перечень богов языческого пантеона, поставленных князем Владимиром в Киеве. Всего этого, однако, слишком мало, ибо мы не знаем самих мифов древних славян. Вопрос к тому же усложнен многочисленными племенными миграциями.
Были, по крайней мере, две волны славян — южные (с окончанием на «яне» — «поляне», «древляне», «северяне» «волыняне» и прочее) и северные, которые в начале нашей эры, потеснив ругов и вандалов, добрались до побережья Балтики, а оттуда двинулись на Восток (племена с окончанием на «ичи» — «бодричи», «лютичи», «кривичи», «вятичи», «радимичи», «дреговичи» и прочее).

Возможно, что с Балтики они принесли с собою культ Святовита, ставшего на Руси Перуном. У славян балтийских зарегистрирован культ птиц, общий всем славянам, культ коня и ряд антропоморфных многоглавых божеств, опять же без сопровождающих мифов. Сверх того, заселив к VII—VIII вв. обширные пространства Волго-Окского ареала с финно-угорским населением, славяне могли впитать и какие-то черты местной мифологии.
К счастью, более или менее известна мифология скифов, наших древних соседей, возможных предков и вероятных соперников.
Столкновение со скифской мифологией, своеобразный эпический спор с нею (знак рождения нового народа) прослеживается в ряде сюжетов русских былин, в том числе в былине о Вольге и Микуле.
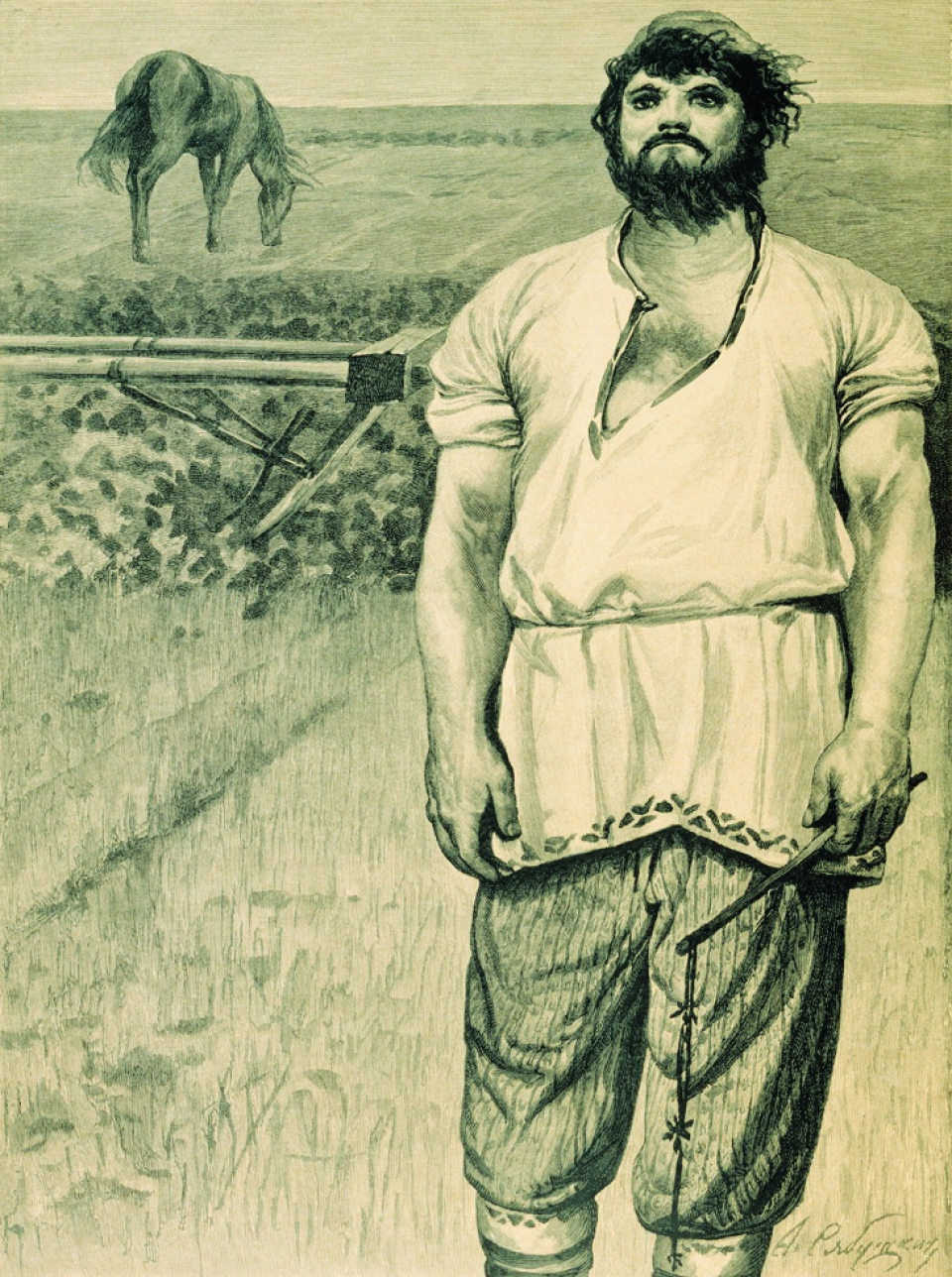
Микула Селянинович, богатырь-пахарь, получил чрезвычайную популярность в народе в новейшее время как обобщенный символ русского крестьянства. Однако в облике Микулы, в том, что он вспашет, насеет ржи, сделает солод, сварит пиво и напоит им мужиков, ощутимо проглядывают черты древнего культурного героя — создателя и подателя земных благ.
Сюжет былины внешне очень прост, даже элементарен. Князь-воин Вольга встречает богатыря-пахаря и зовет с собою взимать дань с городов, данных князю в кормление, поскольку дань требуется взимать едва ли не силою. (Ситуация раннекиевская, до наделения служилого князя землею и даже до установления правильного взимания даней, введенного, судя по летописи, только княгиней Ольгой.)
Но ощутимым образом сам этот поход за данью отходит куда-то на третий план, а почасту и вовсе забыт. Сюжет сосредоточен вокруг сошки Микулы, которую дружина Вольги не может выдернуть из земли, а Микула с легкостью зашвыривает за ракитов куст (а в некоторых вариантах и на небо). По сути вся былина посвящена выяснению, кем же является встреченный Вольгою пахарь? Конструкция былины такова, что она как бы намекает: неизвестный Вольге пахарь есть в другом кругу отношений вполне известное лицо. Что же это за круг отношений?
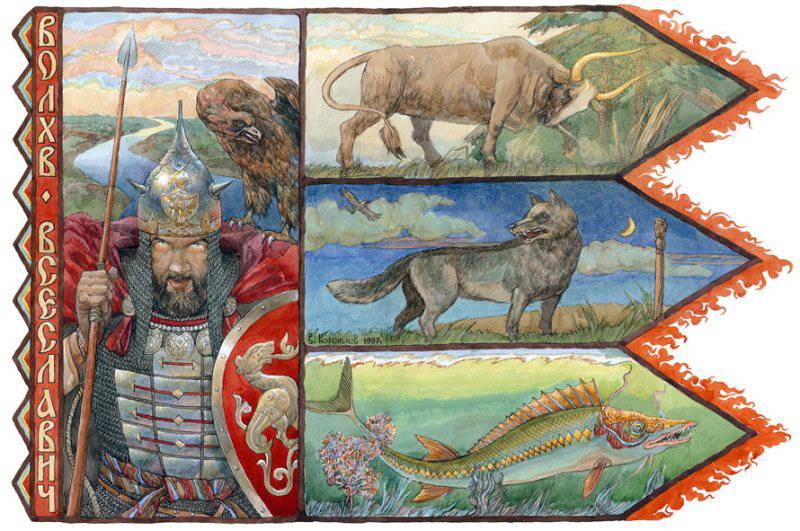
Начнем с того, что Вольга и кудесник, и оборотень, он способен оборачиваться волком и щукой-рыбою. С другой стороны, состязаются они отнюдь не в рыцарских доблестях. Перед нами больше, чем состязание между пахарем и воином: перед нами соревнование двух типов культуры, первая из коих опознается как славянская, народная, вторая — княжеско-дружинная, пришлая.
Вот «соловенькая» кобылка Микулы, оценить которую оказывается не способен кудесник Вольга, — параллелью к ней вспоминаются золотистые кони из алтайских погребений, кони, цвет которых (рыжий, светло-рыжий, золотисто-желтый) связан с солнечным культом. В оценке стоимости коня князь-воин той поры, когда от лошади зависела сама жизнь всадника, ошибиться никак не может. Вольга ошибается потому, что принял волшебного коня (коня бога) за обычного.
Вот сошка с серебряным или золотым наральником, которую дружинники Вольги не в силах выдернуть из земли, а Микула обязательно закидывает (за куст или за облако — безразлично); поскольку соху, достаточно тяжелое да и ломкое орудие, никто никогда не кидал, действие тут — не простое, а имеющее скрытый смысл. Соха Микулы — далекое эхо священных золотых земледельческих предметов, по скифской легенде, рассказанной Геродотом, доставшихся одному из братьев, родоначальнику скифских царей.
Согласно скифскому мифу, скифы произошли от брака первопредка Таргитая и змееногой богини, родившей трех сыновей: Липоксая, Арпоксая и Колаксая. С неба падают чудесные дары, золотые, воспламеняющиеся при приближении недостойного (т. е. огненные), — чаша, секира (или лук со стрелами) и плуг с ярмом, достающиеся младшему брату, Колаксаю, родоначальнику скифских царей. Поскольку скифам, никогда не занимавшимся земледелием, плуг с ярмом ни к чему, можно почесть подобную версию позднейшей.
Истолкование имен трех сыновей Таргитая дает понять, что эти три брата в первоначальной ипостаси своей поделили между собой верхний, средний и нижний миры, а в земном (социальном) плане образовали касты жрецов, земледельцев и воинов. Арпоксай, средний брат, «владыка глубин» и «властитель Днепра», дал начало земледельцам.
Скифский миф выкристаллизовался из общей иранской мифологии, где занятие земледелием считалось чрезвычайно почетным, сохранив, пережиточно, идею старшинства (воины пошли по этому мифу от младшего брата), но переиначив и переставив акценты. Допустимо предполагать наличие иной исходной версии мифа, где все братья получают дары, определяющие их предназначение и, соответственно, Арпоксаю вручается золотой плуг.
Имя Микулы — по́зднее, а его отчество Селянинович означает «землепашец». Ореол славы, сакрализация, постоянно сопутствуют образу Микулы в русских былинах, легендах и сказаниях. Микулу в народной традиции воспринимали как бога «всей Руси», крестьянского покровителя, святого Николу. Сакрализация сопутствует также и образу плуга, сохи и самому акту пахоты. Большие земляные валы скифского времени, сооруженные с оборонительной целью в Среднем Приднепровье, по легенде, появились в результате пахоты героя (или двух героев), запрягшего в плуг крылатого змея и пропахавшего борозды в степи до самого моря.
Так появились знаменитые Змиевы Валы — напоминание о борьбе пахарей с кочевниками. Сказания о боге-пахаре были довольно распространены в Древней Руси: по свидетельству византийца Евстафия (XII в.), у тавров в Северном Причерноморье «Озирис, запрягши вола, пахал землю». В славянском языческом пантеоне, по мнению Б. А. Рыбакова, Озирису соответствовал бог Род, божество более архаичное, чем Перун или Дажьбог эпохи Владимира, и соответствующее первым земледельческим культам.
Не случайно Микула (иногда просто чудесный путник, выполняющий какую-то особую, божественную миссию) оказывается носителем «тяги земной» в былине о Святогоре. Сумочку, сброшенную с плеч Микулой, Святогор не может оторвать от земли и надрывается. Признав себя побежденным, Святогор просит Микулу указать ему, где он может узнать свою судьбу?
Оказывается, что Микула наделен и этим даром: он знает кузницу, где кузнец кует судьбу людям (Рыбн., I, добавление к № 8, с. 39—40).
Микула в своей первой ипостаси — явный культурный герой. Он пашет один — ибо изобрел пахоту, он собирает урожай один — ибо прочие еще не умеют делать хмельной напиток. Вместе с тем Микула уже прямой богатырь.
Стоит лишить его образ эпических гипербол — этой преувеличенной силы и красоты облика — и образ исчезнет, перестанет существовать, хотя сила его не проявлена или почти не проявлена в воинских сшибках. (Следует лишь рассказ о его богатырской поездке за солью.)
Конкретное столкновение Вольги и Микулы есть столкновение-соревнование предков разных племен, в художественной форме отражающее, по-видимому, возникновение раннеплеменных союзов, закончившееся созданием киевского каганата.
С течением времени творцы эпоса, сохраняя сюжет, обогащали его новыми смыслами. На первое место выдвигалось утверждение земледельческого типа хозяйствования и прославление труда пахаря.
Микула как герой-предок сельской, пашенной Руси получил исключительное место среди русских богатырей, определив в чем-то коренные психологические особенности славянина-пахаря на века вперед. Отсвет Микулы ложится и на Илью Муромца, крестьянская прямота и хитроватая скромность которого, наряду с огромным внутренним достоинством, находят прямую аналогию в характере и поступках Микулы.

Как Илья привозит Соловья к терему Владимира, выслушивает покоры и срамит затем бояр толстобрюхих, так и Микула под видом простодушной просьбы о помощи срамит дружину Вольги. Илья, переняв от Микулы черты крестьянской психологии, становится главою русского богатырства. Но Илья уже развернут в новом качестве и в новой эпохе.
Он крестьянин, ставший воином, поэтому с отходом воинского сословия (генетически образовавшего помещичий класс) от национальных начал, самым ярким эпическим социальным антиподом вырождающемуся классу, потерявшему свои исторические права на власть (они определялись воинским служением Родине), самым ярким антиподом — по оценке русской общественной мысли конца XIX — начала XX в. — становится среди былинных героев даже не Илья Муромец, а самый древний герой — Микула.
Это герой-предок народа-землепашца, вся историческая судьба, успехи и неудачи, слава и бесславье которого были связаны с земледелием, с «орамою» пашней и хлебом — основой жизни, торговли, благосостояния страны, развития ремесел, городов, промышленности и военного могущества.
Герой-предок, в образе которого — корневая историческая судьба народа, получившего золотой плуг прямо «с неба» как первый дар, определивший его жизнь и судьбу (рискнем на сопоставление, пока, как выше говорилось, несколько гипотетичное). Этот герой, по прозванью Микула Селянинович, стал самым ярким выразителем характера нации в целом, обобщенным выразителем русского народа.
Древнейший, праславянский, с явным влиянием скифо-сарматской мифологии пласт русского эпоса может быть выявлен также в былинах о Потыке и Дунае — о героях, не менее популярных в народе, чем Микула, Илья Муромец, Добрыня и Алеша.
Сюжет былины о Потыке сложен, многосоставен.

Центральным эпизодом былины следует признать его состязание с Марьей Белой Лебедью, которая сперва становится его женой, положив заповедь, что ежели кто из них первый умрет, второй обязан лечь в гроб вместе с покойником. Марью хоронят в срубе, куда Потык спускается с оружием, запасом пищи, железными, медными и оловянными прутьями. В могиле он встречает «змею подземельную», бьет ее и побеждает, оживляя Марью, после чего выходит с нею из могилы (в дальнейшем Марья пытается победить Потыка колдовством).
Перед нами сюжет, явно связанный с мифологическими и ритуальными представлениями предков. Имя героя — Потык — скорее всего может быть прочтено как «Потъка», т. е. птица, птичий (вспомним культ птиц у славян!) Двойная — змеино-птичья природа Марьи Лебеди Белой и форма срубного захоронения, напротив, уводят нас к иноязычным культурам народов алтайской группы (в частности к ирано-язычным скифам: славяне сжигали своих мертвецов).
Геродот, говоря о мифологии скифов, повествует, что они произошли от брака Геракла-Таргитая со змееногой богиней, заманившей его в пещеру, где он и принужден был с нею жить, пока она не родила трех сыновей, ставших племенными предками скифов. Заметим, что змееногая богиня сама настояла на сожительстве с Гераклом-Таргитаем, который отнюдь не остался с нею и не взял детей с собой, т. е. в мифе отражены отношения материнского права. Затем, что также точно, и Марья Лебедь Белая сама настойчиво сватается за Потыка, предлагая себя в жены (изображения змееногой богини в археологических материалах показывает ее всегда с крыльями — не отсюда ли «лебединая» сущность Марьи?).
Однако в скифской легенде о змееногой богине речь идет о рождении, а не о смерти-поглощении, как в былине о Потыке. Вспомним, что смерть и рождение в мышлении древних — это амбивалентные, взаимообратимые понятия. В былине речь идет о браке, инициатором которого является Марья Лебедь Белая.
Она же предлагает и уговор:
лечь живому с мертвым в землю. Поскольку захоронение производится на чужой, скифо-сарматской основе, нельзя ли увидеть во всем этом эпизоде намек на ту пещеру, в которой Геракл-Таргитай был принужден к сожительству со змееногой богиней?..
Тем более что характер «смерти» Марьи в былине очень условен. Потык, узнав о гибели жены, опускается в могилу отнюдь не умирать, ибо берет с собой еду и оружие для боя (в том, что он предвидит необходимость борьбы, проявляется острый смысл Потыка, свойственный героям-первопредкам). Не забудем к тому же, что «умирает» Марья, будучи беременной, и всегда в отсутствии Потыка. (А в могиле являются змеёныши, сосущие грудь Марьи.) Перед нами нечто, вполне отличное от смерти-уничтожения. Марья умерла, но только в одном смысле: она умерла для Потыка, и, возможно, хочет, чтобы и Потык «умер» для себя, для своего народа.
Сама же Марья возвращается в свой род. Возможно даже, что изначально она рожала детей, которые по закону материнского права должны были безусловно принадлежать ей, а не Потыку. Перед нами смерть-рождение с возвращением в род жены, т. е. ситуация, сходная с той, в которой оказался Геракл-Таргитай, плененный змееногой богиней.
Брак Потыка с Марьей Лебедью Белой отражает столкновение славян со скифо-сарматским миром, где брачный союз, как и союз славян со «степью», таит в себе опасность гибели-поглощения героя.
Но тут-то как раз и вступает в дело героическое эпическое начало, начинается спор с мифом, а торопливость Потыка лечь в землю с женой получает полное объяснение. «Смерть» Марьи — продолжение спора о семейном праве, спора, усиленного национальным соперничеством.

Потык, славянский герой-предок, попав в ситуацию скифского мифа, действует, так сказать, «прямо наоборот». Проявляя свойственный культурному герою ум, он побеждает чужое начало (в образе змеи), заставляет змею воскресить Марью, иначе говоря, возвращает себе Марью уже на основании мужского семейного права, как хозяин. Чем тут же закладывается основа конфликта второй части былины, в которой порабощенная Марья попытается освободиться от своего повелителя-мужа.
Итак, смысл конфликта в том, что Потык одолевает в сложной и многообразной борьбе чужое скифо-сарматское начало, утверждая в форме новых патриархальных отношений героическое самосознание племени. В добывании Потыком жены и споре с нею отразилось общенародное (племенное) столкновение славян со степными ираноязычными народами, некогда подчинявшими их своей власти или — включавшими праславян в свой культурный ареал, порыв возникающего народа к духовному высвобождению из-под гнета чужих обычаев, героический пересмотр неравноправного союза.
Можно предполагать, что сюжет Потыка в его дальнейшем развитии слагался далеко не сразу, ибо тут уже Потык не «культурный герой», а богатырь, пытающийся противопоставить волшебству Марьи свою силу богатырскую. Лишь здесь у него богатырский конь, оружие, палица — без коня он не может совершать своих подвигов. Тут он по-богатырски расправляется с тысячами врагов и т. д.
Еще позже произошла ориентировка былины на Литву и литовского короля, а Потык начинает выступать против недальновидных «мужиков киевских», готовых откупиться от врагов за чужой счет. Однако существо конфликта «своего» и «чужого» не потеряло и тут своей остроты. «Чужое» стало литовским, золотоордынским началом — Потык отправляется за Марьей как в «Золотую Орду», так и в Литовское царство, но оно по-прежнему осознается не только как начало иноземное, но и как колдовское, потустороннее, сверхъестественное.
Сюжет «Потыка» синтезировал в себе накопленные представления о столкновении с силами «того света» и о возможных путях борьбы с ними. Именно по этой линии происходит привлечение в сюжет христианской символики и образности. (Марью хоронят при церкви, по приговору «попов соборных», веревка из могилы привязана к церковному колоколу и т. д.)
Поставим вопрос: а когда этот сюжет стал именно былиной? Когда в его художественной структуре утвердился принцип гиперболизации?
Приглядываясь к мифологическим персонажам и героям — предкам мифологических структур, мы видим, что в них, в их описании, еще нет представления о мерности, нет понятия о точных размерах героев. Так, Хун-Ахпу и Шбаланко, братья-предки из преданий народа майя, играют в мяч с «владыками Шибальбы» — богами подземельного царства, но, вынужденные ночью остерегаться убийства, прячутся внутри своих выдувных трубок, причем рассказчик отнюдь не оговаривает их предельного уменьшения в этот момент. Так же точно сибирский Ворон-предок произвольно принимает совершенно разные размеры. Понятие точной меры — вернее сказать, сам принцип мерности как художественный принцип — открывается только в эпосе. Из него и рождается эпическая гипербола.
Можем ли мы обнаружить в древнейшей части «Потыка» названное представление о мерах вещей? Да, можем. Вся процедура захоронения предусматривает наличие такой меры. И размеры могилы, и потребность в запасах, и обстоятельства захоронения требуют как исходного условия, чтобы герой и героиня соответствовали каким-то точным человеческим измерениям. То есть Потык в самом зародыше сюжета выступает уже не как безмерное (великое-малое) мифическое существо, а как персонаж, наделенный реальной земной плотью и человеческими пропорциями.
Пелась ли былина в те далекие времена? Ответить на этот вопрос утвердительно можно только по аналогии. Но аналогия в этом случае не знает исключения. Рождавшийся эпос скорее на поздней стадии, при переработках-пересказах принимал прозаическую форму, создавался же он, возникал всегда в готовой песенно-повествовательной форме.
Образ Потыка был существенно дорисован и изменен в «героическую эпоху». Однако певцы вынуждены были считаться с характером сюжета и с характером уже созданного героя. В его облике культ физической силы и духовной одноплановой бескомпромиссности развитого воинского эпоса не мог быть выражен в полной мере. На первое место выдвигаются богатыри-воины, Илья и Добрыня.
К достаточно глубокой старине, — во всяком случае ко времени славяно-сарматских контактов, — следует отнести и основной костяк былины о Дунае, чрезвычайно популярном богатыре, которого народные сказители обычно ставят на второе место после Ильи Муромца и выше Добрыни. (Подробность, мало замечавшаяся прежними исследователями.) Из былины этой следует сразу вычленить генетически позднюю тему добывания жены для князя Владимира уже в «киевский» период развития русского эпоса.

То, что Настасья-поляница и Апракса — родные сестры, есть знак сшива двух сюжетов друг с другом по принципу противопоставления двух типов брачных отношений. Поздняя подробность — и заточение Дуная князем Владимиром. В родоплеменном обществе тюрем не существовало, и неугодный племени человек изгонялся или убивался. (Скорее тут можно предполагать след древнего сидения в каком-то замкнутом помещении для накопления силы.)
Изначальными элементами сюжета можно счесть встречу и тяжелый поединок с Настасьей (поединок с частичным поражением Дуная, которому Настасья стрелой выбивает глаз), последующий брак, ссору на пиру, убийство Дунаем беременной Настасьи и самоубийство Дуная, причем из крови погибших протекают реки — «Непра-река» (Данапр, Днепр) и «Дунай-река». При этом упорно подчеркивается, что река из крови Настасьи, по-разному называемая, — степная река. (Вспомним, что Данапр-Днепр — река, пограничная со степью; для славян она же — граница Скифии. Вспомним и то, что скифские божества рек были женского рода.)

С другой стороны, Дунай — название священной реки славян, повсеместно, до Польши и Литвы, повторяемое в припевах песен. Допустимо предположить наличие в глубокой древности антропоморфных племенных божеств рек, допустимо предположить особую связь со священной рекой племенного культурного героя и т. д. — для конкретизации подобных предположений былина о Дунае не дает ничего, кроме имени героя и его обязательной связи с рекой Дунаем, протекшей из крови богатыря.
Однако память о том, что Дунай дал начало и имя священной реке, упорно сохраняется во всех вариантах былины, и это едва ли случайно. То есть в праоснове сюжета перед нами опять культурный герой-первопредок, в данном сюжете своей смертью послуживший созданию обитаемого мира.
В самом же сюжете встречи-состязания Дуная с Настасьей допустимо видеть столкновение славян с сарматами, перекрестные браки с которыми отмечал еще Тацит. (Свести все русские былины с поляницами к бродячей легенде об амазонках не представляется возможным.)

Поляницы преудалые русского эпоса чрезвычайно оригинальны. Это — степные наездницы и вместе с тем, после сражения с героем, — жены богатырей. Допустить их корневое славянское происхождение едва ли возможно, этому противоречит факт упорной, постоянной борьбы с ними русских героев, хотя нарицательное имя этих наездниц — «поляницы» — славянское.
По-видимому, надо признать женщин-поляниц сарматскими конными воительницами, а наличие славянского названия их означает, что представления о поляницах утвердились в эпическом творчестве до появления в русском языке тюркского слова «богатырь», название женщин-воительниц не изменилось, ибо из живого бытия они уже исчезли.
Сюжет «Дуная», посвященный отношениям со степными воительницами, и должен был возникнуть в пору актуальности подобной темы в славянском мире, т. е. в первые века нашей эры. Именно ранним сложением сюжета объясняется некоторая чужеродность Дуная кругу богатырей князя Владимира.
Сама тематика сватовства эпического героя не является принадлежностью одной лишь древности. Менялись по эпохам лишь мотивация и характер отношений. Так, начинает отвергаться как колдунья «жена из того мира», все ярче определяется победа патриархата в мышлении эпических певцов, появляется тема государственного служения (добывание невесты князю). Сюжет «Дуная» в этом смысле составной, объединивший две эпохи — докиевскую и киевскую.
Сюжеты добывания жены, возникшие в героический период, имеют общую закономерность: так или иначе жена «из того мира» или из «чужих земель» (т. е. суженая по древнему родовому праву) начинает отвергаться. Эпические конфликты той поры объясняются спором отцовского и материнского права.
Садко, который отказывается, в порядке эволюции сюжета, от брака с водяной девой, только потому и попадает домой, иначе ему бы пришлось остаться в подводном мире (в роду жены). Весь длинный ряд конфликтных отношений Потыка и Марьи Лебеди Белой объясняется тем же самым.
Напряженная идея утверждения отцовского права в семье окрашивает все сюжеты поисков жены, созданные в раннюю героическую пору. Былина об Иване Годиновиче, если совлечь с нее позднейшую обработку, в основе представит тот же конфликт борьбы за мужское отцовское право, и борьбой за то же мужское родовое право объясняется столкновение Добрыни (Ильи) со Златыгоркой.
Той же борьбой — быть ли мужчине в роду жены, т. е. (поэтически) в женском подчинении, или нет — объясняется и исходная основа былины о Добрыне и Марине. Черты киевской гетеры Марина получила гораздо позже, а ее перетолкованный брак со змеем уводит нас к очень древним представлениям.
В конце концов в былинах с тематикой сватовства выработалось два устойчивых сюжетных варианта. По одному — жена принадлежит к «иному миру». Герой в поисках жены должен покидать родину (род). Такая жена оказывается волшебницей и обманщицей и отвергается.
В другом варианте жена — дева-богатырь, герой должен победить ее в бою, после чего заключается брак, и герой приводит жену к себе (т. е. в свой род), чем утверждается патриархальное право. Такая жена принимается (Настасья Микулична, жена Добрыни).
В том и другом случае жена обычно «суженая», т. е. предназначенная по родовому праву.
В группе сюжетов, где жена выступает первоначально «поляницей преудалой» и победа над ней — условие брака, «Дунай» является не только, без сомнения, лучшим сюжетом, но и некоторым центром, фокусирующим в себе все наиболее острые проблемы подобного столкновения.
Дунай побеждает Настасью-поляницу в поединке настолько тяжелом, что исход его долго не ясен. По вариантам — герой даже получает увечье, теряет глаз, простреленный Настасьей. Поляница — искуснейший стрелок из лука, и Дунай справляется с ней только в ближнем бою.
Одолев Настасью, Дунай привозит ее к себе в качестве жены, но оказывается, что поляница еще не укрощена. На пиру она перечит Дунаю, «сбивая» его с хвастовства да еще утверждая, что сама превосходит Дуная в чем-то, а именно — в стрельбе из лука. Очень простой была бы коллизия, ежели бы Настасья лгала или заносилась.
Но создатели былины пошли по труднейшему (поэтически) и поэтому самому интересному пути: Настасья говорит правду. Дунай не хвастун, не трус, но богатырь истинный, быть может, более яростный, менее сдержанный, но для эпического героя богатырская ярость никогда ни в каких эпосах не была зазорным свойством.
Не забудем к тому же, что в праоснове сюжета перед нами вероятное столкновение культурных героев, что и он, и она — божества главных рек. Дунай в какой-то дополнительной смысловой нагрузке — мифологический предок своего народа. Он, Дунай, герой-река (река священная!), в нем (в связи с именем) сохраняются черты главного представителя своего народа, он и Настасья — это славяне и степь.
Вопрос: кто — кого? — вопрос рождения и утверждения этноса и вопрос, каким будет этнос, чье национальное начало победит и утвердится в борьбе.
Что так ощущали, так представляли конфликт наши предки, древние создатели этой былины, доказывается, в частности, последующим развитием сюжета. Дунай берет себе старшую из сестер (добывая князю Владимиру младшую), поскольку генетически он — племенной первопредок и, значит, старший относительно князя.
Именно Дунай оказывается достоин добыть невесту князю, ибо он выдержал от лица своего племени спор со степью, утвердил национальное начало в межэтнических брачных отношениях.
Итак, Дунай должен, обязан укротить до конца поляницу, как и подобает герою, богатырю и представителю своего племени. Он вызывает Настасью на новое, крайне невыгодное состязание — в стрельбе из лука. Состязание в меткости Дунай проигрывает. Создается противоречие самое нестерпимое.
Победив поляницу, сделав ее женою и тем самым утвердив мужскую власть в семье, Дунай теряет эту власть тотчас после брака, причем Настасья побеждает его и словом (переговаривает), и умением (меткостью). Конфликт поднимается на необычайную высоту.
В эпосах германских народов подобная коллизия развернута в ином плане. Женщина из чужого племени становится злым роком героя. Коварством и речами приводит его к гибели.
В былине, стремясь порвать незримую цепь, связывавшую героя, и любым путем утвердить непререкаемость мужского авторитета, Дунай убивает Настасью.
Нет, он этим не доказывает некоей неполноценности. Напротив, Дунай здесь, как нигде, богатырь, идущий, не разбирая пути, до конца, до предела.
И тут, видя, что Дунай намерен ее убить, — Настасья произносит знаменитый, шлифовавшийся веками монолог-просьбу. Жена не просит пощады, не кается. Она даже не протестует против убийства (пусть только он убьет ее позднее!).
Возможно, чувствуя неслиянность двух национальных прав в гармоническое одно, без ущемления одной из сторон, она просит дать ей отсрочку, чтобы успеть родить, она просит пощадить детей (или сына-богатыря).
Просьба эта описана порою с потрясающей силой. Настасья готова на любые муки:
Ай же, Дунаюшка Иванович!
Лучше ты мне-ка-ва пригрози три грозы.
Первую грозу мне-ка пригрози:
Возьми ты плеточку шелковую,
Омочи плетку в горячу смолу
И бей меня по нагу́ телу.
И другую грозу мне-ка пригрози:
Возьми меня за волосы за женския,
Привяжи ко стремены седельному,
И гоняй коня по чисту полю;
А третью грозу мне-ка пригрози:
Веди меня по улицу крестовую,
И копай [по перькам] во сыру землю,
И бей меня клиньями дубовыма,
И засыпь песками рудожелтыма,
Голодом мори, овсом корми,
А держи меня ровно три месяца,
А дай мне-ка че́рево повы́носити,
Дай мне младенца поотро́дити,
Свои хоть семена на свет спустить.
У меня во чреве младенец [есть],
Такого младенца во граде нет:
По колен ножки-то в серебре,
По локоть руки-то в золоте,
По косицам частыя звездочки,
А в теми печё красно солнышко.
(Гильф. II, № 94)
Дунай не дает этой отсрочки.
Приведенная выдержка — явно средневекового характера. Возможно, в древнем варианте все было гораздо мягче: возможно, изначален вариант невольного убийства (не попал в цель). Такая, в силу несчастного стечения обстоятельств, смерть матери, оставляющей недоношенного героя, встречается в архаических эпосах.
Добавим, что в ряду древних поэтических эпических формул стрельбы из лука есть эротический символ, и попадание в цель есть зачатие ребенка. Однако итог (убийство и смерть) от этого не меняется.
Веками углубляя изначальный конфликт сюжета, певцы достигли такой трагической высоты, такого совершенства драматического конфликта, которые поражают в былине.
Убив жену и тем самым подтвердив свою власть над ней, Дунай, однако, совершает страшный грех.
Убей Дунай Настасью в бою — на то и бой богатырский (убивает же Добрыня Златыгорку).
Но Дунай поднял на нее руку в тот момент, когда Настасья уже стала его женой, и не просто женой — в этом-то все и дело! — а матерью будущего героя. И Дунай, таким образом, поднял руку на патриархальное родовое право — то самое, защищать и утверждать которое он был призван всеми своими силами. Недаром Дунай непременно проверяет слова жены, взрезывает ей чрево и обнаруживает чудесного, но — увы! — недоношенного младенца. Трагический конфликт достигает своей высшей точки именно в этот момент.
По суровым воззрениям предков, потомок богатырского рода стоил дороже, чем женщина-жена, жена же ценилась в первую очередь как мать. Вот тут Дунаю и предстоит навек покрыть себя позором, вот тут грозит ему развенчание. Но не вздохнув, не дрогнув, не задержавшись даже на мгновение, Дунай совершает единственный оставшийся ему подвиг, по-прежнему утверждающий в Дунае героя, — убивает себя.
И величавым заключительным аккордом звучат последние слова былины, что из крови Дуная и Настасьи протекли две реки (обычно неслиянные или сливающиеся в конце своего пути). Заключение это, как говорилось выше, не может быть поздним (учитывая имя героя — Дунай и значение реки Дуная в жизни славян).
В нем обнаруживается след древних, еще мифологических воззрений. Смерть — начало новой жизни или новой формы существования, смерть существа, близкого мифологическим персонажам, — тем более. В мифологии вообще ведь нет абсолютного уничтожения. Части тела уничтоженного бога обычно идут на создание частей вселенной, и ничто не исчезает без всякого следа, тем более кровь, живительная влага, вода жизни.
Идея эта трансформировалась в образ, когда смерть человека дает начало чему-то движущемуся, текущей воде (как здесь) или растению. Позднее тот же мифологический взгляд породил традицию полагать гибель героя или героини началом какого-то уже человеческого, протяженного во времени созидания — основания города, например.
Как поэтический прием подобные заключения пережили и самый эпос, перейдя в последующие жанры, в балладу, в частности. Любопытно с этой точки зрения, что в некоторых вариантах «Дуная» образ реки заменен полностью или частично образом сплетающихся растений — знак позднейшей обработки сюжета.
Дунай, добывающий невесту Владимиру, знаменовал передачу традиций древнего славянского придунайского центра новому центру — киевскому. Так поэтически выражалась преемственность этнических традиций. Дунай, совершивший подвиг утверждения славянского начала в борьбе с сарматским, сохранивший в имени своем память о прародине, оказывался тем героем, который устраивал брак киевского князя, т. е. утверждал новую славянскую государственность.

Скажем тут, что в сватовстве Владимира в этой былине совсем не обязательно видеть реальное сватовство Владимира Святославича к полоцкой княжне Рогнеде, скорее наоборот — летописное сватовство изложено по былинным мотивам.
Если мы посмотрим известия о браках русских князей и княжон, сохраненные начальной летописью (сверх того, есть любопытное сообщение о дочерях князя русов у Ибн-Фадлана), невозможно отделаться от впечатления, что конфликтных ситуаций, родственных описанной в сюжете «Дуная» (таких, где невеста для князя добывается почти с бою), хватало и что в изложении их явно присутствует момент поэтического обобщения.
Образ Дуная весь построен уже с помощью эпических гипербол, свойственных героической эпохе. (Тут можно вновь напомнить типические детали описания и чару в полтора или полтретья ведра, и богатырское седлание коня, и преувеличенную тяжесть вооружения, и демонстрировать силы героя.)
С помощью этих гипербол всякое обычное в средневековье действие получает значительность. Причем певцов отнюдь не заботит натуралистическое подобие. Настасья в бою — бесстрашный, презирающий смерть богатырь. Настасья перед смертью — мать, умоляющая пощадить сына.
Тут ярко сказалась условность гиперболы, о которой говорилось выше. Почему могучая, едва одоленная в трудном бою Настасья так рабски покорно ожидает казни и просит «пригрозить ей три грозы»? Да потому только, что в том и другом случае эпический певец гиперболизировал данное состояние.
В первом случае — богатырский бой, во втором — просьбу беременной женщины, будущей матери, пощадить сына. Для того чтобы подобный способ типизации (через гиперболическое преувеличение жизненно-типичного) не казался фальшивым, требовались великое дыхание эпоса, способность взглянуть на частное глазами общего, умение обнять разом целую жизнь народа, и не меньше.
Когда способность подобного видения действительности исчезла, окончился и эпос, уступив место другим жанрам и типам искусства.
Сказанного о сюжетах, восходящих или возводимых исследователями к древнейшей докиевской эпохе, уже достаточно для того, чтобы представить общую картину развития докиевского эпоса. Со временем он также, по-видимому, начинал упорядочиваться, приобретать известную циклизацию, только объединяющим началом тут становился не Киев и идеализированный князь Владимир, а семейные связи героев (это проглядывает и в именах — скажем, Микула Селянинович — герой-предок, Настасья Микулична — жена Добрыни).
Следует, однако, остановиться еще на одном, возможно, древнейшем эпическом герое нашего эпоса — на Святогоре.

Поскольку сюжет зарегистрирован у нас и на Балканах, мнение о его позднем или книжном происхождении отпадает само собой.
Центральный эпизод былины — это встреча героя-великана с Ильей Муромцем, это тяга земная, пробуя поднять которую надсаживается Святогор, и это гроб, который Святогор примеряет на себя, после чего уже не может встать: передав через щели гроба часть своей силы Илье Муромцу, герой умирает.
Титанические размеры Святогора и то, что он ездит по ограниченной территории (по «Святым горам»), ибо земля его не держит, говорят о том, что перед нами персонаж какого-то чрезвычайно древнего, угасшего и уже полузабытого эпоса. Святогор не совершает подвигов, вернее — мы уже не знаем о них, подвиги его в прошлом.
Сходную картину являет нам Мгер младший из армянского эпоса, отдельные сцены из нартского эпоса и т. д. В каждом подобном случае герой представлен как осколок прошлого, безмерно великий, он уже одинок и не понят измельчавшими соплеменниками. Но какую же традицию какой культуры отразил в таком случае Стятогор?

При поисках древней прародины славян обращается внимание на тот несомненный факт, что в подкове Карпатских гор исконная топонимика — славянская (названия гор, рек, перевалов, названия с корнем «торг» (тырг) и такие, как «Воислава», «Стража», «Бойца» — по юго-восточной границе). Данные археологии и лингвистики позволили предложить такую схему движения наших предков.
Праславяне, населявшие подкову Карпат, где соседствовали с кельтами, в V в. до н. э., при перемещении кельтов на Восток, были вытеснены с гор в предгорья и на Днепровскую равнину. Через тысячелетие — в V в. н. э., — началось новое, обратное, движение славян на свою прародину, на Дунай и через Дунай на земли Византийской империи. Как отмечалось выше, этот процесс был связан с рождением нового славянского народа — Руси Киевской. Традиции, культура, историческая память прапредков при подобных катаклизмах очень круто ломаются, идут в переплавку, хотя что-то и берется, и переходит по традиции от предшествующего этноса (так греки классические переняли у ахейцев гомеровский эпос).
Допустимо предположить, что образ Святогора — остаток эпических преданий праславян, по-видимому, обитавших в Карпатах, иначе — славяноязычного этноса, предшествующего этносу «киевскому» и другим славянским этносам первого тысячелетия нашей эры.
Святогор держится своей горной области, лишь выезжая оттуда на Русь, потому что он — герой прежний, старинный, уже сторонний для киевского богатырства. По специфическим пространственно-временным представлениям эпоса отдаленность расстояний здесь заменяет удаленность во времени. Взгляд этот традиционен для мифологического мышления едва ли не всех народов. Так, умершие предки обычно удаляются в некую другую страну, другой мир, куда можно хоть и с трудом, проникнуть, чтобы повидаться с ними.
С другой стороны, в том, что Святогора не носит мать-сыра земля, отразилось представление об измельчании, упадке праславянской культуры.
Поскольку праславяне были связаны с сарматами, потомки которых на Кавказе — осетины, то через общую сарматскую основу некоторые черты, роднящие образ Святогора с героями нартских преданий, возможно, проникли на Кавказ, где и удержались в нартском эпосе.
Герой осетинского эпоса Муккара (князь скал) ложится на дно моря, которое покрывается льдом и становится для великана гробом. Муккара, умирая, дует на Созырко, солнечного героя нартского эпоса, но последний остается жив и забирает жену и меч Муккары. Иранское обозначение святой горы — spanta-&- garay (gairi) также ближе всего к русскому «святогор».
Повторим тут свой прежний тезис. Эпические предания как предания, выражающие взлеты эпического самосознания, в отличие от сказочной тематики не образуют «бродячих сюжетов», а переходят только с самими народами. То есть передача эпических сказаний осуществляется, как правило, лишь в моменты создания новых этносов.
В начале первого тысячелетия н. э., создавшего восточных славян (и позднее Киевскую Русь), эпические предания праславян оказались сторонними, полузабытыми, но дорогими как память о тех предках, что когда-то жили на гористой прародине. Поэтому основной герой киевского эпоса Илья Муромец и получает силу Святогора, счастливо избегая того «смертного духа», который образно выражает закат, упадок этнической энергии карпатских праславян.
Древние народы очень хорошо умели видеть общее состояние «молодости», «зрелости» и «старости» этносов, отмечая это и в преданиях, и в литературах, сохранившихся от древнейших эпох, и потому сама мысль о «надломе», «закате» определенной культуры, опасности заразиться тленом этой культуры и, одновременно, представление о нестареющих культурных и духовных ценностях, которые могут быть переняты или, точнее, выделены из угасающей великой культуры, — мысль такая была отнюдь не чуждой людям древних цивилизаций. Тем более, когда речь шла о близкородственных народах, сменяющих друг друга.
Сев княжить в Киеве, Олег предсказывал, что «се буди мати градом русьским» (ПВЛ, т. I, под 882 г.). Помимо основного значения: «мать городов», столица, метрополия, — это выражение могло иметь особый смысл: «Киев породил многие города, основанные киевскими князьями и частично названные в честь этих князей — Владимир на Клязьме, названный в честь Владимира Святославича, и Владимир Волынский — в его же честь, Ярославль на Волге — в честь Ярослава Мудрого».
С другой стороны, укрывавший прочными стенами своих жителей, город ассоциировался в средневековье с образом матери, защищающей своих детей. Не случайно крепость, прибежище горожан во время нападения врага, называли «детинцем». В библейской эсхатологии городская стена — олицетворение матери народа, льющей слезы перед богом за гибнущих от голода горожан — своих младенцев.
В удивительном по своей поэтичности зачине о турах, предваряющем былины о Василии Игнатьевиче и Батыге (царе Кудреванке), символом судьбы Киева, не выдержавшего натиска батыевых орд, становится городская стена. Мифические туры, обежав весь мир, рассказывают златорогой турице о виденном. Она объясняет им подлинный смысл происходящего. На туров этого былинного мотива возложена миссия всевидящего солнечного бога Гелиоса, обладателя чудесных быков, ежедневно объезжающего землю в золотой колеснице.
Ядро данного мотива сложилось в недрах мифологии древних славян, ближайшей ритуальной параллелью к нему является сарматский культ матери-прародительницы, совмещенный с тавроболией, но в былинном зачине вещие качества туров проявлены в отношении средневекового Киева и вполне конкретного исторического события, древняя мифология причудливо сочетается с поэтическим образом женщины-города и христианским — Богородицы:
Случилось турам мимо Киев-град итти,
Мимо тую стену городовую.
А й-с-под той стены с-под городовыи
Ходит девица душа красная,
В руках носит святу книгу Евангельё,
А не только читае — вдвоем она плачёт:
Не девица ходит душа красная,
Плаче стена да городовая —
Ёна сведала над Киевым невзгодушку.
С-под восточною да с-под сторонушки
А й наеде Батыга Батыгович
Со своим со сыном со Батыгушкою...
(Гильф., I, № 18, с. 256)
Иногда певцы разворачивают перед слушателями зловещую картину обступившей Киев несметной рати: от лошадиного пару меркнет солнце, от дыхания татарского войска темнеет луна.
Исторически Киев действительно был разрушен: раздорами князей, вражескими нашествиями, но Киев — сердце эпического мира — остановиться не может, так как это означало бы гибель народа, забвение его истории. В какой-то мере реальная потеря Киевом прежнего значения даже способствовала формированию в эпической поэзии образа Киева-утопии, русской Валгаллы, собравшей в своих чертогах героев разных эпох, от доисторического времени до Московского царства.
Но ни золотых деревьев, ни уходящей в небо кровли, ни дев-валькирий, разносящих на пиру мед, лившийся из вымени козы Гейдрун, нет в палатах Владимира. Картина эпического мира в целом запечатлела географию, экономику, быт и нравы древнерусской государственности.
«География русских былин обнимает почти всю русскую землю в тех пределах, которые характеризуются эпохой деления ее на области и княжества»: в былинах упоминается Подолия, Галич, Волынец-Галич, Киев с Днепром, Почай-рекою и Печерским монастырем, Чернигов и Путивль, Брянские леса, Куликово поле, Ока, Тверь, смоленские черные грязи, Псков, Ильмень, Новгород, Волхов, Ладожское и Белоозеро.
Из иностранных земель былины называют Сарацынскую землю с Иерусалимом, горой Фавором и рекой Иорданом, Греческую — с Царьградом, Половецкую землю, Золотую Орду и Хвалынское море, Польскую, Политовскую и Ливонскую земли, Корелу, Швецию и Данию. Часть географических названий вошло в былину из литературных произведений: Индия, Аравийская гора, Сион, Сафат и Ефрат-река.
В былине сохранились воспоминания о многих конкретных исторических событиях: о борьбе со степными кочевниками, о принадлежности Чернигова к русским городам (до XIV в.), о новгородской вольности и коллективном паломничестве в Иерусалим, — т. е. о княжеском, домосковском периоде русской истории. На этот период указывает ряд былинных имен, имеющих соответствия в памятниках древнерусской письменности X—XIV вв.: Садко, Ставр, Батый, Василий Буслаевич, Алеша (летописный — Александр) Попович.

Помимо славы земледельческому труду в русском эпосе можно найти и описание грандиозных ловов, сопоставимых разве что с ловами великой княгини Ольги. Былины ясно дают понять, что это занятие было артельным, за него платили жалование. Когда в былине «Молодость Чурилы» Чурила с дружиной выловил в киевских лесах пушного зверя, а в реках рыбу, артельщики бьют челом на него Владимиру: «Тебе, государю, приносу нет, от вас, государь, жалованья нет». Огромные барыши получали скупщики пойманного: «Садко, отдавая рыболовам по 100 рублей за каждые три невода и продавая рыбу в гостином ряду, получил семь груд червонцев».
Объектами охоты были пушные звери: бурнастые лисицы, белые горностаи и соболя; птица: лебеди, гуси, утки; морской зверь: морж, клыки которого («дорог рыбий зуб») использовались в декоративно-прикладном искусстве.
Былинные эпитеты намечают довольно точную картину ввозимых товаров: «шемахинский» шелк, иверьянский (от Иверии) булат, черкасские стремена и седла, турецкая («зелен сафьян») кожа для сапог, венецкая камка, французское красное сукно «скорлат» и зеленый немецкий бархат «самит»,немецкие «железа» — замки, упругая и узорная шелковая «хрущата» камка, ввозимая с Востока.
Ввозимые и экспортируемые товары облагались пошлиной. Сказители-северяне, потомки выходцев из Новгородской республики, сами занимавшиеся торговлей с северными странами, не только бережно сохраняли, но и усложняли мотивы взимания (освобождения от) пошлин. «Безбожница» Корсунская царица, например, берет пошлину буквально за каждый шаг, сделанный русскими купцами.
Последние жалуются на нее своему князю Глебу Володьевичу:
А мы ведь в гавань заходили — брала с нас ведь пошлины,
А ведь как паруса ронили — брала пошлину,
Шлюпки на воду спускали — брала пошлину,
Уж мы в шлюпочки садились — брала с нас ведь пошлину,
А как к плоту приставали — плотово брала,
А ведь как по мосту шли — дак мостово брала.
За уклонение от пошлины в XIII—XIV вв. платили штраф — «протаможье». («Соловей у князя в пратоможье попал» КД, № 1.) Не случайно, желая выказать гостю особое расположение, князь Владимир предлагает ему не только «города с пригородками», но и разрешает торговать «безданно, беспошлинно».
Из былин можно многое узнать о характере и составе древнерусских дружин. Как и в летописях, это название может быть закреплено не только за воинским союзом, но и за производственным объединением. В дружине воинов выделяется младшая и старшая дружина, упоминаются богатыри-слуги, отроки и паробки, дети боярские.
Принцип организации войска, как он предстает перед нами по былинам, имеет двойственный характер: с одной стороны, богатырей объединяет побратимство, архаический признак родовой принадлежности, коллективная общинная трапеза и кормление как вознаграждение за службу, с другой — в былинах уже явно ощущаются отголоски военно-административной, десятичной системы структуры русского войска, деление его по численности.
То же самое мы можем сказать и о былинном пире: как бы ни было архаично застолье князя Владимира, собиравшее разновременных героев и типологически сопоставимое с пиром предков народных причитаний, — в нем найдем мы характерные черты дворцового пира-совета, на котором прислуживают чашники, стольники, придверники и приворотники, — такие должности реально существовали в Древней Руси.
Пиры созываются в княжеских палатах, гриднях с хрустальными или стеклянными окнами, с «кирпичатой середой» пола, очевидно, выложенного майоликовыми плитками или мозаикой из ценных камней с богатой росписью потолка и стен. Все это ничуть не противоречит историческим описаниям новгородских и киевских дворцов и данным археологии.
В таких гриднях устраиваются состязания в шахматной игре, былинные описания которой позволяют частично реконструировать старинные способы популярной древнерусской игры.
Замечательно, что русский эпос как будто вовсе не коснулась волна гонений на игры скоморохов и их музыкальные инструменты. В былинах перед нами — золотой, домосковский век музыкально-поэтического искусства. Исполненный вежества Добрыня, жених княжеской племянницы Соловей Будимирович, богатый боярин Ставр — все они прекрасные гусляры и певцы. В рассказах о детстве героев говорится, что грамоте отдавали учиться с 6—7 лет.
Очевидно, обучали также и искусству игры на музыкальных инструментах, и сочинительству: Добрыне не составляет никакого труда рассказать о своих скитаниях в песне, под перебор гусельных струн («Добрыня и Алеша»).

Пестрый гомон городской жизни — постоянный фон эпических сюжетов, действие которых так или иначе обязательно связано с городом. Не случайно скандинавы назвали Древнюю Русь Гардарикой, страной городов. Их защита была обязанностью воинов, дружинников князя. Былинных богатырей объединяет такое типичное явление древнерусской жизни, как «застава».
В эпосе она располагается в чистом поле поблизости от Киева.
На горах, горах дак было на высокиих,
Не на шоломя было окатистых,
Там стоял-де ноне да тонкой бел шатер,
Во шатри-то удаленьки добры молоццы:
Во-первых-то, — стары казак Илья Муромец,
Во-фторых, — Добрынюшка Микитиць млад,
Во-третьих-то, — Олёшенька Поповиць-от.
Эх стояли на заставы они на крепкое,
Стерегли-берегли они красен Киев-грат,
Стояли за верху християнскую,
Стояли за церкви фсе за Божии,
Как стояли за чесныя монастыри.
Это был сторожевой пункт, находившийся на возвышенности: след, оставленный копытами вражеского коня, столб пыли вдали — все это в «трубочку подзорную» замечают богатыри на заставе и настигают неприятеля. С XIV в. слово «застава» употребляется только в поэтических композициях, в актах его заменил термин «сторо́жа». Но служба былинных богатырей на заставе во многом напоминала сторожевую службу Московской Руси.
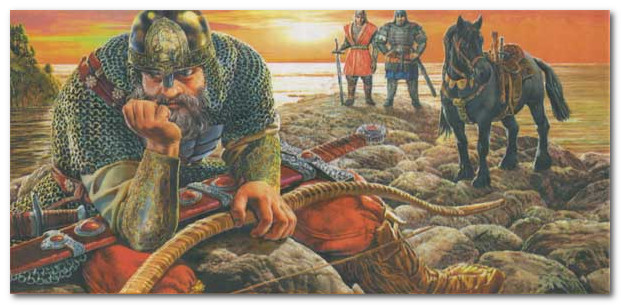
Давние, очевидно, докиевские, традиции таких сторожевых форпостовв былинах предстают перед нами в ореоле славы и величия. Вплоть до XX столетия сохранилась память о курганах — «богатырских заставах» в преданиях и верованиях.
Культовое восприятие древнего богатырства порой бывало помехой при раскопках: жители отказывались работать с «богатырским курганом», считая, что это принесет им вред, на таких насыпях даже не косили траву, боясь потревожить «богатырей».
В Приднепровье вблизи такого укрепления жители показывали сосну «святый Илья», под которой якобы зарыт клад (ср.: мотив последней поездки Ильи за кладом). Местное население Орловской, Курской, Воронежской губерний связывало с богатырями курганов «свои родовые предания, указывало место их селищ, следы их деятельности, даже самые кости богатырские», в этих сказаниях часто встречаются типично былинные мотивы — косвенное доказательство того факта, что былины были распространены раньше по всей Руси.
По мнению ряда исследователей, в домосковской Руси существовали галицко-волынский,ростовский и черниговский эпические циклы. Отголоски этих эпосов сохранялись в записях XIX—XX вв. несмотря на то, что в целом сюжеты объединялись вокруг исторически наиболее значимых центров — Киева и Новгорода.
Рождение города в былинах связывается с появлением в нем богатыря. Муром, Рязань становятся городами тогда, когда есть кому их защитить.
Рассказывая о подвиге Алеши Поповича, сказители укажут на его ростовское происхождение, Илья прославил Муром, Добрыня — Рязань:
Стал-то Добрынюшка на возрасте,
Как ясный сокол на возлете.
Изучил Добрынюшка боротися,
Изучился он с крутой, с носка спущать.
Прошла про него слава великая
По всем землям, по всем украинам;
Дошла эта слава до славного города до Мурома, —
До стара казака до Ильи Муромца.
Собирался осударь наш Илья Муромец
На ту на славу на великую;
Поехал Илья ко славному городу ко Рязани.
Едет осударь Илья Муромец
Ко славному городу ко Рязани,
Сам своим умом размышляет:
«Доселе Рязань-город слободой слыла,
Нониче Рязань слывет городом».
Как Киев стал в былинах эпическим обобщением определенного периода русской истории, а богатырская застава — поэтическим воплощением идеи защиты Родины, так тип Ильи Муромца в эпосе является символом русского богатырства, олицетворением лучших качеств русского воинства, и — шире — русского характера.

В образе Ильи Муромца, главного киевского богатыря, проглядывают древние черты искусного стрелка из лука, «стреловержца», быть может, даже древнего божества, но выработался он в богатыря-воина из крестьянской среды — в защитника угнетенных и обездоленных, старшего богатыря-героя, на которого не действуют уже ни чары волховных женок, ни прочие соблазны и увлечения.
Размышляя над тем, какую выбрать дорогу: ту, где «женату быть», или ту, которая сулит богатство, или прямоезжую, где «убиту быть», Илья выбирает последнюю, потому что «богатьства крестьянскому сыну не надобно, а с женою мне жить не удумано».
Память об Илье как главе русского богатырства сохранилась не только в былинах, но и в преданиях, поверьях, богатырских сказках и сагах других народов. Именно таким сложился этот образ уже к XII в., когда «могучий Илья из Руси», близкий «королю Владимиру», становится героем или персонажем германских и норвежских саг.
Под обаянием этого исключительно целостного образа, сочетавшего в себе мощь духовную с силой богатырской, были почти все народы, соседствующие с русскими регионами бытования эпоса: сказки об Илье в XIX—XX вв. записывали от карел, коми, ненцев, эстонцев, латышей, эвенков и мордвы.
Народное предание ведет начало родников и колодцев от копыт богатырского коня Ильи Муромца, в селе Карачарово (есть такое!) до сих пор живут две семьи, числящие свой род от самого Ильи, а в киевских пещерах еще в XVI в. немецкий путешественник Эрих Лассота видел гробницу Ильи — «богатыря, о котором рассказывают много басен».
Эти предания иногда даже трансформировались в былинные мотивы. Вот как, например, эпос объясняет появление часовен и колодцев на дорогах, где проезжал Илья:
Он и скачет выше дерева стоячего,
Чуть пониже оболока ходячего.
Первой скок скочил на пятнадцать верст,
В другой скочил, колодезь стал;
У колодезя срубил сырой дуб,
У колодезя поставил часовенку,
На часовне подписал свое имичко:
«Ехал такой-то сильной, могучой богатырь,
Илья Муромец сын Иванович».
Всё это — знак огромной популярности героя в народной среде.
Илья Муромец — законченный в своем идеальном совершенстве богатырь-крестьянин, непобедимый герой, наделенный спокойной, без чванства, крестьянской силой, прямотой, глубоким скрытым достоинством, поступиться которым он может лишь иногда, и то только для спасения родины от врага (в одной из былин Илья, посаженный в погреб князем Владимиром, так и говорит: мол, для собаки князя Владимира я не вышел бы из погреба, а только «ради матери Святррусь-земли» — ТМ, № 12).

Идея бессмертия Ильи Муромца связывалась в народе с утопической мечтой о приходе героя-освободителя: «На Терском берегу господствует стремление верить в лучшее будущее, — писал А. В. Марков. — Это стремление сохранило для нас до сих пор мистическую мечту о новом Илье Муромце. Илья вместе с другими богатырями окаменел. Но когда-нибудь он воскреснет, выйдет из земли и „возновится“».
Утопия эта в былинах рядится в христианские одежды: в мотиве сидения Ильи в погребе отчетливо ощущается древнерусская традиция, влияние рассказов о древнерусских проповедниках, легендарных мудрецах. Например, повести об Акире Премудром, спасшемся в яме под порогом своего дома, где его тайно кормили, рассказах об одном из первых русских проповедников, митрополите Илларионе, выкопавшем пещеру в Днепровском холме, куда он ходил тайно молиться.
В былинах перед битвой с царем Калиным Илью находят сидящим в погребе, куда он был заточен 30 лет назад:
И сидит старой казак Илья Муромец
За столом за дубовыим,
А на столе горит свеча сальная,
И читает он книгу Евангелие.
(ТМ, с. 41)
С другой стороны, само появление мотива сидения в погребе перед битвой или решением сложных задач в фольклоре связано с древнейшими представлениями о необходимости изоляции воинов (как и некоторых других категорий людей племени) перед сражением.
Появление Ильи-спасителя почти всегда — появление «героя из народа». Он может прийти в Киев, где разбойничает Идолище поганое, неузнанным, в платье калики перехожего или как-то иначе, но точно так, как являются по зову беды глубинные народные силы, встающие на защиту родной земли. Он в постоянном отдалении от бояр толстобрюхих, видящих в нем мужика-деревенщину, и он же постоянный защитник богатырского содружества: Илья, например, спасает Потыка, выручает молодого Ермака Тимофеевича.
Гнев Ильи, возмущенного нарушением законов справедливости, — беспределен: он сбивает маковки церквей и кресты и продает их в питейные дома, созывая на пир голей — «мещан стрелецких», мужиков деревенских, лапотников и балахонников.
Илья обещает их сделать «предводителями» в Киеве (Рыбн., II, с. 336). Возникает коллизия глубочайшего социального накала — противопоставляются два пира: официальный, в роскошных княжеских палатах, и бедняцкий, площадной.
Нельзя забывать о колоссальной аккумулирующей способности эпоса. Каждый образ в нем полон смысла, прочитывается в контексте многих веков. Пир Ильи с голями — вовсе не развлечение. Метафора «пир — битва» реализуется в былинах на разных уровнях. Созвать свой пир вне официального означает фактически подготовку выступления против сложившихся общественных устоев.

Так, Васька Буслаев созывает свой пир для социальных изгоев (а также калик и увечных), вербуя их в свою дружину, чтобы потом бросить вызов почтенной новгородской аристократии. И Буслаев, и Илья созывают не просто голей, бедноту и увечных — они собирают обиженных, недовольных сложившимися социальными порядками. Возглавить такой пир, стать его виночерпием — стать во главе городского восстания.
Не случайно в одном из вариантов былины так напуганы бояре: земля дрогнула у них под ногами, они не просто доносят на Илью, они боятся за свое положение:
Какой-то богатырь у нас во Киеви
Как на больших-то сидит за старшого?
Он ведь и ходит-то по городу, уродует
Как со той ли всё со голью-ту со кабацькою,
Со кабацькою-ту ходит он, со посадьскою,
Он ведь и пьет и пьет и с има-то зелено вино,
Во хмелюшечки-то с има разговариват:
«Я возьму себе в дружиночку голь кабацькую,
Голь кабацькую возьму же я, посадьскую,
Отберем у князя Владимера славной Киев-град,
Всех богатырей из Киева повыведем,
Вот повыведём ведь их, велим ведь выехать.
Что до Ильи — то он всегда уверен в себе, тверд и спокоен, потому что за ним — любовь и сила народная.
Вот он впервые пришел на пир Владимира, и сразу — смятение: не с пустыми руками пришел богатырь, в руках у него Соловей-разбойник, оглушительным свистом до смерти перепугавший князей и бояр, попрятавшихся под столы и скамьи.
Уже в этом первом появлении Ильи в Киеве мы видим умную насмешку народа над строгой регламентацией княжеского пира. Илья не признает субординации, он выбирает себе место прямо против князя, как бы уравнивая себя с ним в правах и подвигая всех сидящих к концу стола. Это — против средневековой иерархии, это откровенный вызов.

Алеша Попович — тоже богатырь, но прежде всего дружинник, главным образом — придворный, пытается противостоять пришельцу, но безуспешно:
За досаду Олеше Поповичу показалося:
Взял Олеша булатной нож,
Он и кинул ёго в Илью Муромца:
Пымал на полету Илья булатной нож,
Взоткнул ёго в дубовой стол.
(Кир., I, с. 34)
Что это? Картина средневековых нравов или глубокая поэтическая гипербола? И то, и другое.
Но благодаря последнему былина донесла до нас первое: негасимый, пока жив народ, свет поэтического предания выхватывает наиболее яркие приметы времени — те, в которых как в зеркале отражается не только сиюминутное, но и вечное, понятное людям разных эпох.
Вот Илья встречает своего сына, рожденного на чужбине, выдерживает тяжелейший бой с ним, едва не окончившийся гибелью Ильи. Победив «нахвальщика», он узнает его и отпускает. Когда же тот, узнавши в нем родного отца, пытается убить спящего Илью, Илья с неожиданной легкостью и без всяких нравственных колебаний убивает Сокольника. Казалось бы, перед нами упрощение международного сюжета о бое отца с сыном (ср.: «Рустем и Зораб»).
Но дело в ином: Илья потому так бестрепетен, что утверждавшееся некогда патриархальное право для него уже норма; сын, поднявший руку на отца, должен быть убит без всякой жалости, ибо такового, по русским крестьянским воззрениям, быть не должно вообще.
Подняв руку на Илью после того, как он уже узнал, что перед ним родной отец, Сокольник теряет право и на жизнь и на сочувствие певцов.
Илья Муромец стар и мудр изначально. Былина выделяет его из круга других богатырей тем, что у него нет молодости, он — сидень до 33 лет, до поры зрелости. Возвышает Илью над остальными богатырями и чудесное получение им силы — через волшебный напиток странников или через пену умирающего исполина Святогора.
Не то — Добрыня, Алеша, или герой новгородских былин Василий Буслаев. Необыкновенной силой их одаривает природа, навыки борьбы они приобретают в мальчишеских сшибках, а житейский опыт накапливают с годами.
По традиции, рядом с Ильей на заставе богатырской обычно помещают Добрыню Никитича. Добрыне от рождения присущ гибкий «дипломатический» ум. Он не вступит в бой, пока к этому нет крайней необходимости. Сначала он постарается добиться преимуществ своей сметкой, «вежью», знанием. Уже в двенадцать лет он не просто силой отбирает у боярских и княжеских детей богатое платье, а выигрывает его в городки или «карты-шахматы». И лишь когда боярским детям это не понравилось, типичной богатырской ухваткой «ноги-ти и у их веть он повыставил», «руки-ти у их из плець повыхватил».
Боярские дети жалуются на Добрыню Владимиру, и князь отправляет гонца за малолетним силачом и его матерью:
А тут-де Омельфа да испугаласе,
А тут Тимофеёвна перепаласе.
А пошла где она во теплу спаленку,
А будить где-ка Добрыню от крепка сна.
С беспечностью молодости после одержанной победы Добрыня спит уже вторые сутки.
Поездка в княжеский дворец ничуть не пугает его.
Он внимателен к своей внешности и спокоен, как может быть спокоен подросток, не разделяющий тревог матери:
А умывался тут Добрыня клюцевой водой;
А он шытым полотенцём да утираицьсе,
А во козловы-ти сапошки да обуваицьсе,
Ай ишше кунью-ту шубу одеваицьсе,
А ишше сам он говорит да таковы слова:
«А поедем мы с тобой, гонець, доброй молодець,
А ише мать моя, старуха, нонь пешком прыдёт.
Князь Владимир, сгорая от любопытства, «скрывал-де околёнки немножечко», чтобы посмотреть на возмутителя спокойствия, и увидел, что
...не провелик детинушка, оцень крепко толст,
А ише оци-то у Добрыни да как у сокола,
А ише брови-то у Добрыни да как у соболя,
А ресници у Добрыни да два цисти бобра,
А ягодници бутто ёго макоф цвет,
А лицо бело у Добрыни да ровно белой снек.
Юноша-Добрыня еще очень похож на упитанную красную девицу: сказитель, не задумываясь, использует классическую формулу-описание теремной красавицы в приложении к Добрыне.
Свои первые подвиги богатыри обычно совершают в 12 лет, что не противоречило древнерусским традициям обучения воинскому делу с самого раннего возраста — в дружинах были такие категории воинов, как «отроки» и «детские».
К двенадцати годам собрал дружину Вольга (Рыбн., I, № 1, с. 1), двенадцатилетний Ермак бьется с царем Калиным (Рыбн., I, № 20, с. 110), Сокольник вступает в единоборство с отцом, Ильей Муромцем (Марк., № 4, с. 56), в этом возрасте и Добрыня покидает родной дом ради богатырских подвигов.

Прославила Добрыню прежде всего его победа над змеем на Почай-реке, былина об этом бое — одна из самых популярных в русском эпосе, для исследователей же это один из самых загадочных сюжетов. Представители исторической школы исследования эпоса (В. Ф. Миллер, А. В. Марков) видели в этой былине символическое крещение историческим Добрынею новгородцев, современные эпосоведы сопоставляют опасное купание Добрыни и победу над змеем с обрядом инициации у древних народов (Б. Мериджи, Ю. И. Юдин, И. Я. Фроянов). Колпак земли греческой, коим он отшибает головы змею, толкуется то как монашеский куколь — символ христианства, то как остроконечная шапка посвящаемых юношей.
Ясно одно: сюжеты змееборчества уходят корнями в глубочайшую древность и прочесть их можно, лишь разобравшись в мифологии наших предков. «Змеи» русских былин — это враги (зачастую степные), похитители женщин; они крылаты, огненны и вместе с тем связаны с водной (речной) стихией. «Степная» природа змеев объясняется довольно убедительно через сопоставление с преданиями скифо-сарматского мира.

У каждой сотни сарматских воинов, по объяснению Лукиана Самосатского (II в. н. э.), был значок — летящая змея, укрепленная на копье. Значки сарматских дружин — свидетельство имевшихся мифологических представлений о крылатом змее, очевидно, покровителе степных кочевников. Не случайно былина о бое Добрыни со змеем легко трансформируется в былину о бое с татарской степью — в позднее осмысление древнего сюжета: Добрыня едет «ко матушки ко Пучи-реке», поскольку «Обвалит там сила татарская, Татарская сила все уланская» (Гильф., III, № 313).

Культ змея распространен очень широко, едва ли не повсеместно. Это и «пернатый змей» индейцев Центральной Америки, это и драконы Китая, божества рек (как соблазнительно было бы мифологему о борьбе дракона — темное и влажное начало, — с фениксом — светлое, — за солнце, которое феникс отбивает у дракона, сделать, так сказать, всеобщей, истолковав в сходном плане и наши былины!).

Змей опоясывает мир в преданиях кельтов, этот же морской змей присутствует в индийской мифологии. В мифологии индийских арьев арусы, старшие братья богов, змееподобны. Младшие братья богов — наги, также гигантские змеи, поселившиеся в подземном мире. Они мудры, хранят сокровища, города из драгоценных металлов, имеют своего царя. Живут они также в подземных водах, реках и на дне океана. На поверхности земли змеи стерегут сокровища и клады.
Царственные змеи, многоглавы. Они владеют несметными богатствами, могущественны и мудры, снискали дружбу и милость богов. Многоглавый змей Шеша охранял индийского бога Вишну (Вишна обычно изображается возлежащим на этом змее).

У западной, поморской ветви славян ярко выражена многоглавость богов — но уже без змеиной природы: Святовит, Свентовит — главный бог поморских славян — четырехголов; Триглав, злой бог, также соответствует своему имени, Руевит имеет семь лиц, Поренут — пять, Поревит — также пятиглавый бог.
У славян восточных многоглавых богов не наблюдается вовсе. Возможно, славяне западные и восточные разменялись богами, причем многоглавые боги (змеи?) у западных славян приобрели человеческий облик, сохранив многоглавость, а у славян восточных стали враждебной богам злой силой, сохранив и усилив свою змеиную природу.
Не случайно в устной поэзии, былинах и духовных стихах, в древнерусской литературе и иконописи борьба христианства с язычеством изображается под знаком борьбы с разного рода змеями. Если в докиевском эпосе борьба со змеем была борьбой с культовой и этнически чуждой традицией, то в период установления древнерусской государственности и принятия христианства сюжеты о Добрыне и змее активно поглощают новое содержание, святой Георгий, борющийся со змеем, символом язычества, повторяет подвиг Добрыни.

По новгородской легенде змей — одна из ипостасей Перуна: его жилище было там, где выстроен перунов скит. В то же время змей новгородской легенды явно «напоминает того Змея-Горыныча, который унес Запаву Путятичну или Марью Дивовну и с которым бьется былевой Добрыня», — зме́я (согласно преданию и былине), погибшего во время святого Владимира.
В мотивах купания Добрыни в Пучай-реке большинство исследователей видело отголоски крещения — уже киевского — в реке Почайне. Но под прозрачным покровом христианского элемента «мы всегда склонны подозревать притаившуюся языческую основу», — река Почайна была выбрана для крещения, поскольку с ней уже были связаны какие-то культовые, мифологические представления, ее воды должны были быть в сознании киевлян наделены особой магической силой, необходимой для сакрального акта крещения. Здесь та же закономерность, что и при возведении церквей и часовен на месте прежних языческих капищ.
В печорском варианте это уже не река, а «синё море»,в онежском она напоминает реку Иордан, в которой также нельзя купаться нагим телом: «у нас куплятся во Пучай-реки во рубашечки» (Рыбн., I, № 23, с. 121).
Мать Добрыни знает о тайне Пучай-реки и наказывает сыну не купаться в ней. Закон жанра требует нарушения запрета, тем более что мать наказывает не только не купаться, но и не выручать русских полонов, не топтать змеенышей, т. е. она, как и любая мать, требует от своего сына осторожности. Но на то и богатырь, чтобы пройти все испытания. Купание в реке становится первой ступенькой к освобождению русских полонов и княжеской племянницы из змеиных пещер.
С виду «Пучай река есть кротка-смирна: она будто лужа дожжевая», но стоило Добрыне заплыть за третью волну —
Ветра нет, тучу нанесло,
Тучи нет, а только дожжь дожжит,
Дожжя-то нет, искры сыпятся —
Летит змеище-Горынище,
О двинадцати змея о хоботах,
Хочет змия его с конем сожечь.
(Рыбн., I, № 24, с. 123)
Добрыня выдерживает два боя со змеем: после первого они кладут заповедь не летать змею на русскую землю, в результате второго герой убивает змея и вызволяет Забаву. Исследователи связывали бинарность композиции былины с эволюцией сюжета, относя каждую часть к разным (докиевскому и киевскому, государственному) периодам.
Из имеющихся записей былины трудно поддающийся объяснению факт заключения договора Добрыни со змеем трактуется сказителями так, как если бы они относили счастливое избавление Горыныча от смерти на счет излишней склонности Добрыни к дипломатии и ко всякого рода заповедям и «ерлыкам».
Добрыня верит обещанию змея, они подписывают договор, и щеголь-богатырь «скорешенько бежал да ко добру коню / Надевал свою одежицу снарядную / А-й рубашечки-манишечки шелковеньки».
Но прежде чем отправиться в Киев, дальновидный Добрыня все же решил проверить, соблюдает ли змей заповедь, посмотреть, которым змея «местечком полетит по чисту полю».
И тут оказалось, что змей летит к Киеву и уносит любимую племянницу Владимира. Добрыня понимает свою оплошность и, приехав домой, «ничим Добрынюшка не хвастаёт»: похвастать просто опасно — он косвенно виноват в пропаже племянницы князя (Гильф., II, № 79, с. 50—55).
Все-таки Алеша каким-то образом узнает про заповедь и советует Владимиру послать Добрыню за племянницей Забавой (Рыбн., III, № 45, с. 63).
В записях XIX—XX вв. поступки героев древней былины получают психологическую мотивировку, отдельные черточки, разбросанные по разным текстам, в совокупности приводят к созданию определенного характера богатыря.
Устами Ильи сказители так характеризуют Добрыню:
Не уцёна его вежь (вежество — Ред.) да спорожоная:
Он умеет на цистом поли сотти-съехацьсе,
Да умеет где Добрыня да поздоровацьсе,
Да умеёт Добрынюшка как цесть оддать.
(Григ., III, № 113, с. 611)
Помимо врожденного вежества Добрыня получил отличное образование: «Он востро ищэ читат, не запинаитце, Научилса он писать пером орлинскиим», он знаток придворного этикета, поскольку 12 лет прожил при дворе князя (в конюхах, приворотниках, стольниках, писарях).
Если благословение на первый подвиг он просит у матери, то второй свой подвиг он совершает с благословения Владимира: он едет в Маринкины переулочки поглядеть на Маринкин терем. За такой, казалось бы безобидной, поездкой никак не угадать будущего подвига. Но «высок терем Маринки» — то же самое, что «лужа дожжовая» — Пучай-река: оба безобидны лишь с виду, за каждым из них — измена и опасность Киеву. Уже сам выезд Добрыни на поиск дома «еретницы» — героический, смелый поступок.
Встретившись с Ильей, Добрыня узнает от него, что Маришкина двора ему «по век не сыскать», хотя он и стоит «середь Киева», «середь площади». Это — двор колдуньи:
Круг Маришкина двора все шелковая трава,
Шелковая трава и железный тын,
На каждой тынинке по головушке есть,
По головушке есть — богатырскоей,
На одной лишь на тычинке нет головушки.
(ТМ, № 23, с. 80)
Таким образом Илья предупреждает, что последняя тычинка приготовлена для него, Добрыни.
Для устной поэзии типичны представления о доме как знаке, материализованной сущности его обитателей.
Такие представления были порождены действительностью: обычно «на основании внешнего вида дома мы можем определить национальность его владельца, его экономическое и социальное положение и т. д.», дом не только вещь, но и знак.
Терем Маринки характеризует ее не только как вредительницу, а и указывает на ее любовную связь с миром чудовищ и змей.
На окне терема всегда сидят два голубя —
Не два голубя сидят целуются —
Да целуются они милуются,
Да Маринка с полюбовником.
(ТМ, № 24, с. 81)
Направив стрелу в голубей, герой убивает змея. Оружие Маринки — волшба, чародейство — она не вступит в открытую борьбу с Добрыней: лаской зазовет к себе в дом, истолкует в духе фольклорной традиции стрелу как эротический символ, ухаживание:
Ты пошто, Добрыня, сам не сватаешься,
Посылаешь ко мне сватом калену стрелу?
(ТМ, № 24, с. 47)
И вот Добрыня уже входит в ее дом — в дальнейшем повествовании это уже обычный дом, с лавками вдоль стен и печью, топящейся дубовыми дровами, и даже колдовство Маринки — как бы картинка, списанная с натуры: былина донесла до нас классический способ присушки, наговор на следы того, кого хотели присушить.

Горят в печи Добрынины следочки, разгорается сердце молодца по Маринке, и не может он ни есть, ни пить, нет ему другой дороги, кроме как в терем колдуньи.
Былинный сюжет, с его установкой на достоверность, требует изображения обстановки, которую можно было бы зрительно представить. Двусмысленность иносказания, символика образов, фантастика в обрисовке того, что не есть человеческий мир, соседствует в былинах с вполне реалистическими картинами быта. Эпос отличает удивительно точно найденное равновесие между фантастикой и реализмом, равновесие, позволяющее воспринимать самые необыкновенные ситуации, самые гиперболизированные образы как достоверные.
Былина о Добрыне и Маринке — лучшее тому подтверждение. Двор колдуньи с железным тыном и насаженными на него человеческими головами, ее любовник — Змей, ее стадо из девяти чудесных быков-туров — все это уходит корнями в мифологию, язычество.[67]
С другой стороны, живописные детали богатого дома отвечают всей правде реального древнерусского быта:
Проломил он оконницу стекольчатую,
Отшиб все причелины серебряныя,
Росшиб он зеркало стекольчатое,
Белодубовы столы пошатилися,
Что питья медяные восплеснулися.
(КД, № 9)
Ощутим в этой былине и поздний — московский пласт: Маринка эпическая приобрела сходство с Мариной Мнишек, прежде всего в мотиве превращения героини в сороку. Загадочное отсутствие в Москве сорок объяснялось тем, что Марина Мнишек, будучи ведьмой, перекинулась в сороку, когда ей пришлось худо, и вылетела из окна терема своего; за это сорока была проклята в то время и не смеет явиться в Москву.[68]
Вероятно, и Игнатьевские переулки, в которых стоит терем Маришкин, объясняются той же эпохой: Лжедмитрий сделал патриархом грека Игнатия, сведенного с патриаршего поста сразу после убийства самозванца.
Замечательно, что именно к «вежливому», блестяще образованному Добрыне прикрепился один из популярнейших международных сюжетов — «Муж возвращается на свадьбу своей жены».
По своему происхождению этот сюжет — один из древнейших не только в литературной, но и в фольклорной традиции, он хорошо прочитывается в контексте мифологических представлений. Так, в вятской сказке мужа заглатывает и выплевывает в день свадьбы на берег рыба; [ 71] в былине отсутствие Добрыни иногда объясняется тем, что он бьется с Ягой-бабой (Гильф., III, № 228, с. 205).
Если начало и конец былины — отъезд Добрыни и его возвращение — почти всегда совпадают по вариантам, то рассказ о его путешествиях вне дома, как правило, варьируется: Добрыня может просто сидеть у дуба (Рыбн., III, № 16, с. 72) или биться с богатырем на заставе так, как бьется Илья с Сокольником (Рыбн., III, № 17, с. 79—81).
Сказители достаточно произвольно заполняют эту лакуну — повествование об отсутствующем Добрыне, поскольку все внимание сосредоточено на мотиве возвращения супруга. Новеллистический характер сюжета из «семейной» жизни богатыря обусловил притяжение в былину множества бытовых деталей и подробностей семейно-бытовой обрядности. В былину вливаются крупные фрагменты причитаний: мать, ожидающая Добрыню у окна,
Во слезах-то сидит, сама выговаривает:
— Да не стало у мня дитятка родимого,
А не стало невески да богосужоной,
Ише некому миня поить-кормить...
По «Добрыне и Алеше» можно познакомиться с «чином» русской свадьбы. Алеша, нарушив главную «заповедь», взяв за себя жену крестового брата (который «паче родного»), обманув мать Добрыни и князя рассказами о том, что Добрыня мертв, — в остальном старается соблюсти все необходимые ритуальные условности: устраивает рукобитье, богомолье и свадьбу (но — в три дня, т. е. до неприличия скоро), ставит у ворот «приворотников», у дверей «придверников», чтобы не пускали посторонних, просит князя Владимира быть тысяцким, Илью — дружкою, а всех богатырей — «подносчиками». Кажется, ничто не может помешать заключению сомнительного союза.
Но вот в разгар свадебного пира входит скоморох (или калика), скромно садится на свободное место на печи и начинает играть, и тут —
А-да Владимир-от княсь да прироздумалсэ,
А да стары-де казак да запечалилсэ,
А да Олёшенка Попович загорюнилсэ,
А да Опраксея королевисьня здогадаласе.
(Григ., III, № 38)
Узнавание супруга происходит по игре в гусли (так хорошо умел играть один Добрыня), либо (в согласии с международной традицией) по перстню, брошенному в бокал. Для истории древнерусской культуры эта былина сохранила бесценное свидетельство об искусстве скоморохов, об их обычае приходить на свадьбы и играть там «царьградские» напевы с местным, киевским, содержанием (Рыбн., I, № 25, с. 136, примеч. 2).
Вполне возможно, что этот бродячий сюжет, с исключительной легкостью контаминировавшийся с другими сюжетами былин о Добрыне и вобравший в себя массу разножанрового материала (от причитаний до вошедшего в пословицу: «Здравствуй, женившись, да не с кем спать!»), был обработан в былинном стиле профессиональными поэтами-скоморохами, сделавшими главного героя, Добрыню, своим «собратом» по профессии.

И, наконец, последний герой богатырской троицы — Алеша Попович — знаком нам главным образом, по своей победе над Тугариным. Очевидно, этот богатырь раньше пользовался большей популярностью, былины говорят об исключительной смелости Алеши, которую можно сравнить только с силой Святогора или вежеством Добрыни. Как в эпосе, так и в летописных сказаниях существовал тип Алеши — воина, «храбра»-дружинника, для которого смелость была главным профессиональным качеством. О замечательном ростовском «храбре» XIII в. Александре Поповиче многое можно узнать из летописи.
В Тверской летописи XIV в. содержится предание о приезде Александра Поповича из Ростовской земли в Киев; существует рассказ Суздальской летописи об участии Александра Поповича в Калкском побоище, где он погиб с семьюдесятью другими богатырями. Но большинство летописных известий об Александре Поповиче, как это доказано исследованиями Н. И. Костомарова, Н. П. Дашкевича, М. Е. Халанского, Д. С. Лихачева, заимствованы летописью из народного эпоса. Очевидно, к XIII в. даже сложился культ этого богатыря, так как уже к этому периоду возникли предания о связи ряда урочищ Ростовской земли (курганы вдоль рек) с подвигами Алеши.
Но эпос, в соответствии с присущей ему циклизацией сюжетов вокруг Киева и Новгорода, сохранил лишь те былины, которые рассказывали о приезде Алеши в Киев и его киевских подвигах. Он выгоняет из Киева Тугарина, сопоставляемого обычно с Тугор-каном, половецким ханом, «причинившим немало зла русской земле в последней четверти XI столетия». Тугор-кан действительно жил при Владимире и был тестем киевского князя Святополка Изяславича — т. е. вполне мог оказаться на пиру у князя. Несмотря на родственные связи с русскими князьями, он осаждал и грабил русские города.[72]
В былине Алеша зло высмеивает именно ненасытность Тугарина:
Как у нашего у света у батишка,
У Левонтья попа да у Ростовского,
Была у него собачища жадная,
Еще жадная собака обжорчитая;
По подлавицам собака каталася (валялася),
Лебедино костьё грызла, подавилася;
Оттого этой собаке смерть случилася,
Ещё завтра-те по утру Тугарину то же будёт!
(ТМ, отд. 2, № 29)
В том, что Алеша Попович (по летописи — храбр XIII в.) бьется с Тугариным, насильничавшим в XI в., нет ничего удивительного: оказался же Ермак Тимофеевич героем Мамаева побоища! Та же «пластическая сила мифа» (А. Н. Веселовский) превратила Тугарина, как только он вышел с пира, в змея, сыплющего искрами, с бумажными крыльями. Метафора «враг — змей», свойственная не только фольклору, но и древнерусской литературе,[73] реализуется былиной в зримом эпическом образе. Загадочным бумажным крыльям Тугарина находится параллель в исторических повестях о походе Олега на Царьград, согласно которым Олег «сотвори кони и люди бумажны, вооружены и позлащены, и пусти на воздух на град; видев же греци и убояшася».[74]
Прозвище Алеши — Попович — наталкивало многих позднейших сказителей на интерпретацию этого типа в комическом духе: Алеша Попович попадает впросак, посватавшись к чужой жене; на заставе, когда Илья выбирает, кого из богатырей послать за нахвальщиком, Алеша оказывается самой неподходящей кандидатурой:
Алеша Попович гордлив-спесив:
Не умеет с богатырем как съехаться,
Не умеет богатырю честь отдать.
(Кир., IV, с. 13)
Он не в меру болтлив и может похвастать на пиру любовной связью с девушкой, оправдываясь тем, что и другие богатыри имеют любовницами чужих жен (Марк., № 93, с. 478). На бой с Тугарином он поедет, предварительно договорившись со Спасителем, Богородицей и Миколой Можайским, «Штобы дали они, право, мокра дожжа, А смочили штобы крыльё как гумажноё, Штобы пал-то Тугарин на сыру землю» (Онч., № 64, с. 262).
Время добавило ростовскому «храбру» мельчащие образ «поповские» черточки, Добрыню наделило подлинно дипломатическим умом и даром, а Илью Муромца, крестьянского сына, сформировало в достойного главу русского богатырства, наделив его всеми необходимыми для этого нравственными достоинствами. Конечно, психологизация эпического типа, придание ему выразительного характера — явление довольно позднее, как и наполнение сюжетов реалиями средневекового быта, но за всем этим стоит история, жизнь народа, оценка им своего прошлого, обретение нового опыта, стремление приблизить предания глубокой старины к своему времени.
В период активного бытования былинного эпоса желание сделать этот жанр богаче, разнообразнее, нередко способствовало введению книжных мотивов в основу каких-то, уже бытовавших, но близких к книжным сюжетов. Так, эпическая песня о Василии Окульевиче и царе Соломане позаимствовала основное содержание у легенды соломонова цикла, широко распространенного в Европе. Причем если известные русские письменные прозаические переводы этой легенды не отличаются высокими достоинствами, то в устном эпосе, напротив, мы найдем высокохудожественную ее обработку.
Чего стоит, например, прекрасно разработанный былиной мотив казни Соломона, когда царь трубит перед смертью в турий рог, и из дальних стран летит на помощь царю войско, дрожит земля под копытами коней, гул идет по синю морю, а Василий Окульевич, кудреянский царь, не слышит, не ведает: он как бы наслаждается беспомощностью Соломона, продлевая удовольствие палача перед последними приготовлениями к казни:
Один человек не рать в поли.
Играй-ка ты, играй, Соломан-царь!
(Рыбн., II, № 53, с. 302)
Влияние библейского рассказа об Иосифе и жене Потифара, а также жития святого Михаила черноризца (IX в.) ощущается в былине о сорока каликах со каликою. Монах жития, как и предводитель калик Касьян (Михаил), едет в Иерусалим поклониться святым местам, там его видит царица Сеида и старается прельстить его, «яко егоуптянина Иосифа»; но, не уговорив «на дело зло», она посылает связанного монаха к царю, оклеветав Михаила, «яко поругася ей». Царь казнит монаха, но черноризцы из лавры святого Саввы кладут его тело к святым отцам.
В былине ангелы оживляют Михаила и карают Апраксию болезнью за клевету, а калик, поверивших ей, — слепотой (аллегория: слепота физическая как следствие слепоты духовной, неумения отличить правду от лжи) (Гильф., II, № 96, с. 200).
Тема хождения в Иерусалим стала особенно актуальной в XI—XII вв. В начале XII в. «известия о зверствах крестоносцев и об отчаянном сопротивлении мусульманского населения Палестины... распространились по всему тогдашнему христианскому миру»: важно было узнать правду о первом крестовом походе, особенно для восточного христианства, недавно принявшего крещение и не принимавшего участия в этой борьбе, но живо относившегося к проблеме принятия истинной веры (ср.: летописный рассказ о выборе веры Владимиром).
В 1106 г. игумен Даниил, побывав в Палестинской земле, написал «Хождение», ставшее «излюбленным чтением русских людей и образцом для написания всех других, более поздних «хождений», обильно представленных в русской средневековой литературе».
От XII в. дошли летописные известия о хождении сорока новгородских калик в Иерусалим, часть их — явно фольклорного происхождения.

Ядро сюжета былин о Дюке Степановиче сложилось на национальной основе, во всяком случае, сказители упоминают о том, что Дюк приезжает из «Волынца красна Галичья». Но влияние на былину со стороны сказания об Индийском царстве настолько велико, что в былине легче выявить книжные мотивы, чем древнюю основу, на которую они наслоились. Сказители как будто нарочно дезориентируют слушателей относительно истинной родины героя. Сам о себе Дюк говорит, что он «из Галицы проклятыя, из тоя Индеюшки богатыя, со славного с богата Волынь-города» (Рыбн., I, № 48, с. 284), а то и из «Корелы проклятой», — добавляют некоторые.
А. Н. Веселовский считал, что эта былина была сложена в Галиче XII в. — в крупном торговом центре, ведшем торговлю с греческими колониями Причерноморья; но впоследствии, с централизацией сюжетов вокруг Киева, она пристала к Киеву.
Дюк — это и собственное имя, и титул. М. Е. Халанский предполагал, что за песнями о Дюке стоит какое-то, может быть песенное, сказание о хождении богатырей в Индийское царство.
Записи XIX—XX вв. дают серьезное основание видеть в былине книжные мотивы, общие с рассказом о богатстве Дигениса, героя из рода дуков, жившего на берегах Евфрата,согласно сказанию «Повести об Индийском царстве», существовавшей на западе Европы в виде «послания индийского царя Иоанна к греческому царю Эммануилу.
Там она была популярна как предвестие крестовых походов и утопических ожиданий, что где-то далеко есть могучее царство христиан, которое в минуту опасности явится на помощь своим западным единоверцам. Эта латинская повесть зашла в западную Сербию, на Далматинское побережье, где в XIII в. было сильно литературное движение и где славянская культура скрещивалась с византийской и западноевропейской».
Таким образом, влияние «Повести» на былину относится к XIII в. Это действительно утопическая земля — по «Повести» в ней нет ни вора, ни завистливого человека, во время выезда перед царем несут золотые кресты и знамена; двор Индийского царя так велик, что его не объехать и в пять дней, палаты украшены драгоценными камнями, потолки их — как небо со звездами и луной, прислуга царя — короли и царевичи, их 30 000 человек, и они стольничают вместе с Иоанном.
В былине:
Двор у Дюка на семи верстах,
Да кругом двора да все булатний тын,
Столбики были точеные,
Да точёные, да золочёные,
Да на кажном столбичку по маковки,
Маковки ты были медные,
Дорогою меди все казарские,
Да пекут лучи да солнопечные
По тому по городу по Галице,
Да по той Волын-земли богатые.
(Гильф., III, № 243)
С другой стороны, далеко за пределами Русского государства славились поистине восточное великолепие московского двора, пышность выездов царя и его свиты: «В старину впереди духовных процессий шли метельщики и прометали дорогу метлами», такое метение изображено на картине у Олеария (ср.: метельщики, прометающие дорогу перед Дюковой матушкой); «роскошь красок и позолота являлись непременным условием внешней и внутренней отделки» царских палат,«подсолнечник» былины — балдахин, который в Западной Европе несли в торжественных случаях над коронованными особами или при религиозных процессиях над высшим духовенством.
Что до пуговиц, благодаря которым Дюк выигрывает состязание в щапстве с Чурилой, то в XII и XIII вв. русские пуговицы обычно представляли собой сложный декоративный узел из двух птиц, львов, драконов или каких-либо других фантастических животных, сплетшихся хвостами:
Надел Дюк шубу соболиную,
Под дорогим под зеленым под знаментом,
А пуговки были вольячные,
А лит-то вольяг да красна золота,
Петельки да из семи шелков,
Да в пуговках были левы-звери,
А в петельках были люты змеи.
Накладывал он шляпу семигрянчату,
Пошел-то Дюк да во Божью церковь.
Зарыкали у Дюка тут левы-звери,
Засвистели у Дюка тут люты змеи,
Да все тут в Киеви заслушались,
А все тут-то Дюку поклонилися.
(Гильф., III, № 230, с. 233)
Прозвенели, просияли дюковы пуговицы в пасхальную заутреню в Киеве — и не умолкнуть теперь тому звону в эпической песне, как не исчезнуть камню Ильи с перекрестка трех дорог, не утихнуть киевскому пиру...
Говоря о книжном влиянии на былину, нельзя не сказать и об обратном процессе: о колоссальном влиянии устной поэзии на традиции древнерусской литературы. Здесь дело не в отдельных реминисценциях: «авторы письменных повестей мыслят как народные эпические поэты»: в повести о разорении Рязани Батыем «все <...> рязанские князья именуются „братьями“», причем в совещании, созванном князем Юрием Ингоревичем перед нашествием Батыя, участвуют и живые, и мертвые к 1237 году князья»; «в битве с Батыем гибнут все рязанские князья, хотя исторически это неверно».[88]
Все это дало возможность Д. С. Лихачеву сблизить литературное повествование с былиной о гибели богатырей, поскольку их роднит эпическое осмысление Батыева погрома как круговой чаши смерти русских воинов.
В преданиях о борьбе с врагами «Повести временных лет» «летописцем полностью воспринято народное отношение к врагам: они посрамлены, притом не превосходством силы, а умом, уменьем».
Для «Слова о полку Игореве», как и для былины, свойственно обращение ко времени Владимира как к начальному времени, золотому веку. Владимиров было много в домонгольской Руси — около сорока князей носило это имя, «старый» Владимир был один: тот самый, который собрал всех князей, бояр, богатырей и полениц за одним столом в Киеве, чье имя стало былинным. По летописным сведениям и Добрынь было несколько в Древней Руси, но память сохранилась в народе лишь об одном — о том, который освободил Киев от змея.
Умение видеть исторически значимое — общее свойство былины и летописи. Идеализация в былинах — богатырей, в летописи — князей, вставших во главе войска, защищавшего родную землю, — важнее трезвой, объективной оценки их положительных и отрицательных качеств, подчас своекорыстной политики князей. Возглавив войско, они стали «представителями „русской земли“, за ними стоят „храбрые русичи“, „храбрая дружина“, „храбрые полки“, „сведоми къмети“, которые ищут „себе чти, а князю славе“, которых немало „полегоша за землю Рускую“», и это символ войска, «„загораживающего“ „своими острыми стрелами“ „Полю ворота“».
Но, пожалуй, самое главное, что позаимствовала древнерусская литература у народной эпической традиции, — гиперболизация действительности, когда речь идет о защитниках русской земли, о масштабных событиях истории государства. Подобно былинам, древнерусское повествование о схватке с врагом насыщено гиперболой: воины «„кликом плъки побеждают“, „по крови“ плавают и все же сражаются, могут Волгу „веслы раскропити“, а Дон шеломы выльяти“».
В целом эпос киевской поры воспроизводил некий идеальный учительный образец государства, не столько отражавший реальную историю, сколько выражавший устремленность народного идеала. Народные певцы не заметили, точнее, не пожелали заметить междукняжеской грызни и начавшегося удельного раздробления Киевской державы.
В эпосе происходит упрямая циклизация сюжетов, только вместо родства появляется новая связь: богатыри приезжают служить князю Владимиру и становятся членами одного и того же государственного союза (сходную картину представляла циклизация сюжетов о рыцарях круглого стола вокруг легендарной фигуры короля Артура). Знаменательно, что в былинах постоянно повторяются в одном родственном ряду Киев и Чернигов — хотя реально в домонгольской Руси эти города и их князья чаще всего находились во вражде.
***
Вне общей циклизации вокруг князя Владимира остались лишь былины новгородского цикла, на что были глубокие причины как в самой истории вечевой республики — так и в том, что русичи новгородские произошли от балтийской ветви поморских славян (венедов). По-видимому, именно в их мифологию уходят истоки былин о Садко (жена из «того мира», магическое умение играть на гуслях и пр. — свидетельства о глубокой древности сюжета).

В Новгороде Великом былина подверглась существенной переработке, почти что создалась заново. Были найдены чрезвычайной яркости образные детали, воспроизводящие величие вечевой торговой республики, хотя бы та, что разбогатевший Садко пробует скупить все товары новгородские, но скупить не может.
Назавтра же торговые ряды вновь заполняются грудами товаров, привезенных со всего света: «А со всего света товары мне не выкупити! — решает герой. — Пусть же буду не я богат, Садко, гость торговый, а богаче меня Господин Великий Новгород!».
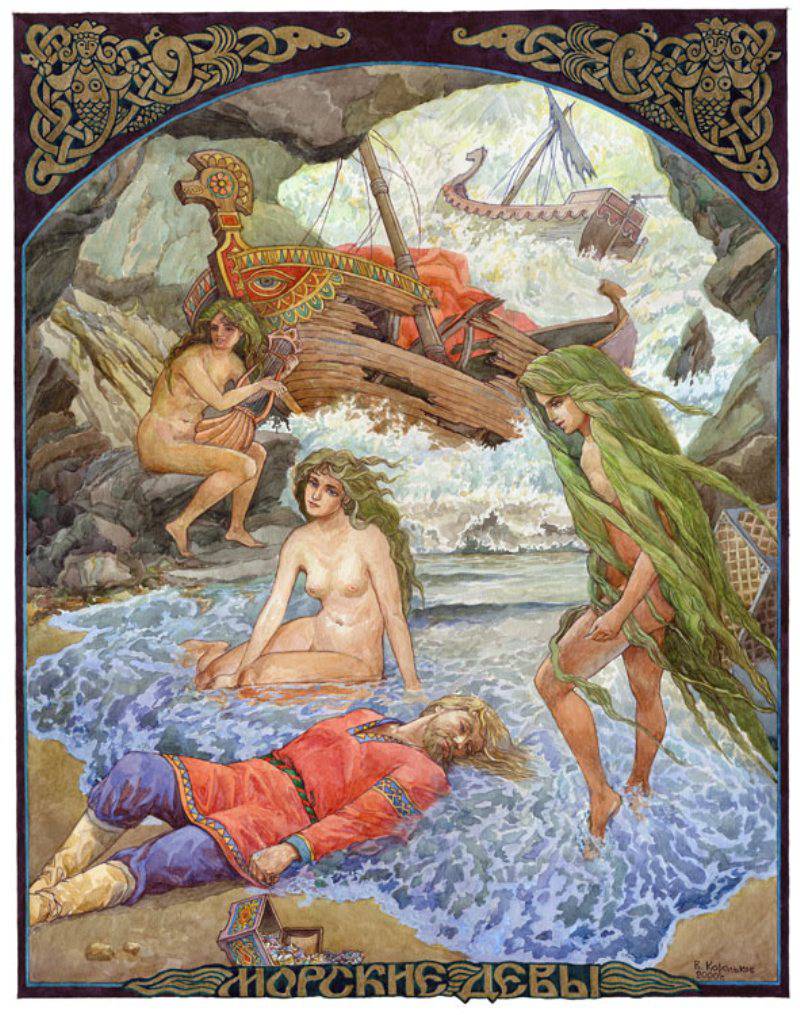
Все это: и неумеренная похвальба, и роскошные палаты бывшего гусляра Садко, и этот грандиозный спор — также воспроизводятся средствами эпического преувеличения, т. е. стиль эпоса не меняется, невзирая на отсутствие в данном случае воинской героики.
Былину о Василии Буслаеве (точнее, две, как и о Садко) исследователи обычно относят к XIV—XV вв., ко времени ушкуйных походов, что ни в коей мере не соотносится с данными сюжета. Легендарный Васька Буслаев, попавший даже в летопись со званием посадника новгородского, по тем же преданиям, жил задолго до татарского нашествия, и собрался он, по былине, совсем не в ушкуйный поход, а на Иордан, присовокупивши при этом: «Смолоду много бито, граблено, под старость надо душа спасать!» А хождения в Святую Землю, неоднократно предпринимавшиеся новгородцами, падают на те же домонгольские XI—XII вв. То есть сложение сюжета произошло в те же «киевские» сроки, что и обработка былин о богатырях Владимирова круга.
Новгород Великий основан в начале VIII столетия и возник как союз трех племен: Словен, продвинувшихся с юга, от дунайской границы (они и возглавили союз, принеся с собою племенное имя «русь» на север); кривичей и славян поморских — эти двигались с Запада, теснимые немцами; и местного чудского племени. Каждое племя создало свой центр, образовавший городской «конец»: Славна — на правом берегу Волхова, где была княжеская резиденция и городской торг; Прусский, или Людин, конец — на левом, где позднее возник Детинец с храмом святой Софии; и Неревский (Чудской) конец — тоже на левом берегу, ниже по течению Волхова (позднее выделились еще два конца: Загородье и Плотники).

Такое происхождение города предопределило затяжную кончанскую борьбу, причем Славна чаще опиралась на «низовских» князей, «Пруссы» — на литовских. И хотя население с течением времени полностью перемешалось, рознь городских концов раздирала Новгородскую республику до самого конца ее существования. По изустной легенде, свергнутый Перун, проплывая по Волхову, бросил на мост свой посох, завещав новгородцам вечно драться тут друг с другом. Во время городских смут обычно собирались два вечевых схода по ту и эту сторону Волхова и дрались или «стояли в оружии» на Волховском мосту.
Освоение новгородцами Севера и Приуралья осуществлялось в основном отдельными дружинами «охочих молодцов», которых тот или иной удачливый предводитель (чаще всего из бояр) набирал по «приговору» веча, а то и сам по себе, «без слова новгородского». Ватаги эти захватывали новые земли, собирали дань, промышляли зверя, основывали укрепленные городки, торговали. Сбор подобной дружины «охочих молодцов» ярко показан в былине о Ваське Буслаеве, где перечислялись, по-видимому, основные эпические герои Великого Новгорода, «вольница новгородская». (Перечень этот, к сожалению, был уже позабыт сказителями.)
Былина о Буслаеве выразительна в том отношении, что на место обычного во всяком эпосе воинского героизма, поединков с внешними врагами, отбивания вражеских ратей и увода красавиц ставит внутренние социальные конфликты вечевой республики, сконцентрированные здесь — по законам былинного жанра — за много веков. Тут и сбор дружин из «охочих молодцов», и бои на мосту Волховском, и «матерые вдовы» — владелицы крупных имуществ (фигура Марфы Борецкой симптоматична именно для Новгорода). Собственно спору двух подобных владетельных боярынь посвящена и третья новгородская былина — «Хотен Блудович».
Василий Буслаев во всей своей бесшабашной и удалой натуре в этом задоре, когда он крушит противников на Волховском мосту, когда вдруг произносит покаянно: «Смолоду много бито, граблено, под старость надо душа спасать»; в последующей богатырской поездке — хождении в Иерусалим, в озорном поведении на Иордане, в последнем своем споре с мертвой головой, спором-гибели (камень, через который скачет Василий — вероятный выход в загробное царство, т. е. конец, уничтожение, подстерегающее в свой час и самого сильного из сильных), — во всем этом Буслаев выработался в такого истинно русского героя, как бы завещанного грядущему (не его ли черты сказались в землепроходцах, покорителях Сибири, вождях казацких походов и восстаний?), что и поныне облик, образ и судьба его волнуют едва ли не более, чем образы древних эпических воинов, не исключая и самого Илью Муромца.
***
«Московский» период развития эпоса привел к новому грандиозному переоформлению всей эпической сюжетики. Создание нового этноса — Руси Московской шло рука об руку с государственным строительством и утверждением феодальной системы, которая сама по себе уже не способствует продуктивному эпическому творчеству. На Западе, например, сложение феодальной кастовости привело к тому, что вместо отодвинутого в прошлое эпоса возник стихотворный рыцарский роман.
В специфических условиях России феодализм — нечто качественно иное, чем феодализм в странах католического Запада, — потребность удерживать обширную, редко населенную страну, суровые климатические условия и многое другое диктовали иную расстановку классовых сил (в частности, бо́льшую культурную близость социальных групп), а значительная сила центральной власти уравновешивалась не столько городскими коммунами с их самоуправлением, как на Западе, сколько бо́льшею свободой и зажиточностью черного крестьянства и сильными традициями общинного самоуправления вплоть до конца XVII столетия — до реформ Петра I, отдавшего некогда свободных крестьян в безраздельное господство помещичьего класса. И поэтому, в частности, эпос и уцелел на окраинах, не знавших крепостного права.

Русский эпос не умер в Московский период истории и не превратился в подобие рыцарского романа, но он явно стал уже наследием старины, былинные Киев и князь Владимир продолжали оставаться в эпосе как непременный поэтический центр «эпической старины», но зато явились новые враги — «ляхи» и «злы татарове», которых прежние богатыри побеждают прежними средствами, в лихих богатырских поединках или выезжая в одиночку против целого войска. Исследователи эпоса обычно сосредоточивали внимание на борьбе с Ордой, но и в действительной исторической жизни Руси XIV—XVI столетий, и в эпосе Литва, ляхи, ляшский или ляховинский король занимают едва ли меньшее место.
Не забудем, что со второй половины XIV века Литва захватывает по сути всю территорию бывшей Киевской Руси и борьба с нею и с Польшей за возвращение потерянных исконных земель Руси Великой затянулась на три столетия дольше, чем борьба с Ордой. Другой разговор, что население Литвы состояло в основном из русичей, и конфликты принимали иной характер (эпос весьма часто изображает, например, сватанье к дочери короля ляховинского).
Однако совершенно новых сюжетов, посвященных этому времени (за исключением, быть может, «Братьев Ливиков»), мы не находим. Народ воспользовался имевшимся эпическим наследием, лишь влив в него новое историческое содержание. Уже это одно говорило о близящемся конце эпического творчества.

В те же XIII—XV вв. возникают для отражения современной действительности новые жанры иного характера (бытовые, исторические и этико-философские песни-баллады), более приспособленные к условиям духовной атмосферы средних веков.
Уже на «Братьях Ливиках» заметно, как стройная некогда система эпических гипербол начинает давать трещины, как уже не укладывается в нее новое содержание и новый взгляд на характер военных конфликтов.
Именно московская эпоха, по-видимому, рождает былинную тему несправедливости государя по отношению к слуге, в сюжетном развитии которой богатырь ощутимо теряет свою прежнюю героическую независимость. Кастовость, отстояние, оборачивающиеся фактическим бессилием обиженного, уже не имеющего власти уехать от несправедливого князя или мощно восстать против него. Такова былина о Даниле Ловчанине. Героя посылают не за тем, чтобы совершить подвиг государственного значения, — он послан удовлетворить прихоть государя, послан за редкостью, что уже само по себе снижает значение эпического деяния.
И лишь нежданные обстоятельства помогают ему оказаться, так сказать, на высоте героических задач — разгромить врага. А в его отсутствие князь покушается на жену героя. Заметим: именно князь. И герой не может отомстить за оскорбление, он может только погибнуть... Сама сюжетная коллизия ощутимо тяготеет к балладной. Акценты с физической мощи перемещаются в сферу духовно-нравственных столкновений, где герой, как это часто бывает в балладах, может погибнуть физически, одержав посмертно моральную победу над враждебными ему силами.
Московский период породил и образ Василия-пьяницы — героя, который до времени спит в кабаке, а в грозный час встает и одолевает врага. Коллизия родилась закономерно: сказители не видели, где в окружающей их действительности мог бы родиться богатырь. Разве там, куда уходят с некоторой поры русские силы, наивно полагая, что стоит только захотеть, восстать... Поздняя полубаллада «Бутман» посвящена тому же наивному и трагическому ожиданию героя. («Московский» налет особенно заметен на былинах из сборника Кирши Данилова.)
Герои приобретают разные размеры, система гипербол как бы намеренно меняется, приобретая скорее сатирический оттенок. В повествование вливается масса бытовых черт XVI—XVII вв. Рядом с древними эпическими героями в тех же сюжетах перечисляются герои нового времени. Скопин оказывается на заставе с Ильей и Добрынею.

Тот же Скопин присутствует в качестве дружки на свадьбе Дуная. В былине об Иване Годиновиче роль Кащея выполняет «Гришка-Расстрижка нечистый дух» (поскольку его свадьба с Мариной рассматривалась как нечистая). В поздней былине «Илья Муромец и разбойники» народ противопоставил древнего своего героя «героям» нового времени, попытавшимся, было, ограбить Илью.
Добродушный богатырь стреляет в дуб, разлетающийся в щепки, а разбойники на коленях просят помиловать их и зовут Илью в атаманы. Но Илья отказывается, возвращаясь в свое древнее, киевское, время — «к Владимиру князю на вспоможение».
***
В последние века своего существования эпос полностью исчезает, забывается в центральной России и продолжает существовать лишь у казаков (отрывочно) и на Русском Севере, где вольная жизнь, древний характер промыслов — с долгими вечерами на тонях, известная удаленность от внешних влияний — поддерживали и сохраняли память о былом величии народа, государства. Сюжеты былин бережно сохранялись тут.
По-видимому, даже дорабатывались. Едва ли не на Русском Севере (быть может, даже именно на Печоре) возник, например, такой эпизод.
Дюк Степанович или Илья Муромец едут и с холма озирают землю, видя — на севере. «Все леды стоят, ледяны горы» (т. е. Ледовитый океан), на Востоке — «горы каменны» (Урал), на юге — хлебородные степи, еще далее — поле чистое, где разъезжают, охраняя границу, русские могучие богатыри и, наконец, на западной стороне — Киев с золотыми маковками церквей. Так оглянуться, чтобы разом увидеть все пространство русской земли, может только эпический герой.
Здесь, на Севере, и обнаружили собиратели прошлого века основные россыпи эпического богатства, и угасающее древнее искусство разом обрело новую жизнь, повлияло на музыку, живопись, поэзию, литературу нового времени. Ушедший из живого бытования эпос не перестал быть носителем и возбудителем народного самосознания, не перестал быть основою культуры, высоким образцом, данным на века.
Уважение к преданию есть первый признак культуры. Подобно тому, как ушедшие из живого бытования эпосы — гомеровской Греции, кельтов, скандинавов, индусов, и многие другие обрели новую жизнь, будучи записанными, перейдя в литературный обиход, подобно этому и наш, русский, эпос только начинает свою вторую, письменную, жизнь, продолженную вперед на многие и многие грядущие столетия.
II
Древние эпические песни, получившие в позднейшей науке название былин, в литературно-научное обращение вошли в начале прошлого столетия, когда в 1804 и 1818 гг. вышли два издания знаменитого Сборника Кирши Данилова.
Единичные публикации былинных текстов появлялись, правда, и несколько раньше (в песенниках М. Д. Чулкова, Н. И. Новикова, И. И. Дмитриева), но особого внимания они не привлекли и собственно научной ценности не представляли: неизвестно, от кого и где записанные, подвергшиеся очевидной литературной обработке, тексты эти, естественно, не отвечали ни одному из тех требований, которым должна отвечать научная запись фольклорного текста.
Сборник Кирши Данилова явился в этом отношении подлинным открытием. В плане необходимых данных, характеризующих научную запись, он, правда, не слишком отличался от предшествующих публикаций, однако на его стороне было то первостепенной важности преимущество, что все его тексты несомненно были записаны «с голоса», что указывало на весьма развитую и, по-видимому, совсем еще недавно существовавшую устную традицию.
Это последнее обстоятельство несомненно должно было осознаваться современниками как особо важное и знаменательное, ибо позволяло думать, что если еще в XVIII столетии эпические песни о временах князя Владимира Киевского находились в живом устном обращении, то отнюдь не исключено, что в каких-то местах (хотя бы на том же Урале, откуда был доставлен Сборник Кирши Данилова) следы их могут быть обнаружены и сегодня.
Одним словом, материалы Сборника красноречиво свидетельствовали, что народная эпическая поэзия, не исключая даже самых древних ее форм, — это не просто случайная археологическая находка, не полуистлевший папирус с отрывочными и малопонятными письменами, а вполне реальная народнопоэтическая традиция, сравнительно недавнее существование которой, подтвержденное Сборником Кирши Данилова, дает основание считать, что в том или ином виде она, возможно, продолжает существовать и поныне.

Сборник Кирши Данилова включал 26 былинных текстов, и тексты эти долгое время оставались тем единственным «фондом основных былинных сюжетов»,которым располагала русская наука и из которого она исходила так или иначе во всех своих построениях. В ходе широчайшей собирательской деятельности, развернувшейся начиная с 30-х гг. по инициативе и под руководством П. В. Киреевского, фонд этот постепенно увеличивался, разрастался, однако в научное обращение результаты этой огромной и чрезвычайно плодотворной работы поступали до поры весьма скупо. Достаточно сказать, что сам Киреевский из всего своего обширнейшего собрания успел опубликовать всего лишь пять былин.
После смерти П. В. Киреевского (1856) на основе его собрания крупное сводное издание былин подготовил и осуществил П. А. Бессонов.
Кроме записей самого Киреевского и его корреспондентов сюда вошли и многие другие тексты, извлеченные Бессоновым из различных изданий XVIII—XIX вв. — от песенников XVIII в. до новейшего сборника П. Н. Рыбникова, выходившего одновременно с «Песнями, собранными П. В. Киреевским» под редакцией того же П. А. Бессонова. Примечательной особенностью нового издания было также и то, что в «Приложениях» Бессонов напечатал ряд сказок о богатырях из сборников В. А. Левшина, И. П. Сахарова, из некоторых лубочных изданий.
Для своего времени издание Бессонова было явлением достаточно значительным, поскольку представляло собой первую в русской науке попытку дать нечто вроде свода былинных текстов и подвести своего рода итог первому этапу их собирания и изучения. Обе эти задачи были, конечно, весьма актуальны, однако научный уровень, на котором Бессонов пытался их разрешить, оказался не слишком высоким.
Целый ряд материалов (в том числе из собрания самого Киреевского) остался неучтенным, внутренняя организация имеющегося материала отличалась бессистемностью и субъективизмом; что же касается научного комментария, столько же громоздкого, сколько и беспорядочного, то, несмотря на отдельные достаточно основательные и ценные наблюдения, в целом он даже для своего времени выглядел очевидным анахронизмом, «возвращая к уже давно изжитой поре фольклористических изучений».
Первые выпуски «Песен, собранных П. В. Киреевским» только еще начинали свой путь к читателю, когда в русской фольклористике произошло событие, которое без всякого преувеличения можно отнести к крупнейшим открытиям мировой науки XIX столетия.
Речь идет об открытии, сделанном в конце 1850-х гг. скромным чиновником канцелярии Олонецкого губернатора Павлом Николаевичем Рыбниковым.
Как уже говорилось, уникальные материалы Сборника Кирши Данилова не могли не поселить в русском сознании если не положительной уверенности, то во всяком случае надежды на то, что очаги древней эпической поэзии, которые столь ярко горели еще во времена нашего первого собирателя, вполне возможно, не совсем угасли еще кое-где и в новейшие времена. Надежда эта сохранялась постоянно, поддерживаемая как общим воззрением, так и тем, что на протяжении 30—50-х гг. из разных мест то и дело доходили известия о новых, пусть и небольших, былинных находках (нижегородских — Фаворского, саратовских — Шейна, шенкурских — Верещагина, алтайских — Гуляева и др.). Однако это по-прежнему были лишь крупицы, к которым вряд ли можно было относиться иначе, как к проявлениям некоей остаточной традиции, традиции, которая, по-видимому, хотя и живет еще кое-где, но уже завтра может исчезнуть бесследно.
И вот в 1861 г. вышел первый том «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым».
О впечатлении, произведенном им в ученом мире, А. Н. Пыпин писал, что это «было изумление и даже недоверие».
Действительно, казалось просто невероятным, что в то время, когда эпическая традиция считалась почти повсеместно утраченной, когда не только былины, но и гораздо более поздние эпические произведения — исторические песни и баллады — приходилось собирать буквально по крупицам, наконец, когда за весь предшествующий, почти столетний период отечественного собирательства было обнаружено лишь немногим более 50 былинных текстов, казалось просто невероятным, повторим мы, что в деревнях и селах Олонецкого края, т. е. совсем недалеко от Петербурга, эпическая традиция существует, оказывается, чуть ли не в первозданном своем виде.

Знаменитые европейские литературные мистификации — Макферсона, Ганки, Мериме, — а также нашумевшая незадолго перед тем «рукопись тульского купца Бельского», были еще у всех на памяти, а потому и к материалам Рыбникова ученый мир отнесся поначалу с подозрением, тем более что никаких сведений, проливающих свет на происхождение этих материалов, в первых двух томах издания не сообщалось.
Предпринято было даже нечто вроде небольшого «расследования»: И. И. Срезневский обратился к петрозаводским ученым Д. В. Поленову и В. И. Модестову с просьбой сообщить все, что им известно о Рыбникове и о его удивительном открытии. Ответ ученых рассеял все сомнения, и было окончательно признано, «что труд г. Рыбникова достоин доверенности, что на песни, им записанные, надобно смотреть как на действительное достояние народное».
«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (последний, четвертый, их том вышел в 1867 г.) ознаменовали собой начало нового и, можно смело утверждать, самого плодотворного периода в истории собирания былин. Дело даже не в том, вернее, не только в том, что для отечественной науки была открыта настоящая «Исландия русского эпоса», в которой древняя былина сохранилась в необычайном богатстве и небывалом сюжетном многообразии.
Еще более существенным было другое: впервые в своей истории русская фольклористика получила реальную возможность изучать эпическую поэзию не как некую остаточную традицию, все значение которой заключается в том, что она донесла до новейших времен смутные отголоски древних эпох, а как вполне очевидный факт современной народной поэзии, как одно из проявлений современного народнопоэтического сознания, требующее уже не одного только ретроспективно-исторического объяснения.
Больше того, факт активного бытования (а не просто пассивного хранения) былинного эпоса ставил совсем по-иному и вопросы самого этого исторического изучения, поскольку творческие процессы, характеризующие современную жизнь былины, несомненно могли рассматриваться и как некая «модель» процессов, происходивших в эпосе в далеком прошлом.
Какими факторами определяется реальная жизнь былины? Что влияет на ее развитие? Какие изменения происходят в ней под влиянием условий, в каких она существует, и что остается в ней относительно постоянным?

Все эти важнейшие для понимания былины вопросы теперь могли быть поставлены на достаточно широкой фактической основе и несомненно должны были привести к существенным теоретическим обобщениям. И именно с тем, чтобы уловить, отразить, учесть всю характерную динамику процессов, происходящих в современной жизни былинного эпоса, Рыбников намеревался представить собранный им материал, руководствуясь региональным принципом.
Именно этот принцип в наибольшей мере позволял выявить всю сложность и всю специфику связей, в которых былина существует и развивается в реальной жизни, отражая на себе множество всякого рода влияний и зависимостей, которые невозможно обнаружить при любом другом принципе систематизации.
П. А. Бессонов, редактировавший издание, не принял принципов Рыбникова. Как и при издании собрания Киреевского, он расположил материал по сюжетам, не сумев, впрочем, провести достаточно последовательно и этот принцип. Замысел Рыбникова был восстановлен лишь во втором издании его собрания, выпущенном А. Е. Грузинским в 1909—1910 гг.
«Олонецкий феномен», открытый Рыбниковым, на многие годы определил основные направления собирательской работы, равно как и общую систему «координат», в которой теперь должны были рассматриваться собранные материалы. Одним из самых ярких примеров в этом отношении может служить вышедшее в 1873 г. фундаментальное издание «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года».
Известный русский славист А. Ф. Гильфердинг предпринял летом 1871 г. поездку в Олонецкий край, не имея, как он признавался позднее, никаких других целей, кроме той, чтобы «послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников. Сам Павел Николаевич, — писал он, — поощряет меня к поездке в этот край, подав надежду, что она может быть не бесполезна и после его работы».
За полтора с небольшим месяца Гильфердинг побывал почти во всех рыбниковских местах, сделал записи от 70 «рапсодов», записав от них 322 текста, в том числе 270 былин. В следующем году, собираясь продолжить свою работу, он вновь отправился в Заонежье, но в пути заболел тифом и умер в Каргополе.
Подготовленный им сборник, вышедший через год после его смерти, явился первым научным изданием, в котором в полном объеме были применены эдиционные принципы П. Н. Рыбникова. Былины и песни представали в рамках определенных региональных комплексов, складывавшихся из репертуаров отдельных сказителей; каждый из разделов сопровождался кратким очерком собирателя — историко-этнографическим или биографическим, — а всему изданию предпосылалась обширная вступительная статья-исследование Гильфердинга «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды», в которой давалась общая картина состояния и развития эпической традиции в Олонецком крае и намечались важнейшие линии в ее изучении.
Громкий успех изданий Рыбникова и Гильфердинга способствовал резкой активизации собирательной деятельности в самых разных областях России. Продолжает свои многолетние труды на Алтае С. И. Гуляев;появляются публикации былинных текстов из Сибири;явственные признаки самобытной эпической традиции обнаруживаются на юге России — на Дону, Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье.

Однако основное внимание собирателей в этот «послерыбниковский» период было привлечено все же к Русскому Северу и прежде всего к тем районам, с которыми связывалась еще свежая память об открытиях Рыбникова и Гильфердинга. В разные годы здесь, в Олонецком крае и прилегающих к нему районах, работали ученики Е. В. Барсова и П. С. Ефименко, Ф. М. Истомин и Г. О. Дютш, несколько былин здесь записал молодой А. А. Шахматов.
Благодаря их усилиям отечественный научный фонд пополнился несколькими десятками новых былинных записей, однако каких-либо особо весомых результатов, хотя бы в какой-то мере сопоставимых с открытиями Рыбникова и Гильфердинга, эта работа все же не принесла. Время новых открытий было еще впереди.
Открытия произошли в самом конце 90-х гг., на рубеже веков. И вновь — на Севере, как в общем-то и ожидалось. Новые мощные очаги эпической поэзии были обнаружены на обширном пространстве — от Терского и Зимнего берега Белого моря на северо-западе до Мезени и Печоры на востоке.

На основе богатейших материалов, собранных там А. Д. Григорьевым,А. В. Марковым,Н. Е. Ончуковым,были составлены и изданы фундаментальные собрания, прочно вошедшие в классику отечественного собирательства. Составленные в соответствии с эдиционно-собирательскими принципами Рыбникова-Гильфердинга, к тому времени общепризнанными, они во многом способствовали развитию и упрочению той особой научной традиции, того глубокого оригинального подхода к изучению народной поэзии, который в мировой науке получил название «русской школы фольклористики».
Основные направления и методы собирательской работы, сложившиеся в дооктябрьской русской науке, продолжали сохраняться и в советские годы. Однако и общее понимание фольклора, и конкретные задачи, выдвинувшиеся в эти годы перед фольклористикой, приобрели целый ряд новых аспектов, которые, естественно, отразились, не могли не отразиться и на принципах собирательской работы, на самом характере ее исследовательских перспектив, если можно так выразиться.
Как известно, старая фольклористика хотя и признавала, что эпическая традиция еще не вполне исчерпала себя и продолжает оставаться фактом современной народной жизни, была тем не менее убеждена, что в общем и целом традиция эта все же принадлежит прошлому и что ослабление ее, а затем и полное исчезновение — это лишь вопрос времени, причем не слишком отдаленного.

Поэтому первейшей заботой исследователей было зафиксировать по возможности весь наличествующий в настоящее время эпический репертуар с ближайшей целью изучить его структуру, его внутреннюю динамику, способную, как они считали, дать известное представление и о процессах, протекавших в эпической поэзии в далеком прошлом. И лишь в той мере, в какой современная жизнь эпической традиции могла служить пояснением к ее истории, она и интересовала исследователей.
Общее понимание народной поэзии, выраженное еще П. В. Киреевским,а вместе с тем и его неутешительный прогноз относительно ее судеб, оставались в дооктябрьской науке непоколебимыми; блистательные успехи собирательской работы во второй половине XIX в. и в начале XX не опровергали в ее глазах этого прогноза, а лишь отодвигали во времени его окончательное исполнение.
В советской фольклористике с самого начала утвердилась совершенно иная система воззрений на фольклор и его исторические судьбы. Принципиальное ее отличие состояло в том, что в понятие «фольклор» включались не только те специфические, характерные для традиционной народной поэзии формы, которые всегда воспринимались как выражение относительной культурной автономии народных масс, но и вообще все проявления народной художественной активности, будь то продолжающееся функционирование старых жанров или же закономерное в эпоху культурной революции обращение широких народных масс к новым, только еще входящим в народный быт формам специализированного искусства (художественная самодеятельность, литературное творчество и т. д.).
В соответствии с этим пониманием произошла весьма существенная переакцентуация и в решении вопроса об эпической поэзии. Процессы, происходящие в жизни, скажем, былины, по-прежнему привлекали внимание фольклористов, и изучение их велось на основе той же методики, что и прежде. Однако теперь они изучались не только и даже не столько в интересах выявления истории былины, сколько в интересах определения степени ее творческой жизнеспособности, способности к дальнейшему продуктивному развитию.
Если, например, для Рыбникова и Гильфердинга так называемое «личное начало» в жизни эпической традиции было одним из феноменов, объясняющих современное состояние эпической традиции и позволяющих с известной долей уверенности судить о ее прошлом (поскольку было установлено, что «личное начало» действует лишь в пределах этой традиции), то советскими фольклористами «личное начало» рассматривалось как потенциальный и, в сущности, ничем не регулируемый источник дальнейшего преемственно-продуктивного развития эпической традиции. Исходя из объективного анализа современного состояния былинного эпоса, они признавали, что в традиционных своих формах он безусловно обречен на полное исчезновение.
Однако отмирание традиционных форм — это, как они считали, еще не отмирание самой эпической традиции. Ибо отмирая в своих архаических формах, былинный эпос, по их мнению, возрождается в новых формах, соответствующих новому характеру народнопоэтического сознания.Подтверждение этому взгляду они видели в фактах сказительского новотворчества, в так называемых «новинах», которые в 20—30-е гг. занимали довольно приметное место в репертуаре некоторых северных сказителей (М. С. Крюковой, П. И. Рябинина-Андреева и др.).
Надо, впрочем, сказать, что хотя столь расширенное толкование фольклора и открыло на известное время дорогу материалам, с точки зрения строгой науки весьма сомнительным, но на общем высоком уровне собирательской работы 20—30-х гг. это ни в коей мере не отразилось. Собирание и изучение старой доброй былины шло своим чередом, былинный фонд науки продолжал неуклонно расти. Так, например, только одна экспедиция братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых, организованная ими под характерным названием «По следам Рыбникова и Гильфердинга» (1926—1928), дала 370 былинных записей.

Не менее впечатляющими были и результаты комплексной экспедиции ГИИИ, работавшей в те же годы в Заонежье, на Пинеге, Мезени и Печоре под руководством А. М. Астаховой.Материалы, собранные в этих, равно как и во многих последующих экспедициях, конечно, не относятся к разряду открытий; ни новых эпических «материков», подобных, скажем, рыбниковской «Исландии», ни новых былинных сюжетов в этих экспедициях открыто не было.
Однако научное значение их было при всем том исключительно велико: не говоря уже о том, что на былинной карте страны благодаря им почти не осталось «белых пятен», а количество былинных записей ныне исчисляется уже тысячами и тысячами, они позволили выработать широкое и ясное представление о процессах, характеризующих развитие эпоса на протяжении весьма длительного периода его истории.
Работу по собиранию былин, продолжившуюся более двух столетий, сегодня можно считать практически завершенной — единичные записи, которые время от времени появляются на страницах разных научных изданий, общей картины ни в каком случае не меняют. Сегодня наступила пора иных задач, иных проблем.
Они заключаются в том, чтобы несметные эпические богатства, добытые многими и многими поколениями русских собирателей, богатства, подлинного масштаба которых мы себе даже не представляем (поскольку часть их рассыпана по редким или же полузабытым изданиям, часть продолжает ждать своего часа в архивах и частных коллекциях), чтобы эти богатства были наконец учтены и сведены воедино, четко систематизированы и представлены широкому читателю в виде того, что можно было бы назвать Сводом русской эпической поэзии.
***
До появления первых двух изданий Сборника Кирши Данилова былины, как уже отмечалось, не привлекали особого внимания. Редкие-редкие их образцы, временами попадавшие на страницы популярных песенников, воспринимались, читающей публикой, пожалуй, скорее как нечто производное от всякого рода «Гисторий», «Сказаний», «Повестей» и т. д., нежели как оригинальный песенный комплекс, истоки которого восходят к глубокой древности. Потому в словесности XVIII — начала XIX вв. чаще можно было встретить литературную обработку какого-нибудь былинного сюжета, мотива или образа, чем ученое рассуждение на подобную тему.
Первым опытом собственного научного осмысления былин явилось предисловие К. Ф. Калайдовича ко второму, осуществленному им самим изданию «Древних российских стихотворений» (1818).
Проведя тщательный текстологический и палеографический анализ рукописи Сборника, сопоставив его материалы с весьма широким кругом исторических и литературных данных, Калайдович не только сумел выяснить некоторые существенные моменты, связанные с происхождением Сборника и характером его материалов, но и — что особенно важно подчеркнуть — во многом предопределил самый тип тех критериев, которые во всех дальнейших изучениях эпической поэзии будут применяться в качестве исходных.
Главный из них — это возможность соотнесения былинных сюжетов и персонажей с теми или иными событиями, зафиксированными историческими источниками, возможность своего рода проверки первых вторыми. С этими критериями впоследствии будут принуждены считаться так или иначе все исследователи независимо от того, к какому конкретному научному направлению они будут принадлежать.
Изучив состав песенно-эпического репертуара Сборника, Калайдович посчитал, что Кирша Данилов был не столько «сочинителем древних российских стихотворений», сколько их собирателем, «ибо многие из них принадлежат временам отдаленным».
Однако и собирателем он, по мнению ученого, был тоже не совсем обычным, поскольку, располагая, по-видимому, «древнейшими остатками народных песен», он, «к сожалению, их переделал».
«Наш стихотворец кое-что знал, но другим рассказывал по-своему».
В этом «по-своему», зависящем от индивидуальных особенностей личности поэта-собирателя, и заключалось для Калайдовича объяснение тех многочисленных расхождений между песнями и летописной действительностью, которые без труда обнаруживаются в любой из «пиэс» Кирши. Но, прослеживая эти расхождения по всему репертуару Кирши и применяя ко всем текстам как будто единый критерий (соответствие истории), Калайдович замечает и другое — далеко не одинаковую степень приближенности разных песен к истории — деталь малозаметная, но весьма существенная для понимания позиции Калайдовича.
Важной она представляется потому прежде всего, что причины этой неодинаковости Калайдович видит не только и даже не столько в индивидуальных особенностях Кирши Данилова как импровизатора-обработчика, сколько в том, что она, эта неодинаковость, была уже как бы «дана» в самих источниках, из которых исходил в своих импровизациях Кирша. «Если Данилов, — замечает он, — находил источники для своих песен в истории, то несравненно более материалов доставляли ему народные сказки».
Указав на ряд обширных сюжетных, а в некоторых случаях даже и текстуальных совпадений песен Кирши с «Русскими сказками» В. А. Левшина, Калайдович сделал отсюда, правда, лишь тот вывод, что «издатель русских сказок имел у себя стихотворения Данилова»,но тот факт, что сами те песни, которые Левшин переложил в сказки, Кирша, в свою очередь, создал на материале тоже сказочном, не подлежит для Калайдовича сомнению.
Таким образом, в песенно-эпическом репертуаре Кирши Данилова Калайдович различает две группы песен: одну — тяготеющую к сказке, к сказочному типу изображения, и другую — ориентирующуюся по преимуществу на действительные исторические события.Это разграничение, конечно, нельзя рассматривать как разграничение былин и исторических песен, поскольку обе группы песен воспринимаются Калайдовичем уже в некоем литературном качестве, возникшем в результате творческой переработки Киршей-поэтом соответствующих источников — сказок и «древнейших остатков народных песен», относительно историзма которых можно, по-видимому, лишь гадать; собственно народная эпическая традиция остается для Калайдовича в стороне.
Однако сам тот факт, что в репертуаре Кирши наличествуют две достаточно самостоятельные поэтические традиции, чем бы ни объяснялось их различие, — этот факт представлял для Калайдовича, так сказать, объективную данность и, как уже отмечалось, в качестве таковой же был воспринят и позднейшей наукой.
Например, те же две группы песен, те же две повествовательные традиции различает в «Древних российских стихотворениях» и В. Г. Белинский. Первую группу, происхождение которой Калайдович связывал со сказками, Белинский обозначает несколькими терминами — «сказочные поэмы», «поэмы в сказочном роде», «богатырские сказки», «богатырские поэмы».
Встречается у него иногда и термин «былина»,лишь за два года до того введенный в обращение И. П. Сахаровым.
Ко второй группе он относит песни собственно исторические, не придавая, впрочем, этому названию слишком серьезного смысла, поскольку исторические представления, отразившиеся в этих песнях, имеют, по его мнению, столь же фантастический характер, как и в былинах.
Однако в отличие от Калайдовича — и это особенно важно подчеркнуть — Белинский рассматривает две эти группы песен не просто как произведения, генетически связанные с принципиально разными источниками (сказки и «древнейшие остатки народных песен»), а как специфические, характерные проявления единой народной эпической традиции на стадиально разных ступенях ее развития.
Роль Кирши-поэта он, конечно, тоже учитывает, но и «сказочная поэма», и так называемая «историческая песня» — это для него не нечто производное от сказки или же чего-то другого, использованного Киршей в качестве источника, а совершенно самостоятельные эпические формы, соответствующие определенным состояниям народнопоэтического сознания, которые, в свою очередь, соответствуют трем основным периодам человеческой истории — мифическому, героическому и так называемому гражданскому.
«Эпические поэмы, — писал он, — бывают трех родов: космогонические и мифические...; сказочные, в которых видна особенность народной фантазии и которые суть эхо баснословно-героического быта младенчествующего народа, и исторические, в которых хранятся поэтические предания исторической жизни народа, уже ставшего государством».
Исходя из этой общей периодизации, Белинский определял время создания русских былин («сказочных поэм») как время, непосредственно предшествующее татаро-монгольскому вторжению, признавая, впрочем, что и последующие времена наложили на это эпическое наследие свой — и весьма значительный — отпечаток. Он не берется судить о том, что собой представляли эти «сказочные поэмы» в своем первоначальном виде.
«Может быть, — высказывает он предположение, — первоначально они явились чисто эпическими отрывками, а потом уже, изменяясь со временем, получили свой сказочный характер; а может быть, вследствие варварского понятия о вымысле, и в самом начале явились поэмами-сказками, в которых поэтический элемент был осилен прозою народного взгляда на поэзию».
Но в любом случае это были формы, в которых отражение действительности определялось и регулировалось не критериями исторической достоверности, а некими устойчивыми и характерными именно для «баснословно-героического быта младенчествующего народа» представлениями об идеально-героическом, достойном высокой поэзии.
Характер вымысла в эпических поэмах и поэмах-сказках был разным, но не за счет большего или меньшего отхода от реальности, а исключительно за счет того, каким было отношение слагателей к самому предмету этих поэм. Отличительная черта эпической поэмы, по мнению Белинского, заключается в том, что «поэт как бы уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему благоговение», тогда как «в сказке поэт — себе на уме: цель его — занять праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других».
В свете этой антитезы Белинский определяет былину как нечто промежуточное между эпической поэмой в собственном смысле и сказкой: это уже не эпическая поэма, поскольку повествование в ней утратило до известной степени прежнюю первозданно-эпическую серьезность и величавость; но в то же время это еще и не сказка, поскольку вымысел в ней отнюдь не бесконтролен, а в значительной мере продолжает считаться с эпическими критериями. Эту двойственность эстетической природы былин Белинский и стремится подчеркнуть, говоря, что «древние стихотворения, заключающиеся в сборнике Кирши Данилова, большею частию эпического содержания в сказочном роде».
Ту же двойственность отмечает Белинский и в так называемой исторической песне. Она, по его мнению, тоже подвержена влиянию сказочной эстетики, которое здесь, в исторической песне, еще более заметно, чем в былине. Потому что если в былине оно проявляется лишь в типе вымысла, но само по себе этого вымысла не создает, то в песне исторической, претендующей, по крайней мере формально, на историческую достоверность, «сказочные» элементы сразу же бросаются в глаза.
Белинский даже не слишком стремится вникнуть в причины этой двойственности; для него это просто факт — факт, свидетельствующий, что так называемая историческая песня еще не развилась до подлинно исторической, ибо, как считает критик, «русская народность еще сознавала себя в сказках: в истории она потерялась».
Примерно с середины 1850-х гг. в изучении былинного эпоса начинается новый, а точнее даже будет сказать, качественно новый период. Связано это, конечно, было прежде всего с тем, что отечественная филологическая наука обрела к этому времени достаточно прочную академическую основу, что самым решительным образом сказалось на всем дальнейшем ее развитии.
Академический подход к изучению народной поэзии означал, во-первых, существенное расширение исследовательских аспектов.
Прежним — историософским и отвлеченно эстетическим — аспектам, имевшим широкое хождение в литературной критике первой половины века, на смену пришли аспекты конкретно-исторические, генетические, во всяком случае, строго специальные, что, естественно, потребовало применения методов тоже по преимуществу специальных, отвечающих характеру привлекаемого материала.
Эти перемены были важны и сами по себе, свидетельствуя о резко возросшем исследовательском потенциале русской науки. Но они имели еще и ту чрезвычайно существенную сторону, что позволяли ей активно включиться в общеевропейский научный процесс, в котором русские штудии очень скоро заняли весьма заметное положение.
В сравнении с западноевропейской наукой положение это можно даже назвать в некотором роде особым. Ибо если европейские ученые волею исторических обстоятельств принуждены были изучать эпос своих народов лишь по письменным, книжным источникам (устная традиция там, как известно, давно уже была утрачена), то русские ученые располагали в этом отношении несравненно более благоприятными условиями — для них древнейшие создания народной эпической поэзии были их, так сказать, сегодняшним днем, явлением современной народной культуры.
Процессы, которые в западноевропейском эпосе давно уже завершились и о которых теперь, пять-шесть веков спустя, можно было лишь гадать, русские собиратели и исследователи имели возможность наблюдать воочию. И именно в этом, думается, заключалась одна из главных причин того, что все те классические историко-генетические концепции, которые, сменяя одна другую, поочередно воцарялись в европейской науке, в русской фольклористике не пустили слишком глубоких корней.
То есть, они, конечно, воспринимались ею достаточно активно и имели в ней подчас весьма увлеченных последователей.
Но, во-первых, увлечения эти бывали, как правило, довольно поверхностными и скоротечными; во-вторых же, — и на это следует обратить особое внимание — в русской науке как-то сразу определился чрезвычайно характерный тип ученого, ученого-универсала, которого было бы трудно, просто невозможно связать с какою-либо одной научной «школой».
Поэтому, хотя все наиболее заметные европейские школы находили в русской фольклористике большее или меньшее признание, все же развитие ее складывалось не как последовательная смена одной школы другими, а как неуклонное поступательное движение к некоему методологическому синтезу, к многостороннему, многоаспектному изучению предмета.
Первые опыты целостного осмысления генезиса и исторического развития русского былинного эпоса были предприняты у нас на основе методологии, характерной для так называемой сравнительно-мифологической (чаще ее называют просто мифологической) школы. В своих воззрениях на народную поэзию ученые этой школы исходили, как известно, из того, что многие фольклорные произведения, в частности былины, восходят в своем генезисе к тем незапамятным временам, когда народы еще не разделялись на нации и когда основной формой отражения действительности в сознании человека была мифология.
Века и века, минувшие со времени возникновения этих первоначальных созданий народной поэзии — мифов, конечно, сильно изменили их облик, превратив их сперва в эпические сказания о героях, а затем в былевые и исторические песни. Но, — утверждали мифологи, — хотя влияние последующих, «исторических», времен было и велико, но все же не настолько, чтобы вовсе заслонить эту мифическую основу, и она присутствует так или иначе в любом сюжете, какие бы превращения он ни претерпел в позднейшие эпохи.
В своих настойчивых попытках выявить эту основу ученые-мифологи гораздо чаще, однако, были вынуждены полагаться на художественное воображение, нежели на какие-либо положительные научные данные и доходили в этом отношении до выводов едва ли не анекдотических. Вот, например, как интерпретировал былину о Соловье Будимировиче (с привлечением к ее анализу некоторых мотивов былины о Соловье-разбойнике) один из крупнейших представителей мифологического направления Орест Миллер.
«Корабли и чудесные терема, — писал он в своем капитальном труде „Илья Муромец и богатырство киевское“, — это должны быть те, возводимые так быстролетно, воздушные построения, какие воздвигаются ветром из облаков. После этого станет для нас понятно и вышеуказанное соотношение между гнездом Соловья (в свивающихся дубовых верхах) и теремами Соловья (со сплетающимися вершинами): и гнездо и терем тут мифически однозначащи, как построение из небесных, свивающихся деревьев-туч».
И «если гнездо Соловья есть жилище мрачное, то и в нем скрываются им накраденные, драгоценные, яркие клады, мифически соответствующие тем светилам небесным, какие оказываются сокрытыми в теремах соловьиных».
Хотя к такого рода «вольностям» мифологическая экзегеза располагала, по-видимому, более чем какая-либо другая (ибо открыла широкий простор художественно-ассоциативному мышлению в явный ущерб строго научному, аналитическому), было бы несправедливо не отметить, что ее потенциальные методологические возможности этими крайними выводами отнюдь не компрометируются.
Потому что, в сущности, единственное, что ею утверждалось и что придавало ей черты направления, «школы», — это общая мысль о том, что генезис большинства эпических сюжетов восходит к мифу. Обнаружение этого мифа или хотя бы его элементов было для мифологов идеальной целью, однако пути, которыми они шли в своих поисках, определялись не «школой» самой по себе, а исключительно мерой объективности, присущей тому или иному исследователю.
Поучителен в этом отношении пример Ф. И. Буслаева, признанного главы русских мифологов, который в отличие от своих учеников всегда очень ясно представлял себе действительное место и значение мифа в истории народного художественного сознания и, уж во всяком случае, не сводил задачу исследования к поискам мифических пра-сюжетов.
Разделяя общее воззрение мифологов на историю культуры как на движение от простейших форм отражения действительности к более сложным — т. е. от мифа к литературе, — он прекрасно, однако, понимал, что каждая былина или сказка ведет свою родословную непременно от мифа, что многие и многие былины принадлежат уже «историческим» временам и что, наконец, даже те, из них, в которых можно различить какие-то отголоски древних мифов, прожили слишком долгую «историческую» жизнь, чтобы сейчас можно было разложить их на какие-либо «мифологемы».
«Обратить былину назад, — считал он, — в тот доисторический период, когда она интересовалась только красным солнышком да тучею с дождем, а не князем Владимиром и Соловьем-разбойником, значило бы отказать родному эпосу в его национальном интересе для последующих поколений, которые в своих героях хотели воспевать более близкое для себя, более человеческое, нежели устарелые мифы о солнце, дожде и громе».
Но дело не только в том, что история эпической поэзии предстает, таким образом, как закономерный процесс, имеющий свои стадии и свою логику; столь же, если еще не более важным, представляется и другое, а именно то, что в основе всех стадиально-разных эпических форм — мифа, героического эпоса и исторической поэзии — лежит, как считает Ф. И. Буслаев, некое единство, которое для понимания эпической поэзии имеет значение куда более существенное, нежели различия этих форм.
«Поэтическое произведение, — писал Буслаев, — имеет то великое преимущество перед всяким другим письменным памятником, что оно способно воспроизводить во всей жизненной полноте характеры, действия и события, во всем разнообразии внешней обстановки, со всею глубиною и искренностью верований и убеждений. Оно не только рисует перед нами весь отживший быт, но и вводит в вечную, непреходящую область тех нравственно-художественных идеалов, до которых временные черты действительности были возведены».
Вот эти самые «нравственно-художественные идеалы» и были той мерой отражения действительности, тем «магическим кристаллом», который в равной степени отличал миф, былину и историческую песнь и который и придавал им глубокое единство, лишь по-разному проявлявшееся в разных поэтических формах.
Для Буслаева, таким образом, важно было не столько то, какой исторический материал отразился в былине (равно как и в мифе, и в исторической песне), сколько то, какое преломление он в них получил, в какую нравственно-художественную идею воплотился. Ученый настойчиво подчеркивал, что «самые анахронизмы и кажущиеся нелепицы исторической былины заслуживают тщательнейшего наблюдения для изучения того, как принимались народным смыслом исторические факты, как группировались они в его воображении и воспитывали в нем национальное чувство».
В дальнейшем изучении былинного эпоса эта мысль Буслаева стала своего рода ключевой, опорной. К ней, как это ни парадоксально, склонялись даже сторонники теории заимствований, ибо, положив много сил на выяснение путей миграции былинно-сказочных сюжетов, они, как например В. В. Стасов, с огромной убежденностью настаивали на том, что национальной былину или сказку делает не сюжет как таковой (сюжетная схема может забрести откуда угодно), а именно ассимиляция ее в художественном сознании того или иного народа.
А. Н. Веселовский еще более глубоко и всесторонне обосновал эту мысль, придав ей характер своего рода аксиомы: если миграционисты хотя и не преувеличивали значения сюжетной схемы, но все же весьма заинтересованно пытались проследить ее пути, то Веселовский решил эту проблему, что называется, разом, доказав, что эпос и даже литература по самой своей природе имеют международный характер. На разных ступенях развития эта «международность» обеспечивается единством исторического развития («международностью» самого жизненного уклада), на более поздних ступенях — все более интенсивно развивающимися и крепнущими международными связями.
Вот почему он с такою уверенностью мог утверждать, что «многие из так называемых местных сказаний ничто иное, как локализованные повести и анекдоты, так что интерес локализации состоит не столько в содержании сказаний, сколько в открытии причин, вызвавших их приурочение».
Ко времени, когда были написаны эти строки, проблема отношений былинных сюжетов и исторической действительности успела, однако, серьезно обостриться. Разногласия возникли там, где, казалось бы, их менее всего можно было ожидать, а именно в вопросе об отношении былины к факту. Мысль словно бы вполне согласованная, мысль о том, что отражение действительности в былине ни в коем случае не может поверяться летописью,что былина относительно отраженных в ней фактов вполне суверенна, — эта как будто вполне бесспорная мысль неожиданно стала нуждаться в дополнительных доказательствах.
То, что и былина, и историческая песня преображают факт в соответствии со своими целями, в этом все были согласны. Но одинаковы ли были сами эти цели у былины и у исторической песни — вот в чем был вопрос. То есть создавалась ли былина точно так же «по былям сего времени», как и историческая песня, или же в ней наличествовало нечто вроде «замышления Бояна»?
Выяснение этого вопроса составляло содержание научного изучения былинного эпоса на протяжении более столетия.
***
Сегодня можно считать уже достаточно твердо установленным, что «пограничная полоса», разделявшая и разделяющая сторонников исторической школы и их оппонентов, на самом деле не столь широка и непроходима, как это принято было представлять лет 30 тому назад. Более внимательное изучение истории фольклористики позволило прийти к выводу, что ни историческая школа не отвергала положительного опыта, накопленного представителями других школ, ни эти последние в принципе не оспаривали направления, взятого в изучении былин представителями исторической школы.
И те и другие исходили из признания факта многовековой эволюции русского былевого эпоса, в которой как те, так и другие различали два основных периода: «до-исторический» и «исторический»; причем, говоря об «историческом» периоде, они имели в виду не то, что в этот период возникли какие-то новые (более «точные» в сравнении с периодом «до-историческим») принципы отражения исторической действительности, а лишь то, что с определенного времени в былинах начинают фигурировать конкретные, зафиксированные письменными источниками события, факты, имена и т. д.
Другими словами, «исторический» период был в их представлении периодом историзации древнейших форм эпоса — форм, которые могут быть названы менее «историчными» только в том узком, так сказать, «прикладном» смысле, что они не донесли до новых, исторически известных времен каких-либо конкретных «примет» тех, ранних, периодов своей истории.
Во взглядах же на историю эпоса, на его движение от древнейших форм к формам, в которых он сохранился в исторически обозримые периоды, у ученых, представлявших основные направления отечественной науки, принципиальных разногласий не было.
Расходились они в другом — в понимании своих исследовательских задач, характер которых определялся ими в зависимости от того, как они оценивали состояние самого изучаемого материала.
Ученые, принадлежавшие к исторической школе, считали: состояние это покамест не позволяет поставить широких генетических проблем, поскольку, как утверждал один из основоположников этой школы В. Ф. Миллер, «отдаленные основы эпоса сокрыты от нас густою завесою длинного ряда веков, которая, по отсутствию или крайней скудости письменных документов, до сих пор была приподнимаема только посредством смелых догадок и гипотез, не находивших всеобщего признания...
Сомневаясь в успешности таких гаданий, которые неизбежны, если мы не имеем письменных литературных источников для былины, я, — отмечал В. Ф. Миллер, — редко пользуюсь сравнительным методом для заключений о пути проникновения в наш былевой эпос того или другого былинного сюжета. Я больше занимаюсь историей былин и отражением истории в былинах, начиная первую не от времен доисторических, не снизу, а сверху.
Эти верхние слои былины, не представляя той загадочности, которою так привлекательна исследователю глубокая древность, интересны уже потому, что действительно могут быть уяснены и дать не гадательное, а более или менее точное представление о ближайшем к нам периоде жизни былины».
Если В. Ф. Миллер и его последователи стремились, таким образом, к тому, чтобы уяснить самый процесс, самый, так сказать, механизм «историзации» эпоса, пришедшего из тьмы доисторических времен, то для ученых мифологической школы, напротив, главный интерес представляло как раз то, что подлежало «историзации», т. е., по определению Ф. И. Буслаева, «менее сложные, первичные основы народного эпоса».
Столь согласованное разграничение исследовательских «зон», казалось бы, надолго обеспечивало возможность единого подхода к изучению истории былинного эпоса, поскольку оба периода его развития — «до-исторический» и «исторический» — укладывались и могли быть совмещены в едином процессе его эволюции от простейших («мифологических») форм к более сложным — «историческим», точнее, «историзированным».
И такая возможность сохранялась до поры до времени, а именно до той поры, пока исследовательские задачи исторической школы оставались по преимуществу методическими задачами, т. е. пока она занималась только тем, что снимала в былинах «верхние» исторические наслоения с целью добраться до «нижней» их границы. Естественно, этой «нижней» границей должно было стать то, что для мифологической школы было «верхней» границей, т. е. время, с которой началась «историзация» эпоса.
Однако уже вскоре историческая школа столкнулась с одним важным вопросом, в поисках ответа на который она неизбежно должна была обратиться к проблемам, которых поначалу она и не собиралась касаться, — к проблемам собственно генетическим. Вопрос этот заключался в том, что чем больше накапливалось материалов, иллюстрирующих многообразные и тесные связи былин с конкретными историческими фактами, тем большие возникали сомнения в том, что «исторический» период жизни эпоса можно рассматривать как только процесс историзации.
«Верхние» слои былины оказывались настолько обильными и значимыми, что это невольно наводило на мысль о том, что мы имеем дело не просто с «историзированными» сюжетами, пришедшими из мифологической древности, а с оригинальными произведениями, более или менее современными отраженной в них исторической действительности.
Такой поворот не только прямо привел к проблемам былинного генезиса, но и заставил решать их едва ли не исключительно в пределах «исторического» периода. А это, в свою очередь, выдвигало новую и, надо сказать, самую сложную историко-эстетическую проблему — проблему взаимоотношений былины и факта.
Сложность этой проблемы заключалась прежде всего в том, что предстояло объяснить одну весьма характерную антиномию — антиномию конкретно-исторического предмета отражения в былине и той идеально-обобщенной формы, какую он получает в итоге самого отражения.
В самом деле, если былина не есть нечто унаследованное от доисторических времен, а возникает как более или менее непосредственный отклик на реальный исторический факт, в силу тех или иных причин взволновавший воображение народного певца, то почему этот факт утрачивает в былине почти всю свою индивидуальную конкретность, ассимилируясь былиной в соответствии с ее внутренними поэтическими канонами?
В, итоге каких процессов сложилась эта идеально-обобщенная образность? Есть ли она следствие постепенного разрушения «исторического ядра» или же она была таковою изначально, являясь воплощением каких-то особых, свойственных только былине принципов отражения?
В те времена, когда эпос признавался не столько историческим, сколько «историзированным», этих вопросов попросту не существовало: для тех же, например, мифологов былина была к началу «историзации» как бы эпосом «на излете», а все конкретно-исторические отложения в нем рассматривались как позднейшие «примеси», проникновение которых не предусматривалось никакими закономерностями.
Эпос для них значил что-то лишь в той мере, в какой он мог сказать что-то о времени своего возникновения, т. е. о «до-историческом» периоде. Все же остальное, «историческое», было в их глазах вторичным, наносным, имеющим лишь второстепенный интерес. Потому и сама антиномия факта и его отражения в былине не была для них антиномией.
«Идеальность» былины была для них правилом, нормой, «историзация» же — безусловным отклонением от нормы, искажением ее.
Однако историческая школа, вынужденная решать проблемы генезиса в пределах лишь «исторического» периода, должна была так или иначе на эти вопросы ответить. Сложность их для нее оказывалась тем более очевидной, что рядом с былинами существовали так называемые исторические песни, т. е. произведения с гораздо более выраженным типом конкретного историзма, а это еще более подчеркивало особый характер былинного историзма и обязывало в этом смысле к принципиальным объяснениям.
Этому различию между былиной и исторической песней В. Ф. Миллер и большинство его последователей, впрочем, не придавали никакого значения. Больше того, они вообще сняли его, исходя из той предпосылки, что былина в существе своем была не чем иным как «исторической песней» своего времени и лишь по прошествии веков приняла тот вид, в каком ее нашли собиратели XVIII—XIX вв.
В плане чисто теоретическом такое допущение обладало достаточной степенью вероятности, хотя бы уже по одному тому, что опровержение его было бы, пожалуй, делом еще более затруднительным. Однако те его изъяны, которые не было возможности выявить теоретическим путем, вполне отчетливо обозначились в конкретной исследовательской практике исторической школы.
Ибо, трактуя былину как «историческую песню» своего времени, В. Ф. Миллер и его последователи ставили себе целью выявить такой «извод» былины, для которого была бы характерна примерно та же самая степень «верности» отражаемому факту, какая присуща исторической, поздней песне.
Все попытки обнаружить или сконструировать такой «извод», как известно, оказались тщетными. А это означало, что и антиномия факта и его отражения в былине по-прежнему осталась не объясненной.
Точка зрения, согласно которой былина рассматривалась как «историческая песня» своего времени, долгое время оставалась господствующей. Ее поддерживали А. Н. Веселовский (в некоторых своих статьях), А. К. Бороздин, С. К. Шамбинаго.
«Необходимо помнить, — писал А. Н. Веселовский, — что когда у народа сложилась впервые эпическая поэзия, это доказывает, что известные события, известные формы действительности произвели на него особенно глубокое впечатление, оставили в его сознании известные идеалы <...> в его фантазии известные образы, которые отражаются в его поэзии столь же определенными выражениями, как первичные впечатления в постоянной форме слова».
И если в былинах конкретная историческая действительность «менее ощутительна для нас, то это объясняется просто тем, что эти былины дольше жили в народе и более исказились от пересказов <...>. Тут, стало быть, разница во времени, а не в существенном отличии былины от исторической песни».
«Таким образом, — заключает Веселовский, — между мифическим эпосом и историческим не представляется никакой существенной грани: разница не существует ни объективно, ни для народного сознания, а только субъективно для нас, которым время Ивана Грозного и ближе и понятнее эпохи, которую мы продолжаем называть мифической».
Еще более определенно эту мысль выразил А. К. Бороздин: «То, что мы называем исторической песней, лишь ближе к воспеваемым событиям, и потому она с точки зрения исторической поэтики даже как бы старше былины, хотя она и гораздо моложе ее хронологически».
Само собой разумеется, эта концепция продолжала доказываться и даже не доказываться, а просто постулироваться лишь чисто теоретическим путем. Ни одного реального примера, подтверждающего ее, так и не было приведено. А потому нет ничего удивительного в том, что со временем недостаточность ее стала постепенно осознаваться даже и в теоретическом плане.
Становилось все более очевидным, что обобщенная форма былин объясняется не столько позднейшими трансформациями, в ходе которых былины утрачивают свою связь с конкретным историческим фактом, сколько особым характером преломления этого факта уже в момент самого отражения.
Не отрицая принципиальной связи былины с реальным фактом, М. Н. Сперанский, например, утверждал, что в отличие от исторической песни «былина смотрит на исторический факт преимущественно с точки зрения поэтического его отображения, изображения настроения, создаваемого фактом, отсюда у автора былины преимущественное внимание к поэтической стороне произведения, к воздействию на чувство и воображение слушателя и меньший интерес к факту как таковому в сознании слагателя».
На особый характер преломления факта в былине указывал и А. П. Скафтымов: «Уже и при прямой установке на реальность область захватываемой действительности даже в пределах одного факта имеет и свои границы, и свой фокус, в которых она и получает свою организацию: здесь уже выдвигается ядро значимости совершившегося события, подхватывается пробившийся в нем и увлекший элемент скорби, радости, смеха, гнева или восхищения на почве общеморальных или национальных или классовых оценок.
Фактическая действительность дается в общих чертах, событие воспроизводится лишь в линиях главной канвы и лишь постольку, поскольку это нужно для воспроизведения выдвинувшейся главной психологической ситуации».
В дальнейшем, «с утратой интереса к факту самому по себе», конкретно-историческая основа былины отходит на задний план и, наконец, совсем забывается, остается лишь ее «функционально-эстетический вес», на котором и сосредоточивается все внимание былины.
Свою концепцию А. П. Скафтымов смог подтвердить весьма своеобразным примером. Он проанализировал все имеющиеся варианты исторической песни о Кострюке и показал, что история этой песни была ни чем иным, как историей ее превращения в обычную былину.
Пример, что и говорить, весьма оригинальный. Он безусловно доказывает, что песня с конкретно-историческим содержанием вполне может в условиях устной традиции претерпеть ту эволюцию, какую претерпела песня о Кострюке.
Однако Скафтымов все же не доказывает главного: того, что былина при своем возникновении была песней с конкретно-историческим содержанием. Среди исторических песен можно указать и еще две-три, которые претерпели те же превращения, что и песня о Кострюке («Щелкан Дудентьевич», например, или же песня о М. В. Скопине-Шуйском).
Однако и их пример говорит лишь о превратностях судьбы песен с историческим содержанием в условиях устного бытования. Кроме же того, во всех этих песнях ослабление связи с фактами, легшими в их основу, ничем, по сути дела, не компенсировалось, ибо разрушение исторической основы в них сопровождалось и их очевидной художественной деградацией (чего нельзя сказать о классических былинах, если предположить, что они венчали собой эволюцию песен с конкретно-историческим содержанием).
Книга А. П. Скафтымова была последней по времени серьезной попыткой объяснить антиномию конкретного исторического факта и обобщенной формы его отражения в былине. В дальнейшем фольклористика к этому вопросу больше не возвращалась. Для одних (В. Я. Проппа и его последователей) такой антиномии просто не существовало, поскольку ими отрицалась вообще какая бы то ни было связь былины с конкретными фактами; другие же, продолжая оставаться на позициях исторической школы (которая с середины 30-х гг., надо сказать, вообще отошла в тень), терпеливо продолжали и ее основную линию — линию сугубо конкретных исторических разысканий и сближений, — по-видимому, оставляя вопрос о форме былин до лучших времен.
Между тем вопрос этот день ото дня становится все более актуальным. Ибо в самой непосредственной связи с ним сегодня оказываются многие важнейшие социально-эстетические и культурно-исторические проблемы.
Начать с того, что вопрос об историзме былин, т. е. о том, в каких формах отражается в них историческая действительность (а следовательно, и конкретный исторический факт), зависит и сам влияет на решение более общего вопроса — об истории и основных этапах развития народного художественно-исторического сознания.
Одно, например, дело считать, что былине уже при самом ее возникновении присуща способность отражать конкретные исторические факты, и совсем другое дело утверждать, что она ограничивается лишь выражением общих, не «заземленных» в конкретной действительности идеалов и идей, а внимание к реальному факту возникает лишь на поздних этапах развития исторического эпоса, т. е. в так называемых исторических песнях.
В первом случае признается, что народному художественному сознанию уже на ранних этапах был присущ конкретный историзм, в дальнейшем не претерпевший никаких особых изменений (и, к слову, поддающийся сегодня уяснению лишь по аналогии с «младшими» историческими песнями);
во втором же случае основной акцент делается на эволюции народного сознания, на способности его к развитию, к движению от простейших форм художественного освоения действительности к более сложным — конкретно историческим.
Другими словами, если первая точка зрения вообще не предусматривает вопроса о развитии народного художественного сознания, в лучшем случае полагая, что оно состояло в расширении проблемно-тематического кругозора народной поэзии, то вторая точка зрения изначально исходит из той мысли, что определенное состояние народного сознания порождает и свои, соответствующие ему художественные формы.
В соответствии с этими двумя противоположными пониманиями закономерностей развития народного сознания исследователям приходится сегодня решать и разные задачи, преодолевать различные по своей природе трудности. Представителям «школы» В. Я. Проппа предстоит доказать, что та «единица историзма», на изучении которой сосредоточены их исследования, вполне исчерпывает объективный историзм былины и является в этом смысле совершенно достаточной.
Что же касается последователей исторической школы, продолжающих отстаивать ее позиции, то им, как и прежде, предстоит объяснить и, может быть, снять наконец уже упоминавшуюся выше антиномию конкретного исторического факта и его обобщенного отражения в былине.
Гипотеза о том, что у истоков былины лежит историческая песня, имеет тот недостаток, что образование былины предстает как весьма однообразный процесс выветривания из нее конкретно-исторического содержания. Кроме того, остается непонятным, почему этот процесс прекратился, скажем, в XVI в. в «младших» исторических песнях (ссылки на то, что эти песни «не успели» превратиться в былины, вряд ли можно признать основательными).
А потому, признав в принципе, что в основе былины все-таки лежит конкретный исторический факт, следует, по-видимому, признать, что обобщенная форма его отражения есть результат не разрушения этой конкретно-исторической основы, а выражение особого способа отражения этой конкретности — способа, сказывающегося уже в момент возникновения былины. «Сходство очертаний между сказкой и мифом, — писал А. Н. Веселовский, — объясняется не их генетической связью, причем сказка являлась бы обескровленным мифом, а в единстве матерьялов и приемов и схем, только иначе приуроченных.
Этот мир образных обобщений, бытовых и мифологических, воспитывал и обязывал целые поколения на их пути к истории. Обособление исторической народности предполагает существование или выделение других, в соприкосновении или борьбе между собою; на этой стадии развития слагается эпическая песня о подвигах и героях, но реальный факт подвига и облик исторического героя усваивается песней сквозь призму тех образов и схематических положений, в формах которых привыкла творить фантазия. Таким образом сходство сказочных и мифологических мотивов и сюжетов протягивалось и на эпос».
Действие этих-то самых форм, в которых привыкла творить народная фантазия, форм, многократно испытанных в мифах и сказках и готовых ко множеству других жанровых приурочений, и проявилось в способах организации и отражения конкретного исторического материала в былине.
Такое понимание освобождает нас от необходимости ставить между былиной и фактом некое опосредующее звено в виде «исторической песни» и ставит на место вопрос о внутренней эволюции былины на позднейших этапах ее истории, т. е. избавляет от необходимости усматривать в этой эволюции объяснение обобщенной формы былины.
Более естественное объяснение получает в этом случае и «младшая» историческая песня. Хотя действие универсальных форм, в которых привыкла творить фантазия, сказывается, по мнению Веселовского, и здесь,проявляется оно уже гораздо слабее, потому что изменились представления о предмете поэзии: ценность конкретного факта в сравнении с «былинными» временами существенно возросла.
Потому в «младших» исторических песнях мы видим большее соответствие конкретному факту, чем в былинах, меньшую условность художественного изображения. Конкретный историзм «младших» исторических песен явился по отношению к историзму былинному тем же самым, по сути дела, чем литературный реализм по отношению, скажем, к романтизму или классицизму.
Только помня об этом различии, только признав в былине поэтическую форму своего времени, соответствующую характеру отразившегося в ней сознания, наконец, только признав факт поступательного развития и, следовательно, смены типов историзма, можно надеяться, что застарелая антиномия конкретного исторического факта и обобщенной формы его отражения в былине будет в конце концов снята.
***
Почти столетие назад А. Н. Веселовский писал: «История литературы напоминает географическую полосу, которую международное право освятило как terra incognita, куда заходят охотиться историк культуры и эстетик, эрудит и исследователь общественных идей.
Каждый выносит из нее то, что может, по способностям и воззрениям, с той же этикеткой на товаре или добыче, далеко не одинаковой по содержанию. Относительно нормы не сговорились, иначе не возвращались бы так настоятельно к вопросу: что такое история литературы?»
То же самое, кажется, можно сказать и о былине. Она тоже своего рода terra incognita, куда заходят охотиться самые разные специалисты, каждый вынося из нее «то, что может, по способностям и воззрениям». Ищут в ней и отголоски исторических фактов, и остатки древних верований, и следы давно исчезнувших культовых обрядов, и многое другое.
В этом нет ничего удивительного, потому что былина прожила долгую, многовековую жизнь и, по-видимому, в ней можно найти следы и того, и другого, и третьего. Все эти сведения добывались и, вероятно, будут еще долго добываться из нее, но (Веселовский прав!) надо сговориться относительно «нормы». В нашем случае это означает, что отыскивая в былине всевозможные «отголоски», не следует подчинять им прочтение всей былины как некоего художественного целого. Другими словами, нельзя вычленять и анализировать эти «отголоски» в ущерб основной художественной идее былины.
Былина может и, по-видимому, должна изучаться под самыми разными углами зрения.Но лишь при одном непременном условии, а именно: чтобы все эти изыскания исходили из строгого учета ее идейно-художественной специфики. Свод русского фольклора предоставляет для исследований беспрецедентный по богатству подлинный материал.
Иллюстрации:





Оценили 7 человек
17 кармы