«ГОВОРИ ГЛАВНОЕ, м н о г о е в н е м н о г и х с л о в а х,» советует Сирах юноше.
Будь как знающий и вместе как умеющий молчать (Сир. 32:9, 10). Это правило следовало бы помнить не только юному возрасту, к которому непосредственно оно обращено здесь. Далеко не все и зрелые люди умеют хранить меру слова, чтобы сказать всегда не больше и не меньше, чем сколько нужно для данной цели. «Не умея говорить, они не умеют и молчать,» по древней римской пословице. Наибольшую бережливость речи соблюдали те, кто сами в изобилии обладали этим драгоценным даром. Таков был например митрополит Филарет эта дивная сокровищница ума и слова, воспитавший целый ряд поколений в сознании высокой ответственности учительства. «Не говори много,» внушал он своим слушателям в одной из своих проповедей, хотя бы ты мог говорить все хорошее. Ни в каком случае не расточай безрассудно слова, словесная тварь, Слова творческого.» «Как часто я жалел о сказанном и никогда об умолчанном,» сказал однажды Арсений Великий.

ДРЕВНИЙ МУДРЕЦ, внимательно наблюдавший судьбы человека на земле, оставил нам в числе других следующий жизненный урок: пред падением возносится сердце человека, и смирение предшествует славе (Прит. 18:13).
ЕСТЬ СЛОВО ВНЕШНЕЕ, исходящее только из уст: это медь звенящая и кимвал звучащий; оно не овладеет нашей душой, хотя бы падало каскадами и производило шум и брызги, подобно водопаду. И есть слово внутреннее, рождающееся из глубины нашего существа, составляющее дыхание нашего творческаго духа и носящее на себе его огненную печать: эти слова «силы,» как выразительно назвал их однажды о. Флоренский: они потрясают человеческие сердца и движут миром. Мефистофель в «Фаусте» верно определил сущеетвенное различие между теми и другими:
«Поверь дружок,
говорит он будущему священнику,
Сердца к сердцу
Речь ни чья не привлечет,
Когда не из души, из уст она течет,»
УСТА ГОВОРЯТ С СИЛОЙ только от избытка сердца, но так как последнее может таить в себе и добро и зло, то и слово, насыщенное душевною энергиею, может нести в себе семя того и другого. Подлинно смерть и жизнь – во власти языка (Прит. 18:22).
НЕИЗМЕРИМА БЕЗДНА, отделяющая духоносныя слова Апостолов, великих учрителей и подвижников Церкви от гнилых и часто хульных речей коммунистов, износящих их из своего развращенного сердца. Вред причиняемый их пропагандою не поддается никакому описанию. Их речь облечена смертью (Сир. 23:14) и распространяется, как рак. (2Тим. 2: 17). Язык их – огонь, прикраса неправды... он исполнен смертоносного яда (Иак. 3:6–8).
ВМЕСТЕ С ВОЛНАМИ РАДИО их гнусныя, отравленныя ложью и злобой слова распространяются по всему миру, входят в сочетание с другими подобными словами и понятиями и внедряясь в общественное сознание, проникая в плоть и кровь человечества, долго еще будут питать последнее своими вредоносными соками. Грехи слова не подлежат закону давности, и потому сочинитель, злоупотребляющий этим высоким даром, подлежит большей ответственности, чем разбойник, как учит нас об этом всем ивестная басня.
ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ наш ум по инерции долго еще остается в движении, напоминая собою продолжающееся волнение моря после уже утихшей бури илти автоматическое вращение колеса, с которого снят приводной ремень.
ЕСТЬ ТИРАНИЯ ЛЮБВИ И ТИРАНИЯ ПРИВЫЧКИ; одна из них не уступает по силе другой, и обе одинаково связывают нашу свободу.
НУЖНО ИМЕТЬ КРЕПКИЙ и подлинно высокий дух, чтобы безболезненно вынести бремя почести, власти и славы; слабые души не выдерживают такого испытания и падают под его тяжестью.
ЧЕЛОВЕК НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ РАВЕН самому себе; иногда он поднимается выше, а чаще ниспадает ниже своего нормального уровня.
БЕЛИНСКИЙ ДОВОЛЬНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛИЛ «многообъемливость» Пушкина, когда сказал: «самое простое ощущение звучит у него всеми струнами и потому чуждо монотонности: это всегда полный аккорд.» Пушкин сам сознавал себя «все человеком» и справедливо сравнивал себя с «эхом,» отражающим в себе всякий звук в мире. Последнее находит потом обратное отражение в душе читателя, опознающего себя в творениях великаго гения. «Это мои собственныя гадания и мысли, с изумлением мы говорим себе в этом случае; поэт выразил то что я сам думал, я хотел бы сказать то же самое.»
САМЫМ ОПАСНЫМ ПРИЕМОМ РЕЧИ надо считать тот, когда не человек управляет своим словом, а оно управляет им, когда слова бегут впереди мысли, не сообразуясь с последней. Подобный темперамент красноречия может увлечь говорящего дальше, чем он хотел и привести его в позорный тупик, откуда нет выхода.
ПОДОБНО ТОМУ как искуссный музыкант может извлекать из своего инструмента самые разнообразные звуки, опытный оратор обладает способностью ударять по всем струнам человеческого сердца. О нем можно сказать то же, что написано о первом:
Они текут: они горят.»
«Он звуки льет – они кипят.
Он может греметь, как гром, потрясать, как буря, опалять как молния или, подобно обоюдоострому мечу, проникать до мозга костей в самую глубину человеческого сердца, раздирая последнее на части. По временам его речь журчит тихо и успокоительно, как весенний ручей, услаждает, подобно свирели; иногда возбуждает страстный восторгь, вызывает недоумение, смущение и даже ужас, и это только для того, чтобы последующие его слова упали целительным бальзамом на смятенную душу слушателя. Заключительные аккорды речи оратора построены обыкновенно в светлых бодрящих тонах и только в особых случаях, когда надо потрясти сердце слушателя, последняя оканчивается трагичееким, обрывом, сквозь который однако просвечивает луч солнца. Неопределенные ноты и неразрешенные диссонансы столь же неуместны в конце хорошаго ораторскаго слова, как в заключении художественного музыкальнаго произведения.
У СЛОВА ЕСТЬ СВОЯ ЭТИКА: последняя требует, чтобы оно было чистым, честным, целомудренным. Там, где не соблюдается это правило, где язык является игрушкою страстей или случайных настроений, где его покупают или продают или просто легкомысленно забавляются речью, там начинается прелюбодейство слова, т. е. измена его своему прямому и высокому назначению. Не напрасно англичане в «молитву за Нацию» внесли следующее прошение: «от лжи языка и пера (from lies of tongue and pen), от легкомысленных речей избави нас, милосердый Господи.»
В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ТВОРЕЦ положил запас потенциальных сил, проявляющихся обыкновенно только в иаиболее решительные и ответственные моменты нашей жизни. Только этим можно объяснить, почему средний, повидимому ничем не заметный человек внезапно выростает в истинного героя, исполненного величия, в минуту опасности или при выполнении неожиданно выпавшей на его долю высокой миссии
ВЫСОКИЯ ИСТИНЫ И ПОДЛИННАЯ КРАСОТА всегда представляются нам простыми и ясными, как солнечный луч. Но эта простота только кажущаяся; пропустите луч солнца через призму и вы увидите, что в нем гармонически слились семь цветов солнечного спектра, остающихся в отдельности неуловимыми для нашего глаза.
ЕСЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ПЛЕНЯЕТ НАС чистотою и красотою своих линий, то это происходит оттого, что там везде выдержана строгая пропорциональность частей, основанная на точном математическом расчете. Простая истина потому приходит обыкновенно последней, что являетея результатом долгой предшествующей работы мысли.
ГОВОРЯТ, что ораторы не родятся, а делаются. Это утверждение нуждается в существенкой поправке. Всем ивестно, что существует особый прирожденный дар слова, но он требует тщательной обработки и постоянного упражнения для своего развития. Когда Демосфен был уже в расцвете своей славы, враги говорили о нем, что от его речей «пахнет ночной лампой.» Так старателько он отделывал их и только благодаря этому, они ярко блещут доселе, оставаясь непревзойденными по своей силе и благоухающей красоте.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ не редко пытаются сближать со святостью, как «два таких явления,» которые, по словам одного мыслителя выходят за пределы канонических норм культуры.» Родство между ними основано на том, что гений обыкновенно окрыляется вдохновением, которое еще Платон казвал «божественным»: это есть подлинно дыхание Божества в человеке, которое раздает свои дары каждому, где и насколько хочет. Древние языческие философы, поэты и художники, качиная с Сократа и Фидия, живо чувствовали в себе присутствие какой то иной высшей силы, озарявшей их в минуты творчества. Ненапрасно последний в благоговейном умилении пал ниц пред одним из лучших своих созданий. То же ощущение было присуще и другим высокоодаренным людям новаго времени. «Гений наивен,» говорит Шиллер, «потому, что мысли его божественны.» Подобную же идею развивает и Гете в своом знаменитом письме к Эккерману. «Гений есть дар благодати»; пишет Габриэль Сеайль, «его труд подобен услышанной молитве.» Но никто, быть может, не переживал так глубоко прикосновение небесного огня к своей душе, как Пушкин. Он всегда явственно отличал себя от своей музы, сближая служение поэта с пророческим призванием и называя его « божественным посланником.» Благоговейный трепет, какой переживал наш великий поэт в микуты вдохновения, невольно передается его читателям, и в этом быть может состоит наиболее яркая печать его истинной гениальности.
ЧТОБЫ УМ КАЗАЛСЯ БЛЕСТЯЩИМ, острие его всегда должно быть отравлено ядом скепсиса или язвительного критицизма. Этого требует испорченный вкус общества, особенно современного. Положительные умы, как бы ни были велики их достоинства, всегда кажутся людям чем то тусклым и прянным, хотя черсз них совершается вся духовно-созидателная культура мира.
БЫВАЕТ ШУМ БЕЗ СЛАВЫ, но не бывает славы без шума; последний способен утомлять людей, если они живут среди непрерывных праздников, не сменяющихся буднями.
«Я устал от славы,» сказал недавно один из ее избранников, и его слова конечно были искренни. Каждое сильное удовольствие как бы подавляет нашу душу и отчасти наше сознание в момент наиболее острого его переживания: оно напоминает нам приятный, но напряженный сон или состояние легкаго опьянения, от которого невольно кружится голова. Гораздо сознательнее мы переживаем его в воспоминании, освободившись от власти захватывающего нас чувства, названного еще у Пушкина «сладким недугом».
НАЦИЯ, ЭТОТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗМ, так же склонна обоготворять себя, как и отдельный человек. Безумие гордости здесь возрастает в такой же прогрессии, в какой всякая страсть разгорается в общественной среде, преломляясь в тысячах и миллионах душ.
«ВСЕ ВЕЛИКОЕ СОВЕРШАЕТСЯ в порыве любви или в религиозном углублении,» сказал Муссолини. Но в сущности это два момента всегда совпадают один с другим. Истинная любовь в такой же степени питается от религии, в какой последняя нераздельна с любовию.
ШОПЕНГАУЭР УДИВЛЯЕТСЯ, почему даже «тривиальныя мысли в ритме и рифме приобретают оттенок какой то значительности,» и объясняет это тем, что музыка стихов сама по себе ласкает наше ухо; когда же к этому прибавляется мысль, она кажется нам неожиданным подарком, «как слова в музыке.» Это объяснение следует признать однако более остроумным, чем основательным. На самом деле здесь надо видеть действия того же закона, по которому всякая картина выигрывает в своем впечатлении если она вставлена в соответствующую ей раму. Человек везде ищет откровения целостного триединого идеала – истины, добра и красоты и устремляет свое особенное внимание туда, где истинное сочетается с прекрасным.
Если же иметь в виду поэзию вообще, то здесь музыка органически сочетается с мыслью, как это хорошо выяснил Карлейль. Последний не нашел для поэзии лучшего определения, как назвав ее «музыкальной мыслью.» «Музыкальная мысль – это мысль, высказанная умом, проникающим в самую суть вещей, вскрывающим самую затаенную тайну их, именно – мелодию, которая лежит сокрытая в них; улавливающим внутренюю гармонию единства, что составляет душу всего сущего...»
Поэт – тот, кто думает «м у з ы к а л ь н ы м образом.» «Проникайте в вещи достаточно глубоко, и пред вами откроются музыкальныя сочетания; сердце природы окажется во всех откошениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него» («Герои и героическое в истории"').
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, что мы все жалуемея на тяготу жизненного бремени. Однако чем дольше мы живем на земле, тем более врастаем, подобно дереву, в нее своими корнями. В зрелом и даже старческом возрасте человек гораздо труднее обыкновенно расстается с земною юдолью, чем в юности; в эту весну своей жизни, когда последняя пенится и льется через край, как молодое вино, он подобно легкокрылой птице ежеминутно готов отрясти прах от ног своих, вспорхнуть и улететь. Тогда нашей душе наиболее созвучны слова поэта:
«И долго на свете томилась она
Желаний чудных полна.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучныя песни земли.»
ТЕОРЕТИЧССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОТРИЦАНИЕ нередко служит только оправданием практического равнодушия к вере и исходит часто из желания усыпить свою совесть, казнящую человека за его порочную жизнь. Так называемый libre penseur стремится сохранить в себе вовсе не независимость мысли, которая легко может уживаться с верою, как мы это видим на примере многих выдающихся ученых и мыслителей, а только свободу следовать велениям своего сердца и воли и освободить себя от тех нравственных обязательств и ограничений, какие неизбежно налагает на нас религия. Паскаль имел основание заподозрить честность и искренность тех людей, которые стараются не думать о Боге и назначении человека и не хотят добросовестно иcследовать то, что легкомысленно отрицают. «Ничто так не доказывает, пишет он, крайней слабости ума, как незнание того, какое несчастье быть человеком без Бога; ничто столь не служит признаком трусости, как бравирование пред Богом» («Мысли,» перев. Первова, стр. 37).
«Я ХОТЕЛ БЫ ВЕРИТЬ, ГОВОРЯТ НЕКОТОРЫЕ, НО НЕ МОГУ.» – «Нет, ты можешь, но не хочешь,» следует ответить им. Источник этого сокровища прежде всего в твоем собственном сердце. Выслушай свидетельство твоей собственной совести, внимай голосу, который исходит от твоего бессмертного духа, ищи веры, и ты обрящешь ее; Бог сам откроет пред тобою закрытую дверь, если ты будешь настойчиво стучаться в нее. Он знает немощь нашей природы, и требует, от нас веры по крайней мере с зерно горчичное. «Если сколько нибудь можешь веровать,» сказал Христос Спаситель несчастному отцу бесноватого отрока у подножия Фавора, «все возможно верующему».
«Верую, Господи, помоги моему неверию,» был ответ или лучше сказать растворенная слезами мольба отца, и этого было достаточно: чудо совершилось (Марк. 9:23–24). Теми же словами должен молиться каждый человек в минуты духовного искушения, ибо у всех бывают приливы и отливы веры, как сказал один выдающийся архпастырь-богослов. Когда вера поднимает нас на своих могучих волнах, наш дух как бы расширяется, чувствует непоколебимую внутреннюю устойчивость и ощущает в себе силу, действительно способную двигать горами. Нельзя без духовного восторга читать величественное повествование апостола о тех дивных мужах Ветхого Завета, которые верою побеждали царства, творили правду, заграждали уста львам, были крепки во бранех (Евр. 11:33–34). Без веры нет героев духа, как нет и истинного творчества. Человек «без догмата,» которого так ярко изобразил Сенкевич, всегда производит на нас жалкое впечатление. Это трость ветром колеблемая – духовный паралитик, неспособный сдвинуться с места, хотя бы он обладал гениальными способностями. Сомневающийся подлинно «подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях своих (Иак. 1:6–8).
ОДНАЖДЫ Я ВОШЕЛ В ТЮРЕМНУЮ КАМЕРУ, где сидели два человека, осужденных на смертную казнь. С некоторым страхом я переступил порог этой роковой комнаты, казавшейся мне зияющей могилой. Я боялся не найти для этих несчастных достаточных слов утешения и ободрения. Каково же было мое изумление, когда я застал их беспечно кипятящими чай на керосиновой лампе; они считали повидимому, что несколько дней, отделявших их от казни, еще слишком достагочный срок для того, чтобы они могли не думать о смерти и наслаждаться жизнью. Таков человек: он всегда ходит по краю бездны, ежеминутно может низринуться в нее, и одкако, подобно неразумным детям, продолжает легкомысленно срывать цветы, висящие над нею. «Между нами и адом или небом, говорит Паскаль, перегородкой служит только жизнь, а это самая ломкая в мире вещь. Мы беззаботно стремимся в пропасть, поставивши что-нибудь пред собой, чтобы помешать себе ее видеть» (Мысли. 38, 39).
НИКТО НЕ ХОЧЕТ УЙТИ ИЗ ЭТОГО МИРА, не оставив после себя какого либо следа; каждый стремится передать что либо в наследство грядущим векам и создать себе рукотворный или нерукотворный памятник на земле. Мысль о том, что идея; вложенная в то или другое наше творение, переживет нас, что ею будет жить и вдохновляться ряд последующих поколений, что она сроднит с нами неведомых нам людей, которые благословят наше имя, всегда была обаятельна для человека. К этому естественному чувству, в котором несомненно сказывается жажда бессмертия, присоединяется однако нередко скрытый дух тщеславия, следующий всюду за нами по пятам, как тень. Уже самый смысл этого слова указывает на суетность или тщету погони за славой. Однако такое чувство служит едва ли не главной пружиной, движущей творческую энергию человечества.
Сколько людей истощаются в разнообразных усилиях для того, чтобы хоть на мгновение блеснуть, как метеор на горизонте, привлекши к себе общее внимание. Иные готовы отдать самую жизнь за миг скоропреходящей славы. Литературное тщеславие является едва лн не одним из самых опасных и заразительных в ряду других ощущений подобного рода. Кто не мечтает втайне о том, чтобы властвовать над умами или могучей рукой ударять по струнам чужого сердца. Даже державные повелители народов часто не чужды этой общечеловеческой слабости: многие из них, не довольствуясь ролью меценатов и теми естественными отличиями, какие дает им высокое положение, хотели бы обвить свои сверкающие венцы скромными поэтическими, литературными или артистическими лаврами.
Толстой говорит о своем старшем брате, что он не уступал ему самому по силе литературнаго таланта, но не сделался великим писателем только потому, что не имел для этого, по словам Тургенева, обычных недостатков писателей и главнаго из них тщеславия. Вместе с тем с присущею ему откровенностю Толстой признается, что лично он никогда не мог оставаться равнодушным к своей славе и к общественной оценке его произведений.
С такой же покоряющей силой искренности пишет о соблазне тщеславия Паскаль. «Тщеславие, говорит он, столь вкоренилось в сердце человека, что солдат, денщик, повар, носильщик тщеславятся собою и хотят иметь поклонников; даже философы желают того же. Те, которые пишут против этого, желают прославиться тем, что хорошо написали; те, которые читают сочинения, желают похвастаться, что они прочитали; и я, написавши это, может быть тоже имею подобное желание; будут пожалуй иметь его и те, которые прочитали его» (Паскаль «Мысли,» стр. 52).
Замечательно, что люди способны гордиться всем, не только славою, но и бесславием, не только красотою, но и безобразием, не только добродетелью, но и пороками и наконец, самым смирением, которое по существу своему есть отрицание гордыни и победа над нею. Непреложно отеческое слово: «как ни брось сей трезубец, все он встанет вверх острием» (Иоанн Лествичник).
ЕСТЬ ОСОБЫЙ РОД ЛЮДЕЙ, которые кажутся уже с детства существами не от мира сего. Они слишком светлы и чисты, чтобы долго задерживаться на земле и смешиваться с прахом. Они проходят по ней, как некое видение, едва касаясь ее своими ногами и в раннем возрасте уже отлетают в вечность, оставив по себе «раскаяние,» т. е. общее сожаление.
Об них говорит премудрый Соломон, что Бог восхищает их преждевременно из этого мира, дабы злоба не изменила разум их или коварство не прельстило души их, достигиув совершенства в короткое время, они исполнили долгие лета (Прем. Сол. 4:11–13).
«НЕ ЦЕПИ ДЕЛАЮТ РАБА, но сознание, что он раб,» говорит Гегель. Если так, то и в цепях можно чувствовать и сознавать себя свободным.
НАМ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ ВСТРЕЧАТЬ УМ, сверкающий каким то стальным холодным блеском. Он светит, но не греет, будучи подобен зимнему солнцу. Не удивительно, что он гораздо больше отталкивает, чем привлекает к себе нашу душу, которая ищет в подобных случаях тепла и света вместе.
МНОГО ТРУДОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНО КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ и тяжело иго сынов Адама со дня исхода их до дня возвращения к матери всех. Мысль об ожидаемом и день смерти производит в них размышления и страх сердца. От сидящего на престоле и до поверженного на земле и во прахе, от носящего порфиру и венец и до одетого в рубище, у всякого досада и ревность и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и негодование, и распри, и во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает его ум (Сир. 40:4–5).
Таков плачевный жребий всех смертных, живущих на земле, по изображению Сираха. И несмотря на это они судорожной рукою держатся за ускользающую от них нить жизни желая продлить ее хоть на несколько мгновений.
ЛУЧШЕ ВСТРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКУ МЕДВЕДИЦУ, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью (Притч. 17:12). Глупец может быть опаснее разъяренной медведицы, очевидно только потому, что мы не можем предвидеть, когда и с какой стороны он нанесет нам удар.
...
...
читать митрополит Анастасий (Грибановский)




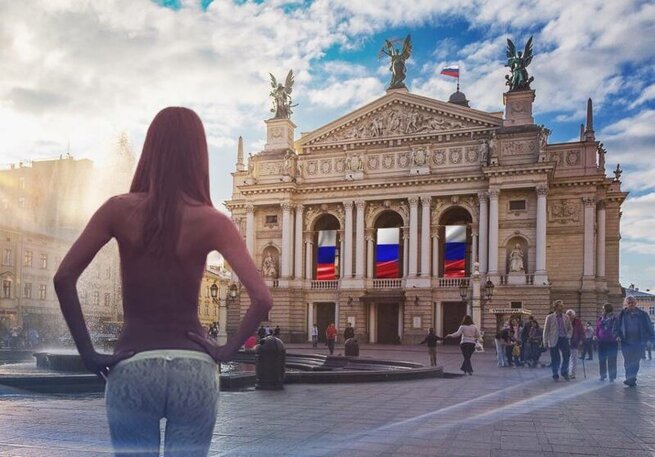


Оценили 9 человек
23 кармы