
Вообразите, что некий волшебник (фигура, любимая экономистами-теоретиками) заколдовал пространство. И теперь никто ничего не может отбирать из чужих рук насилием, ни явным, ни скрытым. Всё, что люди отдают из своих рук в другие – они делают только добровольно, согласившись на обмен, который сами для себя посчитали выгодным. И пока ты человека не убедишь, что ему выгодно с тобой меняться – он с тобой меняться не будет…
Понятно, что для такого мира (а лишь в нём и действуют выдуманные теоретиками «законы свободного рынка») необходимо волшебство. Нет волшебства – нет и такого мира.
Где же, без волшебства, вы видели такой мир, в котором Вася ничего не может силой отобрать у Пети, а Петя у Васи, а тот, кто за ними присматривает – у них обоих?
Получается: если нет волшебства, то нет ни никаких экономических схем, которые выдумывали люди, начиная с Адама Смита и Давида Рикардо, и далее, по списку – вплоть до профессоров, наших современников.
+++
Мир, не исключающий насилия (то есть реальный мир) – никакого ОБМЕНА между сильными и слабыми не предполагает. Всё, что слабый получил – он получил не в обмен на услуги сильному. А по его произволу. Точно так же и всё, что слабый отдал – он отдал не в рамках добровольного обмена, не потому, что принял решение отдать «икс» в обмен на «игрек». Нет! Всё, что слабый отдал – он отдал по произволу сильного. Как и всё, что он получил (если он что-то получил).
Но как же тогда, без эквивалентной меры, без взаимного учёта могут происходить экономические процессы? А вот как: некий мега-хищник объявил себя владельцем всего, что есть на свете: и уже произведённого, и того, что только ещё предстоит произвести. Чтобы проще было понять, сведём к зерну. Всё зерно, какое есть – принадлежит мега-хищнику. И всё зерно, которое вырастет на поле (возможно) через год, два, три – тоже уже принадлежит мега-хищнику, при условии, что вообще будет. Если же его не будет (например, засуха, неурожай) – то оно будет списано в графу «убытки». Мол, было, но испортилось. Банальная житейская ситуация! Был дом – а потом сгорел. Пока он был домом, он принадлежал мега-хищнику, а как сгорел – его пепелище продолжает принадлежать прежнему владельцу. Он не был вашим ни тогда, когда был домом, ни тогда, когда перестал домом быть…
Исходя из каких-то своих (далеко не всегда нам понятных) заморочек мега-хищник часть своего имущества даёт попользоваться (только попользоваться! ) другим людям. Таким образом, он выступает «кормильцем», организатором процессов распределения материальных ресурсов и активов.
+++
Это приводит к полному отрыву труда, объективной ценности, заключённой в общественно-полезном труде от оплаты и вознаграждения. Труд производит (или не производит) продукт, обладающий физической полезностью. Таковы хлеб или помидоры, обувь или гвозди, словом всё, что имеет функциональное назначение в материальном мире.
Но всё это принадлежит мега-хищнику, как в готовом виде, так и в процессе производства (потому что хищник даёт или не даёт допуск к сырью и инструментам). Теоретически помидор можно у мегахищника «украсть», то есть сорвать и скушать, обходя в этой натуральной схеме процесс денежного подтверждения потребительских прав.
Но и только. Скорее всего (показывает жизнь) натуральное производство помидоров, которые сам же производитель кушает – будет обложено разного рода поборами и условиями. Но и при этом нужно различать помидор, как продукт, и помидор, как товар.
Помидор, как продукт, обладает всем понятной, очевидной, физической ценностью: его можно скушать.
Помидор, как товар, никакой собственной ценности не имеет. Если вы его лично не скушали (а пытаетесь продать) – то помидор становится «оборотнем». В одних случаях его ценность «почему-то» растёт, вам за него дают больше благ. В других – падает, и благ вам за него дают меньше. Но нередки ситуации, когда помидор теряет всякую положительную ценность, и превращается в… административное правонарушение!
Вы вырастили помидор – но продать его не смогли. А он не вечный, он сгнил. Означает ли это, что вы не получили никакой прибыли? Нет. Вы получили «отрицательную прибыль», то есть убытки. Проще говоря, ваш труд признан проступком, и наказан штрафом. Помидор не дал вам никакой выручки, но ведь расходы очевидны: кроме сил и времени, у вас были расходы на семена, инвентарь, удобрения, плата за пользование землёй и т. п.
+++
Экономическое хищничество в конечной его версии представляет собой некий «центр силы», бесконтрольно печатающий деньги, и столь же бесконтрольно выставляющий им вменённую стоимость. При этом происходит полный и окончательный разрыв между трудом и оплатой, как двумя процессами, которые могут соприкоснуться лишь случайно.
Любой труд оплачивается не по факту своей физической полезности, а произвольно. Поэтому стандартной становится ситуация, когда много труда не даёт никакой оплаты, и наоборот – очень щедрая оплата не требует никакого труда (была бы лишь воля центра эмиссии).
Материальные блага, имеющие реальную физическую ценность в процессе непосредственного потребления, отделяются от своих производителей, перемешиваются как бы на «общем складе», откуда и выдаются произвольно: не по трудам, а по желанию бесконтрольных печатников денег.
Такого рода порядок не может существовать сам по себе: разумеется, он поддерживается только самым жёстким террористическим насилием, и осуществляется только на основе жесточайшего террора (к которому добавляется шантаж). В итоге все люди борются уже не за производство физически полезного продукта, и даже не за право его производить[1], а за благосклонность печатников денег.
Нужно сделать что-то такое, чтобы им понравилось: ведь у них есть возможность заплатить огромные деньги за баночку с калом, равно как и возможность закрыть хлебзавод, хотя, казалось бы, в физической, материальной ценности хлеба никто не сомневается.
+++
Корневой замысел социалистов (если, конечно, мы берём нормальных социалистов, а не левацкие извращения) в том и заключался, чтобы сблизить труд (производство физически полезного продукта) и оплату труда (вознаграждение от властей, доступ к благам).
Однако одно тянет за собой другое, логически-неизбежное: сближение труда с наградой возможно только в рамках плановой экономики.
Смысл её в том, что мы вначале думаем – потом делаем. А не как на свободном рынке – вначале делаем, а потом думаем, куда это девать?
Если мы хотим наградить человека именно за производство гаек, а не произвольно, самодурством власть имеющих, то мы должны заранее определиться с количеством нужных нам сегодня гаек.
Что получится иначе? Вообразите, что некий царь ввёл гарантию оплаты: рубль за каждую гайку. Подданным это понравилось, они завалили царя гайками под гарантии оплаты. И получится характерный для плановых экономик перекос, дисбаланс – когда она, вызвавшись оплачивать всякий труд по твёрдым расценкам, станет оплачивать лишний труд, переводящий сырьё на брак и мусор…
Поэтому, если мы хотим, без произвола и самодурства, с повязкой Фемиды на глазах, вознаградить по труду каждого производителя гаек – то мы должны поставить и верхний предел их физического количества.
Так получается схема, которую мы называем «мечта цивилизации». Все люди вначале думают, потом делают. Они собрались, подумали и решили: чего и сколько им нужно, сколько получит каждый, кто примет участие в производстве нужного, и, как положено разумным существам – вначале в уме распределили всё: и количество нужных продуктов, и качество, и гарантии оплаты производства нужного, и размеры оплаты (которые у разумных людей заранее известны).
И только проделав эту умственную работу – перешли к материальным реалиям. Нужное, заранее признанное нужным, оплачивается заранее обговоренным и хорошо известным образом. А ненужное не оплачивается, потому что признано ненужным.
+++
Скажут, что нарисованная нами схема – утопия. Но, если в целом она нигде и никогда не существовала, без её элементов и зародышей невозможна была бы никакая развитая цивилизация! В общей рыночной неопределённости всегда (даже в худшие годы) можно отыскать островки достаточной определённости. Это когда заказ дан заранее, и оплата заранее определена (т. н. фьючерсный контракт).
Другое дело, что у этих островков не получается (пока? ) охватить всё пространство. Мегахищник, вроде ФРС США, вводит их ради собственных планов, а вовсе не из любви к порядку и гармонии. И, вводя такие островки фьючерсных контрактов (определяющих гарантии сбыта и твёрдую стоимость труда ещё до начала производства! ) – он всегда оставляет за собой стратегическую неопределённость в общем и целом укладе экономики.
Мол «отсюда и дотуда работает плановое распределение с предсказуемыми результатами». А далее – «снова и опять мой произвол».
+++
Проблема, которую мы озвучили – не нова. Люди издревле видели, что труд, со всеми его тяготами, усталостью и солёным потом существует отдельно, а финансовое богатство, изобилие в потреблении – тоже отдельно.
Эту проблему ставили по-разному, в марксизме например – довольно экзотические (и наивные) трактовки отчуждения труженика от результатов его труда. Но само отчуждение признаётся, как факт.
Все понимают (как говорится, консенсус), что усталость не может являться мерилом работы. Ну, в самом деле, если человек толок воду в ступе, и сильно устал – значит ли это, что ему нужно много платить? !
Но все понимают (тоже консенсус) и другое: хоть усталость и не может считаться мерилом работы, очень нездорово то общество, в котором до смерти уставшие, еле ноги волочащие от изнеможения люди – не могут свести концы с концами. А люди бодрые, весёлые, никакими обязанностями не обременённые – купаются в роскоши… Есть очевидно-погибельное начало в таком обществе.
Как говорил один мой знакомый:
- Если то, чем вы меня загружали, не нужно – тогда зачем вы меня заваливали этой работой? А если оно нужно – то почему не платите? !
+++
Понятно, что с абсолютной точностью рассчитать оплату строго по труду (единица труда на единицу оплаты), невозможно. Жизнь всегда будет вносить свои коррективы. Но ведь речь и не идёт об абсолютной точности соотношения! Для начала нужно установить хоть какую-то корреляцию между трудом и оплатой, пусть приблизительную, относительную – но всё же корреляцию.
В нынешнем же (постсоветском) мире получается, и чем дальше, тем больше, что между трудом и оплатой ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ.
Как писал Ф. М. Достоевский о своём времени: «…много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович, — изволили слышать? — не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные…»
Вот и всплыла проблема, которая, строго говоря, универсальна: как же так получается, что «рук не покладая работавши» и 15 копеек заработать нельзя? Речь идёт о ненужном труде? То есть шитьё рубах – труд ненужный, обществу вредный? Или о чём ведёт речь Достоевский, а следом и мы за ним?
+++
По всей видимости, только в плановой экономике эта проблема находит решение. Усталость нельзя считать мерилом труда (иначе будем оплачивать толчею воды в ступе), но и отрывать мерило труда от усталости нельзя: иначе получаем Сонечку Мармеладову, и Раскольникова с топором в придачу к ней.
И тут главный вопрос: была ли усталость плановой, порученной – или же шла от себя. Если человек занимался своим, по своей воле, и от себя – то никакая его усталость не может считаться мерилом оплаты. Мало ли, отчего он устал и почему?
Но если человек устал, занимаясь тем, что ему было официально поручено обществом (в рамках планового хозяйства) – то даже ненужный труд обязан быть оплачен, ибо он – вина планировщика, а не труженика. Человек сказали «делай это – получишь вот столько». Он сделал. И должен получить.
Возьмём ситуацию скандальную: человеку поручили выращивать свёклу. Он её честно и добросовестно вырастил и сдал. А она сгнила на овощебазе. Конечно, следует наказать того, по чьей вине сгнила свёкла! Но есть ли основание наказывать свекловода за то, что его труд пропал втуне, не принеся ни копейки выручки на сбыте, никакой пользы обществу?
В рыночной экономике (в чём её и сила и слабость) – за отсутствие конечной прибыли караются все участники процесса производства. Банкротство завода, например – пускает по миру всех рабочих, а не только руководство.
Но здесь вопрос не только абстрактной справедливости (когда рынок наказывает рублём невиновных), но куда более важный: рыночные хищники начинают играть этим правилом, играют им страшно – о чём и пишет Достоевский. Они начинают сбивать расценки в свою пользу, отчего всякий наёмный труд, даже и востребованный – в итоге оказывается на грани физиологического минимума. Сонечка Мармеладова (очень важный архетип! ) сперва получала 15 копеек за шитьё рубах, а потом уже и 15 давать перестали, а потом и вовсе не дали ничего…
А можно ли БЕЗ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ решить, кто кого обманул и «напарил» с оплатой? Ответ неутешителен: нет.
Если существуют расценки, по которым хомут стоит рубль, то производитель, взявший больше рубля, обманул покупателя. А покупатель, давший меньше рубля, обманул производителя. Это легко установить – лишь бы арифметику знать. Если же претензии по качеству хомута – то имеется комиссия (опять же, определённая законом), которая третейски рассмотрит рекламацию.
Но, принимая рубашки от Сонечки, Клопшток сам решает, брать или не брать: тут он может что угодно выдумать…
Если нет плановых, общих расценок на хомут или рубашку, то оплата договорная. И определить, кто кого обманул – уже невозможно. Покупателю, разумеется, кажется, что его обманули, продали дорого, и он хотел бы дешевле. Производителю – в точности наоборот.
Сходятся они на цене, по сути, продиктованной силой: кто из них сильнее, влиятельнее, тот своё мнение и продавит. Сравнивать его не с чем: законных твёрдых расценок попросту нет.
+++
Начиная с древности очевидно: никакая торговля не может существовать сама по себе, отдельно, в отрыве от религиозного традиционализма. Если убрать храмы и веру в них, то рынок превращается в бойню, а торговля перерождается в бандитский беспредел.
Когда говорят, что в Диком Поле нет власти – имеют в виду, что там нет устойчивой традиционной власти. А так-то власть есть в каждом поле и в каждой саванне, где лев – «царь зверей» и т. п. Другое дело, что безрелигиозная власть не устанавливает никаких критериев обмена, кроме силовых, террористических. Что, в числе прочего, исключает всякую культуру торговли.
В самом деле, как сумеет цивилизация организовать необходимое ей разделение труда, кооперацию производителей – если все будут себя вести как современные США? Ведь обмена меры на меру не будет от слова «вообще», а просто каждый у каждого станет (как США) из рук вырывать всё нужное, опираясь на голую силу и террор…
Оттого уже в древние времена (когда цивилизация была примитивна, но в азах своих уже была) организация торговли (мены) велась возле крепостей, или даже внутри крепостей.
Уже и древнему торговцу требуются защищённые места обмена. Иначе из торговца он станет жертвой ограбления, или пиратом, словом, кем угодно – только не переговорщиком без насилия.
Но если есть защищённые от произвола голой силы места обмена - то есть и тот, кто защищает. А кто он – и зачем ему это нужно?
+++
Если человек поднялся над животным уровнем – то у него, помимо звериных мотиваций поведения, возникают и чуждые зоологическим отношениям цивилизационные мотивации. Экономическая их суть – «несебейность», коллективизм, обеспечивающий преемственность и поступательность строительства (сперва только храмов и иных культовых сооружений).
Цивилизованный человек существует не только как биологичекая особь, в свой час родившаяся и в свой же час умершая. Он рождается не на пустое место, а как воспреемник культурной (культовой) традиции. Её он, если цивилизованный, обязан хранить и восполнить с расчётом на времена, когда его самого не станет. Цивилизация живёт на «сменных носителях», но хотя носители её меняются, её коллективный разум един и обладает свойством недоступного отдельному человеку долгожительства.
Зверю нет никакого дела, если после него останется пустыня: «после нас хоть потоп». «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» - о том же самом предупреждал Достоевский.
Цивилизованному человеку есть дело до того, что после него останется. Его не будет – а цивилизация должна продолжаться (никак это разумно не объяснишь, это предмет веры). Для обеспечения преемственности и поступательности нужны правила, вытесняющие голое, ситуационное, англо-американского типа, геноцидное насилие.
Те цари и иные феодалы, которые защищали торговцев от взаимного уничтожения, запрещая им убивать и грабить друг друга, сами на себя это правило, конечно, не распространяли – но и свой силовой произвол локализовали исключительно на себе, «для пользы дела».
Подданным своим они запрещали «горизонтальное» насилие, войну всех против всех.
- Нет – говорили цари – Я ввёл правила, и вы им будете следовать, а кто нарушит – того я загрызу страшным образом!
Так и возникали ЛОКАЦИИ ЗАЩИЩЁННОГО ОБМЕНА, то есть некоторое (очень ограниченное) пространство, на котором действуют правила сверх прямого и грубого террора. Когда чужеродная орда врывалась на это пространство, зоология реставрировалась, да и сам царь мог сыграть роль орды, налётчика.
Но по мере сил и цивилизованности своей, правители древнего мира стремились латать забор, защищающий пространство обмена по правилам.
При этом, разумеется, представления о справедливости, существующей сверх «естественного отбора» они черпали из религии, откуда же ещё? ! С одной стороны, пользуясь силовой монополией, они эти представления часто нарушали. Однако же – нарушение предполагает, что нарушенное существует. Если же мы берём «естественный отбор», то там нарушать нечего, там всё случившееся «законно» - иначе не смогло бы случиться по законам естества.
+++
Цивилизация есть сложение усилий множества людей для единой цели, помноженное на ряд участвующих в ней поколений. Потому у цивилизации есть нужды, которым зоологические регуляции – как нож к горлу! Цивилизации нужно, например, чтобы библиотеки свято хранились, школы бесперебойно работали, знания в полном объёме передавались от человека к человеку и от поколения к поколению.
Но ничего такого не нужно зверю, или современному либерально-западному варвару-хищнику!
Мы видим воочию, до какой степени НАСРАТЬ либералам на сохранность библиотек или закрытие школ, насколько равнодушен либерализм к передаче культурного наследия, насколько криминален он в своём отношении к производству и перспективным разработкам. Менее всего среднего чубайса волнует – останутся ли обсерватории и космодромы, или закроются.
Почему так получается? Потому что вероисповедные мотивации отключились, а зоологические остались, а там только одно: себе, как можно больше, и как можно быстрее, а потом – ничего. Могильная яма, замурованный тупик пути. Несколько лет покуражиться, насколько сил хватит – после же всё равно Вселенная свернётся в вечную абсолютную тьму небытия…
Никакие силовые структуры без жреческого наполнения не в состоянии этого отменить. Наоборот, вооружённый человек, при условии, что его мотивации зоологические, лишь катализирует процесс криминального разбоя. Чувствуя себя с ракетами сильнее, чем без ракет – он охотнее включается в процесс грабежа и беспредела…
Рассчитывать, что от этого спасут армия, полиция и спецслужбы… Вспомним СССР – с самой сильной в мире армией и могучими спецслужбами, сильно они ему помогли в момент развала? !
+++
Маркс даёт довольно искажённую картину экономических отношений, но его картина всё же гораздо ближе к реальности, чем у А. Смита, Д. Рикардо и современных буржуазных экономистов.
Главная проблема Маркса в том, что он атеист. Следовательно, он упорно отказывается понимать: если изъять из экономических отношений сакральную составляющую, то они перестанут быть «экономическими» от слова «совсем». Ибо удар дубиной по голове снимает все вопросы о талантах, способностях, деловой хватке и расчётливой смекалке…
Буржуазные экономисты пребывают в ещё более странных, воображаемых мирах, в которых, в отличие от марксизма, нет вообще никаких точек пересечения с объективной реальностью. Там какие-то выдуманные стороны обмена меняются благами по каким-то придуманным, непонятно откуда взявшимся правилам…
На самом деле все эти правила «сверх дубины» родились из религии, как средство (не цель, а только средство! ) обеспечения культурной передачи, сбережения культа между сменяющимися поколениями. В качестве подсистемы, культ вывел и карательные органы государства, которые не превращаются в банды беспредельщиков ТОЛЬКО ПОКА сохраняют свою связку с культом.
Если же вы задумаете веру разрушить, системообразующий культ убрать, а карательный аппарат оставить, то – даю 100% гарантию, тут же встанет римский вопрос «Quis custodiet ipsos custodes? » - т. е. «кто будет сторожем над сторожами». Ведь карательный аппарат, не пронизанный «политруками», в силу инстинктов всего живого обратит свою силу в своё обогащение и доминирование чисто зоологического типа. Метаться между «оборотнями в погонах» с криками «вы же губите цивилизацию! » оставьте Фейербаху[2], ему не привыкать.
Зачем цивилизация неверующим? Что они с ней будут делать? ! Развивать? Да у них ведь нет даже ответа на вопрос – «что такое развитие и чем оно отличается от злокачественной мутации, если и то, и другое – перемены? ».
Ведь развитие же предполагает путь снизу вверх, от текущей реальности к чётко известному идеалу, а откуда таковой возьмётся в эволюционизме? Эволюция ведь никого не делит на «хороших» и «плохих», она всех делит только на выживших и вымерших. И при этом никакой проблемы в общем вымирании не видит. Побродила плесень на сырой планете, да и засохла, велика ли беда?
+++
Таким образом, вся тяжесть вопроса о пространстве защищённого обмена с проблемы «Как? » переносится на проблему объяснения «Зачем? ».
Очень многие наивные люди (марксисты в первых их рядах) полагают, что в жизни бардак и кошмар, потому что люди НЕ ЗНАЮТ ПРАВИЛ культурного жития. Это, мол, такая сложная тайна за семью печатями, что только двадцать лет обучаясь марксистским мантрам, можно её постичь, и тогда, узнавши КАК – всё разложишь по полочкам оптимальной рациональности.
На самом деле – КАК жить по-человечески, кроме совсем уж слабоумных и недоразвитых, знают все люди. По неграмотным был вопрос в прошлые века – но не сегодня же! Правила человеческой жизни прекрасно известны, и, например, в СССР нашли пусть не полное, но яркое отражение.
Потом что случилось? Марксизм все разом забыли? ! Притом, что каждый раз им начинали любое обучение, им же и заканчивали?
Всё дело в том, что цивилизация для неверующего – как футбольный мяч для парализованного. Как зайцу стоп-сигнал, как в деревянную телегу карбюратор, как в бане лыжи! Вся эта грандиозная и завораживающая религиозное сознание картина восходящих, ступень за ступенью, куда-то вверх поколений, у неверующего вызывает два вопроса: зачем и куда? Он-то ведь живёт здесь и сейчас, зачем ему триста лет «до» и триста лет «после»?
Цивилизация унижает особь, она видит в особи лишь передаточное звено, винтик в машине (ненавистный либералам образ «винтика»), цивилизация ставит далёкое общее будущее в приоритет перед обжигающим личным сегодняшним.
Всё, что цивилизация делает – сводится, в сущности, к этому: к обеспечению великой преемственности поколений в великом восхождении к Идеалу. А у «чайлдфри» нет ни потомков, ни идеалов: ему это зачем? !
Неглупый «чайлдфри», материалист-циник прекрасно понимает, чего от него хочет общество, но сомневается, нужно ли ему самому то, чего общество от него домогается. Потому общество может вводить любые законы, пыхтеть обоснованиями «важности общего дела» - неверующая масса всё равно всё это вывернет себе на личную пользу, здесь и сейчас.
Проблема вовсе не в том, что идеал человеческого поведения неизвестен! Он известен уже всем мировым религиям («не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе» и т. п. ). Проблема в том, что активировать этот идеал может только накалённая религиозная вера внутри человека. Иначе он останется невостребованным.
Понимаете? Не то, чтобы неизвестным – но невостребованным!
Вазген Авагян, команда ЭиМ
----------------------------------
[1] Если в социалистическом обществе участие в производстве является ОБЯЗАННОСТЬЮ граждан, за уклонение от которой прописана статья УК за тунеядство, то в капиталистическом участие в труде выступает ПРИВИЛЕГИЕЙ, далеко не всем доступной. Армия безработных как раз и подчёркивает, что даже землю копать и мешки таскать берут далеко не всех, а только тех, к кому господин работодатель проявит «милость и снисхождение».
[2] Фейербах выводил нравственность из естественных нужд общества, опираясь на свою теорию «антропологического материализма». Он считал, что нравственность не имеет божественного происхождения, а коренится в самом человеке как общественном существе и в его естественных потребностях и общении с другими людьми.



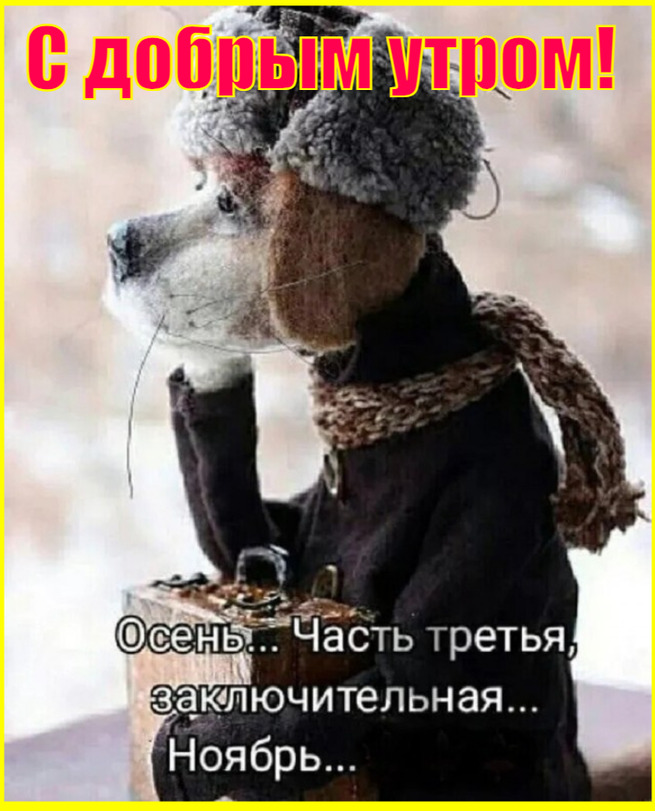
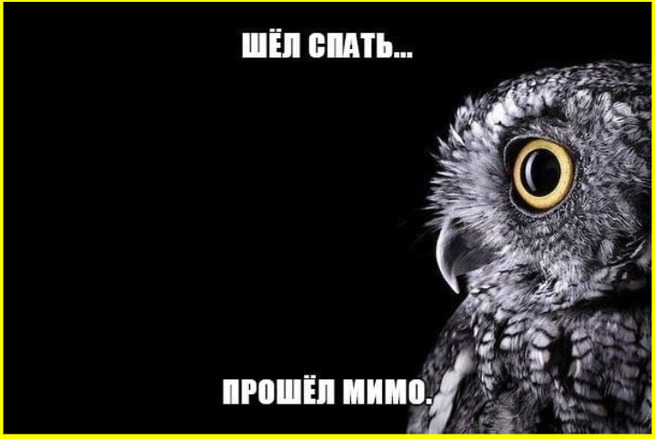



Оценили 2 человека
3 кармы