9 мая по Невскому проспекту торжественным маршем прошло невиданное в истории воинское формирование — Бессмертный полк. У него не было генералов, офицеров, командиров, все были одного звания — солдаты, все — добровольцы. Плечом к плечу в парадном строю прошагали 300 тысяч человек. В Петербурге тот победный майский день выдался холодным, ветреным…
…ветер, пахнущий водорослями и тающим снегом, слетел с мелкого серого моря, волнующегося невдалеке, спорхнул с едва зацветающих лугов, скатился с облака, выпал из мохнатой сизой тучи, висящей над головами и грозящей дождем; ветер этот был местный, свойский, пригородный, курортный, но родился он в кристальных пространствах лютого севера и нынче бесчинствовал в Городе: нёсся по проспектам, разбиваясь в перекрестках, дул в улицы, вспенивал Неву и морщил воды бесчисленных каналов, прямил мосты, дрожащие от тяжести трамваев, визжащих на стрелках, крутых поворотах; он дерзко врывался в комнаты, надувал пузырём занавески, летел обратно, вынося вон зимние страхи и дурные сны; ему был тесен великий Город, он требовал свободы и, обезумев от своей удручающей неполноты, летел вдоль широкой старой улицы, крутился штопором, возносился к сизой туче столбом, и вдруг падал ничком, как убитый, на головы людей, крепко обнимал их тела, сползал, ложился на дорогу, стелился по асфальту, возился там, дёргая за шнурки, лез под куртки и рубашки, пугал холодом, пуская мурашки по коже, вздувал пузырём платки, срывал шляпы, ворошил волосы, и тут же он исчезал, растворялся, становился неощутимым, ничем, будто и не бывало его тут никогда, никогда, а только казалось… чтобы через два сердечных биения, в трепете крыльев кувыркавшихся над головами птиц, на фоне туч, и бьющей сквозь них полосы нестерпимо яркого света, соединяющего небо и землю, ожить, и в весёлой ярости мять лицо, давить подушкой грудь, наваливаться на спину; он прерывал дыхание, его холодный режущий выдох наполнял грудь.
На его майские бесчинства не было управы.
Так весенний ветер обнимал холодными, влажными, неверными объятиями живых. Живых и только живых.
300 тысяч человек стояли в одном строю.
Строй колыхался.
В растворах окон — по двое, по трое, там пятеро, высунувшись по пояс, машут, кричат. Теснятся на балконах. Тротуары заполнены. Тут поют, в задних рядах кричат «Победа!», «Слава!», «Да здравствуют ветераны!» И волна грозного, мощного «Ура!!!» катится над головами, волна за волной. Волна за волной…
Улица жарко дышала.
Ветер рвал из рук белые прямоугольники, вознесенные над головами на тонких древках. Густой лес белых прямоугольников, повернутых лицами в сторону скорого движения — фотографии отцов, матерей, дедов, бабушек, дядьёв, племянников, всех родственников, воевавших на всех фронтах, на суше, на море, в воздухе, в партизанских отрядах, освободивших свои и чужие города и села, расписавшихся на колоннах Рейхстага, под взметнувшимся над ними Красном Знамени Победы; всех вернувшихся домой, празднующих Победу и свою счастливую удачу выжить в той бойне, и приковылявших на костылях, и привезённых без ног и рук, слепых, увечных, и оставшихся помирать в госпиталях; и погребённых со славой, под троекратный салют, отданный уцелевшими в последнем бою однополчанами, всех, спящих под фанерной звездой над одиноким холмиком и в многотысячных братских могилах, и в мемориалах под дорогими бронзовыми памятниками; и сложивших головы, сгинувших, будто и не было, не погребённых, забытых, потерянных Родиной, до сих пор лежащих в окопчике, в траншее, в стрелковой ячейке, крепко сжимая в истлевших руках пулемет, и чьи кости разбросаны по всем полям кровавых битв, и будут там покоиться вечно; и портреты немногих – еще живых победителей, ветеранов, не сражённых ни возрастом, ни болезнями, ни глубокими ранами, ни равнодушием близких…
Никогда еще старая улица не видела такого собрания — молодые женщины, мужчины, старики опирались на молодых, горбились на костылях, подростки, дети, младенцы в колясках, на руках и в утробах будущих матерей — пришли и встали в строй. Никто не гнал их из дома, не заставлял начальническим словом, не пугал карами, не вынуждал и не агитировал, и ничего не предлагал взамен — ни денег, ни благ, ни выгод. Они пришли по собственной воле, по желанию сердца.
300 тысяч живых, живущих, дышащих, собрались идти торжественным маршем по Городу. Они хотели, чтобы вместе с ними шли солдаты Победы, те, кого не было здесь и сейчас, и не было где-нибудь еще под небом и ветром. Живые подняли их фотографии высоко над собой, и те стали похожи на белых птиц, вьющихся, трепещущих… Живые смотрели в лица солдат и находили в них невысказанную печаль, волю, бесстрашие, любовь, надежду, растерянность, слабость, твердость, тоску, силу, готовность к подвигу, прощание, слёзы… Красивы были эти лица красотой не сегодняшней, а особой, излучающей свет невечерний. Она родилась из испытаний, которым под силу перенести только титанам, а они были всего лишь люди. Но уже не те, которые беззаботно встретили воскресный полдень 22 июня. Еще вчера был мир, а сегодня их душа была перевернута гибелью товарищей, видом убитого врага, болью за поруганную Родину; душа их была выскоблена остервенением боя, как картофелина острым ножом, очищена тяжелой думой о неминуемой своей гибели, о том, как не струсить в бою перед лицом товарищей и командиров, не попасть бы в плен, не принять позорной смерти. Охвачена она была гневом и состраданием. Все пустяковое, несущественное, когда-то бывшее важным, нужным, первоочередным, всё мелкое, наносное, столь присущее живым, и бывшее у них тогда, было отброшено новым, никогда не испытанным могучим духовным усилием. Каждый мечтал жить в этом прекрасном мире, полном света и воздуха, где синие реки, красноствольные сосны, опаловые озера, где города порождены волшебными снами и похожи на музеи… Они стали солдатами. И под ураганным огнем поднимались в атаку, штурмом брали безымянные высотки и европейские столицы. Они гибли за Родину, исполняя свой долг, и входили в бессмертие.
Теперь, здесь, на широкой улице, живые смотрели на родных, близких, любимых, оплаканных, вернувшихся с победой наперекор смерти. А те со своей высоты внимательно, пристально, не отрываясь, вглядывались в своих детей, внуков, правнуков. В живых. Совершенно, несомненно, бесспорно живых. Смотрели на волнующуюся, шевелящуюся, тысячеголовую толпу потомков, принявшую стройный вид военного построения. И, казалось, что они — ушедшие, истинные герои, победители, чудесным образом сейчас черпали их живое тепло, проникаясь их жизненными токами, нервностью, нетерпением, страстностью, радостью, восторгом, неясной печалью, их заметным томлением перед грядущем маршем.
Здесь стоял полк, числом поболе армии. Подобного которому нет нигде в целом свете. А есть только у нас, есть всегда, во всякое время, но строится только в этот, единственный день — День Победы. Нашей Победы. Всенародной. И личной победы каждого из нас над врагом в той войне. Этим солдатам уже смерть не страшна, и сам чёрт не брат. Его нельзя уничтожить, убить, развеять по ветру, забыть, оболгать. Полк сильных, непобедимых, бесстрашных. Любящих, страдающих, вечно живых, и живых до времени предписанного, пришедших в майский зацветающий день, до которого не дошли, пали, легли в землю. Вознеслись на небеса.
Живые переминались с ноги на ногу, жарко дышали, счастливые, растроганные, сплошь трезвые, а как будто чуть хмельные после законной ворошиловской чарки, ждали команды, чтобы двинуться вперёд: вот как только скажут, так и пойдем! тронемся, туда, к Невскому, а там повернем — и марш, марш по красавцу проспекту, по его разящему клинку, прямо, прямо, шаг за шагом, не спеша, торжественно, с чувством, каждым шагом, каждым вздохом, каждым мгновением, вместе, плечом к плечу, взрослые, дети, юноши и девушки, пожилые, — все молодые, с блеском в глазах, задорные, будто играя, весело — к Адмиралтейству, утверждающему победу государства российского с петровских времен, к гранёному его шпилю, золотым копьём пронзающему эмалевые небеса, он виден сразу, он как восклицательный знак, как крик восторга, как выдох после боя во встречной атаке, как смертельный удар под вражеское сердце, как восклицание победы, как разящая молния, как выстрел снайпера, как чудо победы… и — на Дворцовую, на её парадные просторы, к Ангелу, воздевающему в небеса крест — к вестнику Победы нашего народа, нашего оружия, нашего духа. Нашей Правды. А мы за правду не постоим, мы за неё умрём. Тогда живые и мертвые стали одно — одно огромное тело, одна безмерная душа. И не было мертвых, но все живые.
Улица ждала приказа.
Я держал над собой фотографию отца.
Он пришёл добровольцем в военкомат на следующий день после объявления войны.
На фото он выглядит одиноким.
Шинель, это заметно, сидит на нем неловко, она жёсткая, необмятая, только сейчас надёванная. И, конечно, пахнет сладким казенным запахом казармы, как во все времена пахнет новенькое солдатское обмундирование.
Отцу 23 года.
Вид у него строгий и отрешённый.
Я такого отца не знаю. Ещё только второй день войны.
Зачем ему война? Он хочет строить железные дороги, мосты, заводы и фабрики. Мой отец — инженер. Зачем ему убивать людей? Он ещё не знает, каким может быть человек. Цивилизованный. Культурный. Европеец. Пусть хоть и фашист, но ведь и он — человек. Рабочий, крестьянин. Трудящийся. Инженер, такой же, как и он. Зачем им стрелять друг в друга?
Ничего героического нет в лице моего отца.
Он сидит перед фотоаппаратом, здесь, в фотоателье на Садовой улице. Но уже его нет здесь. И ещё нет его на Лужском рубеже, нет под Ржевом или Вязьмой, нет там, где нужно убивать врагов и не быть ими убитым. Ещё не порваны живые связи с этой жизнью, но он уже знает: теперешняя закончилась, а впереди другая, нечеловеческая, страшная, которой не должно было быть. Что в ней? Подвиг, забвенье, страдания и муки, вечная память, смерть? В ней смерть?.. Отец еще не видел тел крестьян, сожжённых вместе с малыми детьми в амбаре на Псковщине. Не пережил гибель близких друзей и однополчан. Ещё не выходил из окружения. Ещё нет у него иступленного желания убивать врага, нет неутолённой кровавой жажды. Ещё он не смотрел в мертвые глаза немца, не стрелял в его сердце. Ещё ничего этого нет.
На фронте он скажет: тут выжить невозможно. Значит, страху нет места, надо воевать и умереть с честью.
Отец, это впереди, всё ещё впереди — страшное, ненужное, жестокое, непереносимое для человека у тебя впереди. Это уже скоро… В аду он окажется в июле в составе артполка Второй ДНО и будет воевать четыре года.
А пока он парится перед фотоаппаратом в жёсткой необмятой шинельке. Сейчас он между миром и войной. Между прошлым и будущим.
Если бы я был тогда рядом с ним, если бы встретились случайно на улице, разговорились в пивной за кружкой «жигулевского», невзначай столкнулись бы где-нибудь в июне 41-ого… Я бы рассказал ему, как он славно воевал, не дрогнул, не струсил, не предал товарищей, не прятался за их спину, не заискивал перед вышестоящими, не кланялся пулям. Как был ранен и контужен. Как презирал смерть. И что он в полной мере исполнил воинскую присягу и сполна свой долг перед Отечеством.
Он ещё этого не знает.
Я мог бы ему, тогдашнему, рассказать всё, что с ним было — от той фотографии до победного салюта, и до последнего вздоха, до слабого блеска в потухающих глазах. Я мог бы… Я всегда был с ним рядом.
Я держу фотографию отца высоко над собой.
Улица рокотала.
Она никогда не видела такого собрания.
Она дышала, вобрав силу, мощь, энергию, страсть, волнение, радость и предвкушение небывалого события.
Улица хотела идти.
Вдруг тысячи человек заволновались, шевельнулись, зашевелились, дрожь пробежала, строй заколыхался и… тронулись, медленно пошли, быстрее, быстро, спеша, уже торопясь… Остановились. Заиграла где-то гармошка, «Ура!!!» набежало волной сзади и затихло далеко впереди. И ещё одна могучая широкая народная волна «ура», за ней другая, громче, совместней… Ждали, дыша в затылки, стояли с особым выражением на лицах, какое бывает при делании важной работы, не терпящей даже малой небрежности. Смотрели в небо, на тучи, словно отыскивали доброжелательные знаки. Вот вновь пошли, пошли, пошли… Могучая человеческая река заполнила Невский, теснилась, ограждённая канатами, барьерами, за ними, забыв, куда шли, по каким делам, стояли, как часовые, люди, зачарованные необыкновенным парадом.
«Слава Победе!», «Слава победителям!», «Слава!», «Слава!» неслось над полком. Возгласы подхватывали, передавали по рядам, вот здесь, рядом кричат, в восторге, в упоении, хрипя, срываясь, разрывая легкие, звук бежит по рядам, вот он уже далеко, затихает, растворившись в воздухе, упёршись в жёлтый куб Адмиралтейства, а его уж нагоняет другой. Ура! Ура!! Ура!!!
По Невскому шёл Бессмертный полк.
Ещё там, на широкой улице, до поворота на проспект, когда только тронулись, охватило полк томящее, бередящее чувство. В этот святой день что-то должно произойти, свершиться, что-то огромное, великое, небывалое. И теперь, когда он, дыша холодным влажным ветром, видел в перспективе Адмиралтейство, нахлынуло, затопило, охватило всех его солдат одно страстное желание. Как молния пронзает небо с востока на запад, озаряя его холодным блеском, как пал летит по сухой траве, сжигая её светлым огнем, так пронеслось оно по шеренгам и рядам, освещая и опаляя толпы, стоящих на тротуарах…
Нет мёртвых, но все живые!
Так пусть воскреснут, пусть оживут, станут в наши ряды, пойдут с нами по Невскому! Зачем их нет, зачем они умерли? Ах, как это было бы замечательно, прекрасно, душевно и весело, весело до горючих слез! если бы они ожили. Вот сейчас бы и ожили… Да пусть бы сами сжимали свои портреты и шли, шли упругими шагами, глядели блестящими, зоркими глазами, вели бы за собой нынешних живых, не знающих того, что они познали. Спасённых от порабощения и смерти, таких сытых, таких гордых, таких невыносимо живых.
Шли, незримые, печатая шаг, плечом к плечу с живыми, говорили с ними — о Родине, о мире и войне, о подвиге и обычной жизни. Мертвые, павшие, погибшие будто бы заглянули на часок, сюда, на Невский, выйдя из тех таинственных пределов, в которых определено быть солдатам, выполнившим ратный долг, и которых познать живым не пришло время… Слетел из лазоревой глубины, открывшейся в разрывах разбегающихся туч, еле слышный звон. Как будто там, далеко, в эфирном пространстве звенели хрустальные колокольчики, или ангелы запели невинными голосами. Эту небесную музыку издавали сотни тысяч медалей и орденов, привинченных к гимнастёркам, бушлатам, парадным мундирам воскресших воинов, отлитых и отчеканенных из золота высшей пробы бессмертного подвига. Чуть слышный звон парил и парил над заполненным до отказа проспектом, перекрывая крики, шум, «ура» и «славы», всё, что издавал полк, идущий парадным шагом — 300 тысяч живых солдат и неизмеримое количество воскресших, оживших, вставших в строй. А им чудился колокольный звон. По ком звонил колокол? По всем солдатам, сложившим головы за Отечество, по всем живым, готовым встать на их место, и если надо — умереть. Это был радостный праздничный трезвон. Он возвещал Чудо Воскресения. Чудо Пасхи, побеждающей смерть. Торжество жизни.
Восторг и ликование сопровождали полк бессмертных от самого построения на старой широкой улице, когда стояли там под свежим майским ветром, на который не находилось управы, и до торжествующего Адмиралтейства, и до выхода на парадный простор Дворцовой площади. Её имперский размах вместил всех солдат… но тут полка уже не было… Нева катила темные воды, раскинувшись меж гранитов набережных, качала боевые корабли, пришедшие на Парад, дыбился мост, похожий на толстую шевелящуюся гусеницу – по нему шла разноцветная толпа, озабоченная собственными желаниями, мост дрожал, мост гудел, моталось желтое пламя на рострах – торжественных свечах, достающих до неба.
Полк растворялся. Солдаты расходились. В этот зацветающий майский день, полный душистого воздуха и свежего ветра, только что, минутами назад живые и мертвые были вместе – одним телом, одной душой, одним сознанием. Живые и ожившие. Глаза это видели, сердце чувствовало, разум подтверждал небывалое. И был среди них – людей – еще кто-то, Тот, которому всё возможно. Тот, без которого не может быть Победы. Торжества добра и красоты. Жизни и бессмертия. Это Всемилосердный Бог шел с ними. Он был солдатом Бессмертного полка. Их однополчанином.
Так им казалось в тот день. Так они верили. И так было…
В День Победы шёл по Невскому проспекту торжественным маршем Бессмертный полк. Невозможно было сосчитать его солдат: в нём и живые, и мёртвые.
И все живые.
И я шёл в той парадной коробке, шёл с ними, высоко подняв над головой портрет отца в новенькой необмятой шинельке.
Отец мой встречал прущие танки немцев и бил их в упор из сорокапятки. Когда все «тигры» и «пантеры» были сожжены и подбиты, а русские орудия (пушечки, пущёнки) уничтожены, выведены из строя, тогда между уцелевшими танкистами и артиллеристами возникали рукопашные. Раненые, контуженые, окровавленные, только что горевшие, ошеломленные, они поднимались из своих укрытий, оставив дымящие, спекшиеся массы металла, бывшие только что смертоносными, чудовищными, неуязвимыми машинами, бросали расколотые щиты от пушек, заваленные песком и землей укрытия, воронки и ямы с водой, которую они хлебали, как животные, и как животные выли от боли и страха, но они поднимались из последних сил, чтобы кинуться друг на друга с утробным ревом, остервенело резаться на ножах, биться на кинжалах, рвать зубами и ногтями, душить, простившись с жизнью, чувствуя ненависть, испытывая одну мысль: убить врага, уничтожить врага, и в том черпая силы.
Отец рассказывал, что простился с жизнью сразу, как только попал на передовую, когда их в бой погнал лейтенантик, повел умирать, чтоб так послужить Родине, так, как его учили, и как он понимал свой долг на войне. Лейтенант повел на немецкие пулеметы толпу новобранцев, вооруженных кто мосинской трёхлинейкой, кто деревянной палкой. Но нет, не толпу он поднял в атаку, а уже войско. Они не струсили, не побежали, не начали панически сдаваться, а все там и полегли, как шли, цепями, и лежали рядышком, как по линейке, в полный рост, во главе с командиром своим лейтенантиком, заплатившим за военную неопытность и глупость многими чужими жизнями и своею — единственной. Он лежал мешком в первой цепи, выбросив вперед руку с разряженным ТТ. Лейтенант умер героем. Как и хотел.
Отца отбросило взрывом, посекло осколками и сильно контузило. Он повалялся по госпиталям несколько месяцев, а потом был послан на артиллерийские курсы, откуда вышел командиром батареи с двумя кубарями на погонах. Он часто говорил, нехорошо усмехаясь, что в том страшном бою его чуть не убили наши, — они лупили из пушек без разбору по тому переднему краю, где уже лежал полк русских солдат, расстрелянных в упор. Но тогда, в начале, он был рядовым необученным, как и остальные погибшие его однополчане, все добровольцы из Второй дивизии народного ополчения, которой затыкали дыры фронтов и всю погубили.
Отец пришёл на сборный пункт военкомата 23 июня, а еще вчера было воскресенье, и они, уже настоящие инженеры, отмечали в Териоках защиту дипломов, с девушками и вином. Загорали на пляже, купались в заливе, пили вино, девушки капризничали, просили воды охладиться и хмелели на глазах. Кто-то из них, кажется, Николай, или Иван Рытый (Ванька погиб в первом своем бою, не сделав выстрела, а Николай, числясь на фронте, разбился по пьянке на мотоцикле, войну провел в госпиталях, не давая срастись раненой ноге, а после, скрипя желтым ортопедическим ботинком, рассказывал с жаром, как он воевал, — теперь ветеран и инвалид войны, получивший от государства «Запорожца», дачный участок в Зеленогорске и самую большую по тем временам пенсию), кто-то из них бегал за бутылками с тёплой, противной, щекочущей горло водой, за которыми надо было стоять в очереди под солнцем, а потом открывать их одним щегольским движением ножа и хохотать притворно, специально обливая гладкие ноги девушек шипящей жидкостью. Девушки были из Первого медицинского, где с ними ребята познакомились на танцах.
В то воскресенье девушки не думали о войне. Война, смерть, страдания были где-то далеко и не могли их касаться, сейчас было лето, воскресенье, музыка и мальчики, которые могут стать их возлюбленными, мужьями, от них родятся здоровые красивые дети, и пусть они немножко поревнуют, чуточку, понарошку, и если бы не было войны… И если бы не было войны, в то веселое воскресенье не прозвучало бы по радио обращение Молотова к советскому народу, не прошел бы германец от моря до моря, не держал бы в Блокаде Ленинград, и не пронесся бы по стране кровавый вихрь. Если бы не было войны, другая получилась бы жизнь у этих парней и девушек, приехавших в Териоки на скрипящей электричке.
Воскресенье перешло в вечер и тихо угасло, превратившись в теплые светлые сумерки — прозрачные белые ночи. Они слушали пение соловьёв, мечтая под их резкие клики и серебристые удары, ехали в медленной электричке, полной такими же парнями и девушками, с пустыми чемоданчиками под лавками и на коленях, в которых еще оставался запах колбасы и хлеба, девушки клали головы им на плечи и смотрели в окна. За ними бежали жидкие леса, покрытые молодой светлой зеленью, и на стекле отражались они, и будущее вставало перед глазами.
В этом нарисованном на стекле будущем все были живы — и Николай, и Иван Рытый, и другие их мальчики, и они сами, ушедшие на фронт военврачами и погибшие, или умершие в Блокаду, не выдержав голода, или попав под бомбежки и артобстрелы. В этом будущем без войны они жили так, как в настоящем, не умея иначе, принимая за счастье будни с тяжёлым и скучным трудом ради куска хлеба и весёлые праздники, когда гуляет коммунальная квартира в сладком запахе пирогов, буйно веселится, и кто-то плачет в углу. Центром этой странной и малопонятно устроенной жизни был бы он, возможно, вот он, на чьё плечо она положила голову. Вот его сильное тело, его запах, от которого кружилась голова больше, чем от вина, его глаза, зоркие, властные и нежные, обещающие погрузить её в долгое счастье, его верное сердце и ясный ум. И нет никакой смерти рядом с ними, ведь всегда умирают другие, и что из того, что девушки были медички и хорошо знали, что такое смерть. Но будущее оказалось не таким, каким отражалось оно в оконном стекле, мешая сладостный мираж с отлетающими назад призраками жидких лесочков, окрашенных по верхушкам берез и осин, елей и сосен в горящий рыжий перманент садящимся солнцем, что било с запада в затылок и щёку. Но пока они видели волшебные фантомы в оконном зеркале, и были вполне довольны неясными картинками, даже счастливы в те короткие мгновения, пока их везла электричка, продутая через открытые окна и двери насквозь ветрами, несущими на своих крыльях цветущие леса и крики птиц.
И была там одна, в завитушках, с модной завивкой, такой причёсочкой, с гладким золотистым телом. Пахло от нее парным молоком. Она и работала на молочном заводе в цехе, где делали сыры, и отец иногда говорил к чему-то, наверное, к ходу своих мыслей, что самое вкусное в сыре его спелая корочка. Он мог застыть вдруг, чуть заметно улыбаясь, думая, что мажет маслом хлеб или продолжает говорить с женой, но он уже был в том воскресенье, окутанном зеленым дымом июньской зелени, накрытым прозрачным пологом белой ночи, соловьиной ночи, последней перед великой войной. Он смотрел туда и видел ту девушку с завитушками, в белом коротком платье и парусиновых туфлях с оранжевым чемоданчиком в руках, в котором у неё были полотенце, купальная шапочка и что-то еще, завернутое в чистую ткань, и сыр, ароматный свежий сыр, мягкий ярко-красный шар, который она купила по дешевой цене в их магазинчике при молкомбинате. Девушка со светлым легким загаром, с простым широким лицом, пахнущая не духами, а молоком, с модной завивкой, в белом легком платье виделась отцу. Тогда они пили красное дешевое вино, заедали его черным хлебом и светло-желтым сыром, развалив ножом на крупные доли ярко-красный шар, сначала на пляже, среди серо-розовых валунов и острой, как пики, сизой с изнанки осоки, а потом забрались в лесок, подальше от залива, от веселого чужого народа, сидели на полянке, он видел ее длинные, красивые ноги, она была, наверное, спортсменкой, он не спросил, и круглые колени, он обнял ее одной рукой и прикоснулся губами к шее, а потом поцеловал в щёку… Кричала кукушка, ветер раскачивал деревья. Больше он никогда её не встречал и не интересовался её судьбой.
В понедельник 23 июня отец отправился в военкомат, отказался от брони и был зачислен рядовым в дивизию народного ополчения. Вот этих добровольцев, необученных и невооруженных — отцу досталась винтовка и одна пачка патронов (воевать оружием врага, сказал им политрук, и пошёл прочь, страшно матерясь, скользя кривыми ногами в тяжелых сапогах по красной глине), — погнал командир, сопливый лейтенантик, на пулемёты. В том страшном бою отец выжил, и потом всю войну бил немецкие танки под дых, под башню, прямой наводкой, из пушек сорок пятого калибра (а позже – из зениток, наставив их длинный хобот в лоб «тигру»), которые, на первый взгляд, не могли пробить и толстой фанеры, и кричал от ярости, когда снаряд отскакивал от брони, а следующий выстрел уже делал немец, его была очередь, и ствол его орудия нащупывал русский расчёт, спрятанный за пригорочек, в кустах погуще, нужно было бежать или делать точный выстрел быстрее немца… И он кричал от радости, когда показывался над броней желтый огонек, когда он разгорался, и слышен был треск пламени, и вонь горящей солярки, металла и человеческого тела. Он горел, горел! Из люков ползли гитлеровцы, охваченные этим жёлтеньким огнем и тушили друг друга. Их нужно было уничтожить, всех до единого, расстрелять или, если кончились патроны, сойдясь тело в тело, вперемешку запаленных дыханий, зарезать, задушить, загрызть…
Тот немец возник как из-под земли, выскочил из окопчика или воронки на распаханном войной картофельном поле. Они прыгнули друг к другу, опередил его на одно неуловимое мгновение, на один толчок крови в венах отец, он ударил сверху, с широкого размаха, зная, что сейчас убьет, что кинжал неминуемо пробьет тонкую чёрную ткань униформы, разрежет мышцы, переломит кости, и вопьется в сердце, выпуская жизнь, но кинжал чёрной уральской стали сломался у рукоятки, ударившись будто в камень. Танкист покачнулся от толчка, но сумел нанести ответный удар – неуловимый, смертельный, снизу, от бедра, от него невозможно уйти, такой отправляет в вечность, но осыпалась под немецким ботинком сухая земля, и нога, попавшая в ложбинку, в какую-то ямку, поехала, он чуток оступился, он еще покачнулся, и клинок, вспыхнув голубой молнией, не пошел в сердце, а скользнул по ребрам, вспарывая мышцы. Отец едва успел схватить летящую руку, вывернуть запястье и, вырвав кинжал, ударил. Ноги немца подломились, он рухнул, не крикнув и не застонав. Он умер мгновенно.
Отец упал на него, а когда очнулся, все было кончено – слышались редкие выстрелы, это наши, подбирая трофеи и документы, добивали немецких танкистов. Его перевязали, и он, шатаясь, подошел к мёртвому телу. Отец забрал парабеллум в кобуре, крепкий кожаный ремень хорошей выделки и ножны к кинжалу. Он держал в руках редкий трофей: офицерский кортик танковых частей СС — узкий длинный клинок голубой стали с серебряной адамовой головой и перекрещенными костями. Им он вспорол напитавшийся кровью комбинезон убитого танкиста и понял, почему сломался кинжал: на сердце немец носил портсигар. Кинжал пробил лишь первую крышку, но дальше проникнуть не смог — портсигар был старинный, тяжелый, литой, из вязкого серебра, что добывают в Черных горах. Вместо хорошей сигареты (иногда попадались французские, крепкие и душистые) обнаружил в нём фотографию и короткое письмо. На фото была молодая женщина с пышной прической в летнем открытом платье и прижавшаяся к ней тоненькая девочка, а за ними — каменный дом с цветущим садом. Он, хмурясь, долго смотрел на глянцевый прямоугольник, думая о том, что у него нет такого дома с большим садом и цветником, и что им надо здесь, в нашей простоте и бедности, в наших пустых пространствах, всё равно они нас не победят, зачем они пришли и почему убивают нас, наших женщин, не у всех из них есть такие шикарные платья, а прически навертят еще круче, и зачем они наших детей убивают, вот таких тоненьких девчонок, если они победят, то из их дочерей вырастут такие же красивые и сильные фрау, как на снимке. И эти фрау родят и воспитают таких сильных и смелых солдат, как этот, только что убитый им лейтенант. И они опять придут к нам, убивать нас и наших детей… Поэтому по мирному фашистскому гнёздышку он выстрелил прямой наводкой и с радостью увидел, что не промахнулся, снаряд влетел в дом, разворотив стену, и взорвался внутри, жалобно застонало пианино, вспыхнули книги, из окна вылетел лакированный ящик патефона, и дом вдруг лопнул, как огненный потешный шар рвется в гроздьях праздничного фейерверка, горел сад, цветы в шпалерах цветника и гроздья сирени, высоко к небу поднялся густой столб чёрного дыма, как от того «тигра», который они сожгли, что стоял в десятке метров и невыносимо чадил, славно они этому тигру влепили кумулятивным, его командиром был этот немец с длинным эсэсовским кортиком, он и залёг в той ямке, чудом уцелев из всего экипажа. А в женщину с пышными волосами, обольстительную женщину в открытом платье, в его женщину, и в его девчонку, отец стрелять не стал.
Он захлопнул портсигар и сунул в карман грязных, давно не чиненных, офицерских шаровар. Он встал над убитым человеком, широко расставив ноги, поддерживая правую руку, висящую на тряпке, которую оторвали от куртки какого-то застреленного немца, сделав из нее повязку. Он смотрел пристально, его мучило любопытство, он хотел увидеть этого немца, хорошо разглядеть того, который его хотел убить, но был убит сам, получив в грудь свой же кинжал с мертвой головой. Отец хотел увидеть человека, которого лишил жизни, хотя это был не первый фашист, убитый им в бою… Но он, сам того не желая, только что увидел его жену, и дочку, и дом, в котором они жили, не ругаясь, без пьянства, читая книги, жена музицировала на пианино, девочка играла в саду… И вот он лежит у его ног, на спине, переломившись в пояснице, запрокинув голову и подвернув под тело левую руку, смотря в дымное небо. У лейтенанта были русые волосы, сейчас измазанные в земле и песке, и сильное лицо, чёрное от танковой копоти, сквозь неё была видна мраморная белизна кожи и крупные, резкие черты, выдающие прямой и жёсткий характер. Этот немецкий парень был герой и прирожденный победитель. Отец наклонился над телом, стараясь заглянуть в глаза, но в последний момент передумал и, круто повернувшись, зашагал по разбитому картофельному полю в расположение разгромленной батареи сорокапяток, ища своих —живых и мёртвых.
Сергей Шевчук



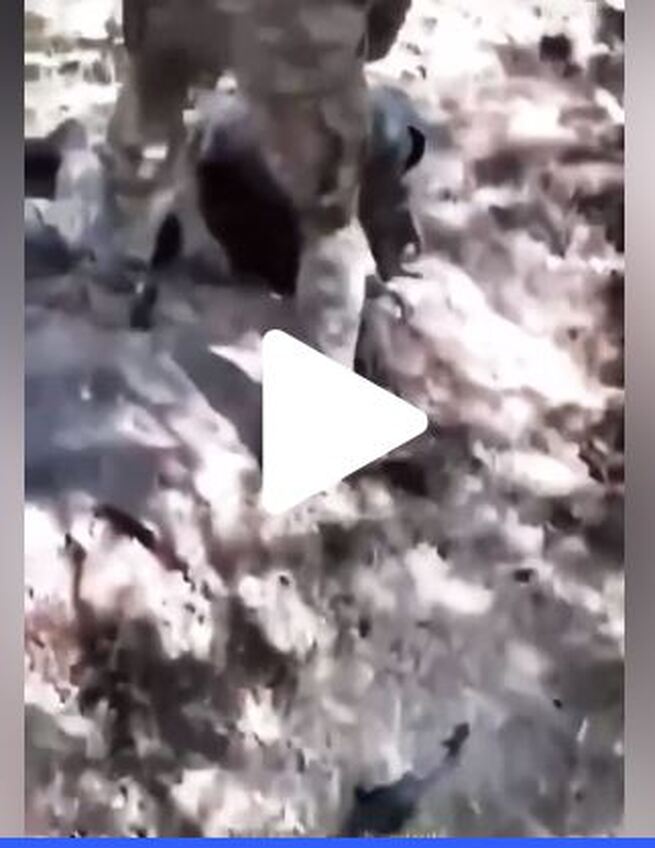

Оценили 0 человек
0 кармы