Черкасы Курской и Белгородской областей. Казаки ли они?
Смутное время настало на Руси к 1610 году. Сергей Фёдорович Платонов (16 (28) июня 1860, Чернигов, Российская империя — 10 января 1933, Самара, СССР) — русский и советский историк, педагог. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 5 декабря 1909 года по Историко-филологическому отделению, действительный член Российской академии наук с 3 апреля 1920 года.
Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1882). В 1888–1927 годах преподавал русскую историю там же, с 1899 года — профессор. Автор работ по события второй половины XVI — начала XVII веков. Автор работ по истории земских соборов, колонизации Русского Севера, биографических очерков об Иване Грозном, Борисе Годунове, Петре I.
В 1930 году был арестован по «академическому делу», в 1931 году сослан в Самару, где умер. В 1967 году реабилитирован, в 1968 восстановлен в звании академика АН СССР.
Сергей Платонов о тех временах писал так: «Около Москвы по-прежнему стояли два врага, и по-прежнему Московскому государству с обеих сторон было тесно».
Под врагами следует понимать Лжедмитрия II «Тушинского вора», а враг номер два польская армия, которой командовал Станислав Жолкевский. И тесно им было, потому что лагерь «Тушинского вора» был заполнен всяким сбродом охочим до грабежей и предателями разного рода, а полской армии было много. Кто же мог противостоять им на Руси? Ответ горек, никто! Царь Василий Шуйский не пользовался авторитетом, не имел поддержки, замены ему не было видно ни вблизи, ни на политическом горизонте. Древнее государство Рюриковичей находилось под реальной угрозой исчезновения с карты Мира того времени.
На юге и юго-западе Царства Московского были города «от Литовской украйны» на верховьях Днепра и Десны. Севернее были так называемые «Заоцкие города», старинное достояние южнорусского княжеского рода, подпавших затем под литовскую власть и перешедших к Москве на рубеже XV и XVI веков. Вместе с городами украинными и рязанскими эти города в XVI веке обращаются уже не против Литвы, а против набегов татар. С приобретением Москвой Смоленска и северских городов берега Угры и верхней Оки стали безопасны от нападений со стороны Литвы, но в то же время не были хорошо закрыты от нападений татар. Здесь страх от литовцев сменился боязнью крымцев, южнее были только города «от Поля» или польные грады.
Под именем заоцких городов разумелись города, кроме главного и крупнейшего города Калуги, города Воротынск, Козельск, Кременеск, Лихвин, Медынь, Мещовск (Мезецк), Мосальск, Опаково городище (с Юхновым монастырем), Перемышль, Серпейск. Все это были небольшие городки, но они лежали в краю давно населенном, довольно плодородном и не лишенном торгового оживления мест.
Через Серпухов и Боровск было сухопутное сообщение с Москвой; по Оке и притокам Десны возили товары и сплавляли лес в Замосковье и на Северянские земли. В военном же отношении большое число заоцких укрепленных городов объясняется тем, что они прикрывали собой подступы к реке Угре и переход на линию р. Поротвы (или Протвы).
Значение р. Угры в защите московского центра бесспорно было очень велико: стоит только вспомнить, что именно здесь решился исход татарских нашествий 1480 и 1571 годов: в первом случае татар успели отбить на Угре, во втором – татары, перейдя Жиздру и Угру, дошли до самой Москвы.
Тульские места в то время были областью окраинных городов. Эта последняя область лежала по самой Оке, выше впадения р. Жиздры, и по р. Упе с ее притоками. Она представляла собой узкую полосу земли, протянувшуюся с северо-востока на юго-запад, от Серпухова и Каширы до Карачева и Кром, и прикрывавшую от Поля верхнее и среднее (до Каширы) течение Оки. Здесь были города Алексин, Болхов, Белёв, Дедилов, Карачев, Крапивна, Мценск, Новосиль, Одоев, Орел, Таруса, Тула и Чернь. Сюда же впоследствии причислили и г. Кромы, выстроенный в 1595 году на левом берегу Оки, на реке Кроме, на месте старого Кромского городища. Как среди заоцких городов первое место принадлежало Калуге, так среди украинных главное значение имела Тула. Через нее шла большая дорога от Москвы на Северу и в Киев, через Болхов и Карачев.
Так называемая Московская, или Посольская, дорога направлялась от Тулы же на Мценск, Кромы и Курск; мимо Тулы на Оку проложен был и знаменитый Муравский шлях, поднимавшийся от Ливен по водоразделам к Костомарову броду на реке Упе. Тула была торговым городом: значение ее рынка на московской окрайне было велико не для одного местного населения, но и для временно приходящих на окрайну войск, которые являлись сюда ежегодно для обороны южных границ.
Болхов и Дедилов были укреплены в 50-х годах XVI века, Крапивна и Орел – в 60-х. Существовавшие за эти годы в Поле сторожи были «поустроены», то есть упорядочены и преобразованы в 70-х годах, после татарских нашествий 1571–1572 годов. Все предпринимаемые здесь правительством меры клонились к тому, чтобы запереть для татар пути в центр Московского государства как по левому, так и по правому берегу Оки: Болхов, Орел и Кромы охраняли левый берег, Крапивна и Дедилов усиливали оборону правого берега.
Тем же целям служили и рязанские города: Переяславль-Рязанский, Зарайск, Михайлов и Пронск. С запада городки Венёв, Гремячий и Печерники. На юг от Прони в «Ногайскую сторону» смотрели Ряжск, Сапожок и Шацк. По верховьям Донабыли города Епифань и Данков. Все эти города и обозначались общим именем рязанских.
Окраинные города служили оплотом от крымцев, дороги которых лежали на запад от Дона, на Крымской стороне так называемого Поля, Рязанские города охраняли Русь по преимуществу от Ногайской стороны, против нашествий с юго-востока ногайских отрядов. По этой причине в продолжение всего XVI века Рязанский край имел характер военного округа. Главный город края – Переяславль-Рязанский представлял собой сильную крепость; Зарайск с 1533 года имел каменные стены, и все прочие города были укреплены
По Оке и Москве-реке через Коломну к столице «добре много» шли из Рязани хлеб и другие припасы; в Смутное время на продовольствие из Рязани рассчитывали все стороны, действовавшие под Москвой. Были у Рязанского края и торговые сношения с южными местами, причем, разумеется, главное значение имел донской путь. На Дон ездили из рязанских мест или по рекам Проне, Ранове и Хупте на Ряжск и Рясское поле в реки Рясы и Воронеж или же сухим путем на донскую пристань Данков.
Для отражения врага строились крепости и устраивалась укрепленная пограничная черта из валов и засек, а за укреплениями ставились войска. Для наблюдения же за врагом и для предупреждения его нечаянных набегов выдвигались в Поле за линию укреплений наблюдательные посты – сторожи и разъезды – станицы. Вся эта сеть укреплений и наблюдательных пунктов мало-помалу спускалась с севера на юг, следуя по тем полевым дорогам, которые служили отрядам татар, по сакмам и шляхам.
Преграждая эти дороги засеками и валами, затрудняли доступ к бродам через реки и ручьи и замыкали ту или иную дорогу крепостью, место для которой выбиралось с большой осмотрительностью, иногда даже в стороне от татарской дороги, но так, чтобы крепость командовала над этой дорогой. Каждый шаг на юг, конечно, упирался на уже существовавшую цепь укреплений; каждый город, возникавший на Поле, строился трудами людей, взятых из других окраинных и «польских» городов, населялся ими же и становился по службе в тесную связь со всей сетью прочих городов. Связь эта устанавливалась всем складом полевой порубежной жизни.
По определению «Книги Большому чертежу»: «Свиная дорога от Рыльска до Болхова», «дорога Бакаев шлях», которая «на Свиную дорогу пришла из-за Семи реки», и «Пахнутцова дорога промеж (рек) Лещина и Хону от реки Семи в Мелевой брод».
Выходит, что Бакаев шлях, идя на восток между реками Сеймом и Пслом, на их верховьях сплетался Срединной сакмой с Муравским шляхом. На их соединении впоследствии стояла сторожа, «а видеть с тое сторожи по Муравскому и по Бакаеву шляху в поле верст с семь и до реки до Псла». Но здесь же дороги и расходились, почему место их соединения и называлось «на Ростанех».
Бакаев шлях отходил от Муравского на северо-запад, и его направление в этой части определялось так: «Сакма татарская лежит с Изюмской и с Муравской сакмы промеж Думчей курган и реки Псла к Семи пузатой в Курские места».
Приблизительно здесь же отделялась от Муравской дороги и Пахнутцова дорога, а именно на верховьях Донецкой Семицы, по левому берегу которой она и уходила на север к реке Сейму. Идя по Бакаеву шляху на Свиную дорогу, переходили через р. Сейм «под Городенским городищем ниже Курска верст с 40», а идя Пахнутцовой дорогой, переходили Сейм выше Курска тоже верстах в 40 от него. Располагая такими данными, московское правительство устраивает надзор за всеми этими дорогами из Мценска, Карачева, Рыльска и вновь устроенного в 1566 году города Орёл, по указанию Ивана Грозного для охраны южных границ Руси.
Из Орла сторожи стерегут и узел дорог на Молодовой, и известные нам броды на Сейме, и Быстрый брод на Оке. Не довольствуясь этим, к концу XVI века на дорогах ставят города Кромы, Курск и Белгород. Кромы построены были между Свиной (Бакаевой) и Пахнутцовой дорогами впереди соединения их на Молодовой; новый город прикрывал собой и подступы к Молодовой и дальнейшие пути от Молодовой к Карачеву и Болхову; в этом было его военное значение.
Задачей Курска, поставленного среди тех же татарских дорог, было защищать переправу через Сейм, а Сейм был главной естественной преградой на этих дорогах. Наконец, Белгород был поставлен вблизи тех мест, где отходили от Муравского шляха дороги и Бакаева и Пахнутцова; закрывая Муравскую дорогу, он закрывал и переходы с нее на две прочие, служа таким образом ключом ко всем им. С построением Белгорода путь к заоцким городам, можно сказать, был совсем заперт: все сакмы с Поля к верхней Оке перешли в черту государства.
Вот так поступательно к 1600 году Царство Московское продвигалось на юг в свои стародавние пределы осваивая и укрепляя новые территории. На очереди было новое освоение берегов реки Псёл.
На западе опорой для этого дела была так называемая Севера – старые города по реке Десне и нижнему Сейму. Эти города и составляли последний район московского юга. Приобретенные в 1503 году от Литвы, не раз бывшие ареной борьбы, они носили определенный отпечаток боевой жизни. Занимая течение двух крупных рек, Десны и Сейма, они делились естественным образом на две группы: городов по Десне и городов по Сейму. На Десне стояли: Брянск, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов и Моравск. Все они имели значение крепостей, обращенных на Литву. Впереди них, еще ближе к литовскому рубежу, расположены были Мглин, Почеп и Стародуб, а также мелкие острожки и замки вроде Дрокова (Дракова) и Поповой горы. Это была одна группа городов.
Другую составляли Путивль и Рыльск, расположенные на Сейме и обращенные к Полю, на которое они высылали сторожи против татар. На татар же был обращен и Севск с Комарицкой волостью, ему принадлежавшей; хотя он находился в области Десны, а не Сейма, но он был укрыт от Литвы лесами, шедшими по Десне от Брянска, и смотрел на Свиную дорогу, которой пользовались татары.
Область северских городов отделялась от Смоленской большими лесами. Сообщение Северы со Смоленском было через Брянск и Рославль; но тот же Брянск близок был к Козельску, Карачеву и Белёву и связывал Северу с заоцкими городами. В этом заключалось его значение. Южнее первое место принадлежало Путивлю: в XVI веке он был одинаково близок и к «дикому полю», и к литовско-польскому рубежу. Почти у стен Путивля сходились московская и польско-литовская границы и между ними клином к Путивлю врезывалось Поле, еще не освоенное ни тем ни другим государством. Такое положение, лицом к лицу с двумя врагами, придавало Путивлю особенную военную важность: недаром он имел каменную крепость и считался главным городом края. Из прочих городов крупнейшими были Чернигов, Стародуб и Новгород-Северский. Через Северу пролегали дороги, соединявшие московский центр с Киевом и Польшей; Севера имела торговое значение, так как была богата лесом и медом, торговала коноплей, имела каменоломни по рекам Нерусе, Усоже и Свапе, где добывался «жерновой камень».
Несмотря на опасности, на всем пространстве укрепленной границы живет и подвигается вперед, все южнее, русское земледельческое и промышленное население; оно не только без разрешения, но и без ведома власти оседает на новых землицах, в своих «юртах», пашенных заимках, бортных и зверопромышленных угодьях. Стремление московского населения на юг из центра государства было так энергично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитой поселенца была уже не засека или городской вал, а природные «крепости»: лесная чаща и течение лесной же речки. Недоступный конному степняку-грабителю лес для русского поселенца был и убежищем, и кормильцем.
Рыболовство в лесных озерах и реках, охота и бортничество привлекали поселенцев именно в леса. Один из исследователей заселения нашего Поля (И. Н. Миклашевский), отмечая расположение поселков на окрайне по рекам и лесам, справедливо говорит, что «русский человек, передвигавшийся из северных областей государства, не поселялся в безлесных местностях; не лес, а степь останавливала его движение».
Таким образом рядом с правительственной заимкой Поля происходила и частная. И та и другая, изучив свойства врага и средства борьбы с ним, шли смело вперед; и та и другая держались рек и пользовались лесными пространствами для обороны дорог и жилищ; тем чаще должны были встречаться и влиять друг на друга оба колонизаторских движения. И действительно, правительство часто настигало поселенцев на их юртах; оно налагало свою руку на вольно-заимочные земли, оставляло их в пользовании владельца уже на поместном праве и привлекало население вновь занятых мест к официальному участию в обороне границы.
Оно в данном случае опиралось на ранее сложившуюся здесь хозяйственную деятельность и пользовалось уже существовавшими здесь общественными силами. Но вновь занимаемая правительством позиция, в свою очередь, становилась базисом дальнейшего народного движения в Поле: от новых крепостей шли далее новые заимки. Подобным взаимодействием всего лучше можно объяснить тот изумительно быстрый успех в движении на юг московского правительства.
В борьбе с народным врагом обе силы, общество и правительство, как бы наперерыв идут ему навстречу и взаимной поддержкой умножают свои силы и энергию.
Чем южнее уходили в «дикое поле» московские войска, тем менее, правительство могло рассчитывать на поддержку вольных колонистов, которые за ним уже не поспевали, и создавались штаты городских гарнизонов и пограничной стражи. Различие не только в степени населенности, но и в самих типах населения очень заметно между городами, ставшими на исстари населенных местах, и городами, построенными на новозанятых землях.
Более северные города изучаемой полосы приближаются, по составу своего населения, к военным городам, стоявшим на самой Оке и на литовской границе. В массе их жителей преобладает служилый люд со своими дворниками; но рядом есть посад и торг, есть люди, живущие от промысла и торговли. Город окружен густой сетью поместных владений, в которых видим обычную картину хозяйства, основанного на крестьянском труде. Поместья эти, судя по окладам, принадлежат не мелкопоместному люду; в его среде находим все статьи: и выбор, и дворовых, и просто городовых детей боярских.
Не то в городах новых, основанных по стратегическим соображениям на таких местах, где раньше не было прочных поселков и сколько-нибудь заметного оседлого населения. Здесь, на «диком поле», господствует в городах сообщество под именем «приборных» людей: стрельцов, атаманов, казаков, ездоков, сторожей, вожей и детей дворянских.
Служилые люди по роду своих обязанностей, они были земледельцами не только на своих, от правительства им данных вблизи города землях, но и на казенной государевой десятинной пашне, которая иногда с лихвой заменяла им боярскую пашню московского центра. Прикрепленные к государевой службе и к своей стрелецкой или казачьей слободе, эти люди вовсе не были похожи на служилых людей центральной полосы. Дети боярские были среди них в роли их начальников и руководителей, или же как высший привилегированный слой. Обыкновенные среднего разбора дети боярские были крупными и льготными землевладельцами по сравнению с украинными людьми, которых можно лучше всего определить как вооруженных земледельцев, обязанных государству не только ратной службой, но и земледельческим трудом.
По недостатку в новых местах, дети боярские, верстались из казаков. Служилые казаки, и не меняя своего названия, получают поместья, но меньше детей боярских.
Новый город Городенск на Венёве, или Венёв, в 1572 году имел 77 дворов крестьян и иных людей, «которые садилися на льготе ново» и должны были образовать посад. Почти столько же было жилых дворов черных людей и в другом новом городке – Епифани. В прочих число посадских тяглых дворов не превышало трех-четырех десятков. Некоторые же старые города к середине XVII века уже вовсе лишились посадов. По воеводским отпискам 1651 года, в Алексине, Козельске и Мценске совсем не было посадских людей; в Пронске их не видно уже в конце XVI века. Зато вырастал в них служилый элемент.
Во всех этих городах были стрельцы и прочие гарнизонные люди, а со времени переустройства сторожевой службы на Поле, с 1571 года, в эти города усиленно вербовали казаков. Приказная справка 1577 года определяла для каждого города необходимое число казаков: для Шацка 150, Ряжска 200, Епифани 700, Дедилова 500 и для других. Происходило превращение старого города в постоянный лагерь пограничной милиции под давлением военных мероприятий, направленных на лучшее устройство народной обороны. Все эти казаки, казаки русские, то есть стрельцы стремянные, конные.
Казачество на «диком поле» и украйнах
На среднем и нижнем течении Волги, Дона, Северного Донца и на всех левых притоках Дона так же, как и на нижнем Днепре, хозяйничала иная среда – загадочная, хотя и очень известная среда «польских», полевых, казаков. С государственных земель Москвы и Речи Посполитой на юг, к Черноморью, через линии пограничных укреплений постоянно просачивалось население, выжимаемое тисками того общественного порядка, который в обоих государствах одинаково приводил к закреплению за льготным землевладельцем земледельческого класса. Попадая на Поле, выходцы из государства не бродили поодиночке, а соединялись в группы с вожаками во главе. Эти соединения совершались по известным, жизнью выработанным обычаям и обращали выходцев в военные товарищества, или бродившие по Полю с реки на реку и с дороги на дорогу, или оседавшие где-нибудь в безопасном и удобном месте на постоянное житье. Польско-литовское правительство еще в середине XVI века успело взять в свои руки часть таких казачьих поселений по Днепру; московское же правительство только к концу столетия стало твердой ногой на верховьях Дона и Северного Донца – в области, где жили и действовали казаки. Но ни та ни другая власть не были в состоянии ни остановить отлив населения из государства, ни распоряжаться его размещением на новых местах, ни направлять, наконец, в интересах государственных деятельность казачества. Неуловимые в необъятных пространствах «дикого поля» благодаря своей большой подвижности, казачьи отряды, станицы по тогдашним выражениям, «казаковали» или «гуляли», где и как хотели. Они искали себе пропитание охотой, рыболовством и бортничеством в своих хозяйственных заимках, юртах, или на временных остановках, станах. Они держались на речных путях и полевых сакмах с целью простого разбоя и грабили не только торговые караваны, но и государевых послов или послов иностранных, ехавших в Москву. Они проникали на юг и восток к границам ногайских, татарских и турецких поселений и грабили «басурманов», уводя от них полоняников, за которых потом брали выкуп. Они, наконец, предлагали свою службу правительству и частным лицам, составляя из себя особые отряды со своими атаманами и есаулами, которых они избирали сами из своей среды или к которым поступали под начальство по «прибору», то есть по вербовке.
До половины XVI века вся эта масса гуляющего люда на московских окраинах пребывает в состоянии полного брожения: у казачества не заметно ни внешних центров, ни общей организации. Московское правительство хорошо не знает, много ли «людей на Поле», и какие это люди, и можно ли безопасно ехать через Поле. В середине же XVI столетия на Поле происходит некоторый перелом: выселение из украйн на «дикое поле» принимает большие размеры, и казачество начинает скучиваться в некоторых местах в значительные организованные скопища. В 1546 году из Путивля доносят в Москву: «Ныне, государь, казаков на Поле много, и черкасцев, и киян (то есть малороссийских), и твоих государевых: вышли, государь, на Поле изо всех украйн». В 1549 году обнаруживаются уже казачьи городки на Дону «в трех и в четырех местах», из которых казаки громят ногайцев. В то же время они у ногайцев, по словам последних, «Волги оба берега отняли»; на Волге – по крайней мере в 60-х годах XVI века – действительно были казачьи городки. В 80-х годах казаки проникли и на Яик, где их считали сотнями. На Дону же в эти годы уже образовался постоянный центр низового казачества – так называемые Раздоры, городок на слиянии Дона с Северным Донцом. Выше Раздор на Дону были и другие казачьи городки, но они не пользовались таким значением, как городок в Раздорах. Они принадлежали «верховым» казакам, которые жили и бродили, так сказать, внутри Поля, питаясь мирным промыслом или случайными грабежами. Раздоры же были сборным местом «низового» казачества, которое действовало главным образом против «басурман» и прежде всего против Азова. В сущности своей эти действия сводились к пограничной войне и к разбойничьим набегам, целью которых было взять «полоняников» и пограбить «живот»; сами казаки говорили, что они живут выкупом, который получают за пленных: «И нам вперед как на Дону жить, что уж вперед у нас полоняников окупать не станут?» Тем не менее низовые казаки считали себя защитниками государства и Русской земли от неверных и гордились такой своей службой пред верховыми казаками, говоря, что «верховые же казаки государевы службы и не знают». Соблазняясь теми выгодами, какие получало государство от существования на его границах даровой стражи от татар и ногаев, московское правительство поддерживало подобные взгляды низовых казаков. Оно вступало с ними в сношения, посылало им даже боевые припасы и давало служебные поручения, например конвоировать государева посла от Азова «до Ряжскаго города меж себя город от города». Говоря им: «Холопи вы государевы и живете на государевой вотчине», оно приглашало их к послушанию и порядку, требовало, чтобы они «жили в миру» с Азовом и чтобы «промышляли государевым делом» – охраняли украйну от татарских и ногайских набегов. В 1592 году правительство даже пыталось взять низовых казаков под постоянный надзор и послало в «головы» к «войску» в Раздоры сына боярского Петра Хрущева, с которым казаки должны были «послужить». Но казаки дали отпор этим покушениям на их вольность и не приняли Хрущева, говоря, что «прежде сего мы служили государю, а голов у нас не бывало, а служивали своими головами». Когда же в 1604 году тот же П. Хрущев вторично был прислан царем Борисом отговаривать казаков от соединения с самозванцем, то казаки просто-напросто отвезли его самого к самозванцу как своего пленника. И вообще низовые казаки мало повиновались московским внушениям, ибо Москва, еще не овладевшая «диким полем», не была страшна его вольному населению.
На приволье «дикого поля» легко можно было укрыться от всякого врага и избежать всякого надзора. Если Москва не могла прибрать к рукам казачества, то и вновь возникшие казачьи городки с их выборными атаманами не могли привить дисциплину и порядок, а вместе с тем дать жилище и обеспечение толпам вольницы, бродившим вдали от этих городков. Некоторое устройство получило сосредоточенное в Раздорах низовое «войско»; верховые же казаки, раскинувшиеся на громадном пространстве от Путивля и Белгорода до нижней Волги, жили и действовали в полной разобщенности. Когда число их увеличилось от более энергичного выселения из государства, их юрты и ухожеи уже не могли кормить всего населения, и оно частью обращается к разбою, частью ищет более приглядного промысла. Увеличивается число «воровских» казаков, но растет число и тех, которые обращаются к государству, или просто возвращаясь в оставленную родную среду, или предлагая правительству свою казачью службу. Нередко встречается в документах конца XVI и начала XVII века указание на то, как выходят с Поля в государство бывшие казаки: один «погулял на Волге в казакех, а с Волги пришед пожил в монастыре»; другой «побыл на Поле в казакех у атамана у Ворона у Носа лет с восемь, а с Поля пришел в Новгород проведывати родимцев»; третий, родом из Великих Лук, попал в полон в Литву, из Литвы вышедши, «был на Дону», а затем пришел обратно в новгородские места; четвертый, непрерывно бродя из места в место в Поволжье, много раз менял казачье состояние на батрачество в поволжских городах и уходил обратно в казачьи юрты. Так действовали гулящие люди в одиночку. Обращались они к государству и целыми отрядами. Во второй половине XVI века, как мы не раз уже видели, правительство московское на «диком поле» и в понизовых городах деятельно устраивало оборону вновь завоеванных и занятых местностей. Для крепостных гарнизонов и пограничной милиции оно нуждалось в людях и «прибирало» их отовсюду, откуда могло. Охотно оно принимало и само звало на свою службу и полевых казаков. Еще в XV веке бывали казаки в московских войсках, а в XVI они состояли на московской службе в громадном количестве. В каждом южном городке в составе гарнизона были казаки, обеспеченные поместьями или кормовыми и денежными дачами. Там, где «гулящих» людей прибирали в казаки поодиночке, они служили под начальством голов и сотников, назначаемых от правительства; там же, где казаки взяты были на службу целыми отрядами, у них были свои атаманы. Этим атаманам правительство поручало и дальнейший прибор казаков. Таков был «атаман польский» Михайло Черкашенин, имя которого прославлено даже в песне.
В 1570 году Михаил Черкашенин был избран донским войсковым атаманом. В это время у него и возглавляемых им казаков сложились хорошие партнерские отношения с московским государем Иваном IV. В грамоте от 3 января 1570 года царь Иван Грозный поручил казакам атамана Черкашенина проводить от Рыльска до донских зимовищ и к Аксаю русского посла в Константинополь Ивана Новосильцева. (Путешествия русских послов ХУ1-ХУП вв. С.65). В этой грамоте государь призывал казаков «послужити нам, царю, а мы вас, казаков, за вашу службу жаловать хотим». (Лунин Б.В. Очерки Подонья-Приазовяь. Кн.2. С.13). Условия были приемлемы, и Черкашенин с отрядом донцов проводил царского посла до аксайского устья под старинное Кобяково городище (между нынешним Ростовом-на-Дону и Аксаем), откуда начинались контролируемые турками и татарами земли. С тех пор у донцов установились взаимовыгодные отношения с царем Иваном Грозным, и именно с этого времени донские казаки начали регулярно получать «государево жалованье», состоявшее из денег, пороха, свинца, селитры, ядер, ружей, хлеба, вина.
Мы видим его с казаками в 1572 году на государевой службе в Серпухове в большом полку, и узнаем, что испомещены они между прочими в Рыльском уезде. И тот же Мишка Черкашенин поднял донских казаков на Азов за то, что крымский хан казнил его сына Данила: «Казаки донские (говорил хан) за Мишкина сына Азов с отцом (то есть с самим Мишкой) взяли и лучших людей у меня взяли из Азова 20 человек, да шурина моего», и всех их казаки хотели было отдать в обмен за Мишкина сына. Так велико было влияние атамана, который действовал и на «берегу», на Северских землях и на Дону. С помощью таких-то вожаков, выдвигаемых степной жизнью, московское правительство и могло привлекать на свою службу бродячие станицы казаков.
Когда в 1591 году готовился поход на Терек и Койсу, правительство рассчитывало собрать в Астрахани более 1500 вольных казаков и для такого числа заранее готовило запасы и жалованье. Через таких же атаманов привлекали на свою службу казаков и частные лица. Известные Строгановы постоянно держали у себя казачьи станицы, и в большом числе: в 1572 году прислали они в Серпухов на государеву службу 1000 казаков с пищалями; десять лет спустя несколько сотен их с Ермаком послали они за Камень. Были казаки на службе и у бояр в вотчинах – у князя И. Ф. Мстиславского на Венёве, позднее у И. Н. Романова под Калугой.
В 1576 году крымские татары в результате устроенной засады захватилт в плен сына атамана Черкашенина Данилку, надеясь заставить отца отказаться от конфронтации с азовцами. Получив эту скорбную весть, Черкашенин во главе сильного отряда казаков скрытно подобрался к Азову и в результате энергичной атаки сумел овладеть частью его укреплений (Топракалов). Казакам удалось захватить султанского шурина Усеина (Сеина), его свиту из двадцати человек и множество «черных людей» из гарнизона крепости. Однако, выручить сына атаману не удалось. Через некоторое время Черкашенин вновь появился под стенами Азова. Он приволок сюда связанного шурина султана Мурада Ш, предложив азовскому аге обменять его на своего сына Данилку. Какие-то свои соображения и обстоятельства помешали азовскому начальнику произвести обмен, и сын атамана был казнен в Азове, что привело к взрыву кровавой розни между казаками и азовскими турками. Султан в грамоте крымскому хану Девлет Гирею I зло выговаривал своему вассалу, что это он своими непродуманными действиями «меж казаков и Азова великую кровь учинил, …а ведь Азов с казаками, и казаки с Азовом жили, и … у них все было мирно». (Сухоруков В. Историческое описание…- // «Дон». № 7. 1988. С.143). Хан оправдывался тем, что он защищал от казаков свои земли, «свой юрт». Мурад III грубо заметил Девлет Гирею: «А мне…твой Крымский юрт не стоит одного азовского человека». (Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.123. Кн.14. Л.265-265об.).
Во главе 3-тысячного отряда казаков Черкашенин участвовал на стороне царя Ивана Грозного в Ливонской войне 1558-1583 годов., “показывая чудеса храбрости”. По данным Пискаревского летописца в 1581 году знаменитый атаман деятельно участвовал в обороне Пскова от превосходящих сил польского короля Стефана Батория. Несмотря на то, что «заговоры были от него ядром многие», Черкашенин погиб на стенах этого древнего русского города. (Повесть о прихождении Стефана Батория под град Псков. М.-Л.,1952. С.111. По другим данным М.Черкашенин погиб в бою под Старой Рязанью, но это маловероятно). Его гибель была оплакана в русской исторической песне «Смерть Михайлы Черкашенина».
За Зарайским городом,
За Рязанью за старою,
Из далеча чиста поля,
Из раздолья широкого
Как бы гнедого тура
Привезли убитого-
Атамана польского*
А по имени Михайла Черкашенина.
А птицы ластицы
Круг гнезда убиваются-
Еще плачут малы его дети
Над белым телом.
С высокого терема
Зазрила молодая жена,
А плачет, убивается
Над его белым телом
Скрозь слезы свои она
Едва слово промолвила
Жалобно причитаючи
Ко его белу телу:
«Казачья вольная
Поздорову приехали,
Тебя, света моего,
Привезли убитого,
Привезли убитого
Атамана польского,
А по именю
Михайла Черкашенина
(Русская историческая песня. Ленинград, 1987. С.76-77).
Понятие «польский» здесь употребляется в смысле польный, атаман с Поля Дикого.
На Дону еще многие десятилетия помнили о легендарном атамане. Так, в 1632 году, когда царские послы настаивали на принятие казаками присяги на верность Московскому государю, донцы отказались, мотивируя это тем, что атаман Михаил Черкашенин верно служил московскому государю без присяги.
Принимая на себя службу, казачьи станицы должны были обращать свои силы на свою же братию, тех казаков, которые «воровали», то есть жили грабежом на Поле и на реках. Они ловили этих «воровских» казаков и приводили их в города, и сами терпели от них и становились жертвами служебного долга. Однако это не влияло на чувство солидарности, которым связаны были все казаки в одно независимое от государственных порядков товарищество.
С государевой службы можно было отъехать или «сойти» на Поле и рассчитывать на добрый прием в «польских» станицах, снова «почать стояти с ними вместе». Когда из Серпухова в 1593 году сбежал с государевой службы казак и, приехав «назад в войско», стал рассказывать атаманам и казакам, что «на Москве их товарищем нужа великая: государева жалованья им не дают, а на Дон не пускают… а иных в холопи отдают», – то этот рассказ возбудил сочувствие казачества и отвратил многих от службы Москве.
Итак, выросшее численно к концу XVI века казачество еще не объединилось в какой-нибудь правильной организации. Донская община, получившая в XVII веке определенное устройство, в XVI только еще зарождалась; она не захватывала в свой состав не только всех живших на Поле казаков, но даже и всех собственно донских. Верховые донские юрты и городки с казачеством прочих рек и речек жило в розни, даже во взаимной вражде: московские казаки громили черкас, черкасы громили московских, служилые сбивали с речных и степных путей «воровских» казаков, воровские грабили и убивали служилых.
Масса казаческая в хаотическом брожении легко переходила от разбоя к службе государству, от борьбы с басурманами к насилию над своим же братом казаком. Одно сознание личной независимости и свободы от тягла и принудительной службы, одна вражда к «лихим боярам», и отвращение от земледельческого труда, объединяли казаческие толпы, противополагая их служилому и тяглому люду, жившему в государственном режиме.
Казаки возникли на осколках Золотой орды в полугосударственных образованиях, находящихся в вассальной зависимости от Великого княжества Русского Литовского это «Червлёный Яр», «Еголдаева тьма», «Курская тьма», «Княжество Мансура», «Елецкое княжество», «Темниковское ханство» поэтому и отличались, по укладу жизни и обычаям.




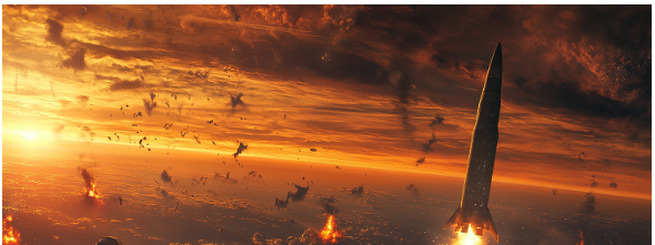
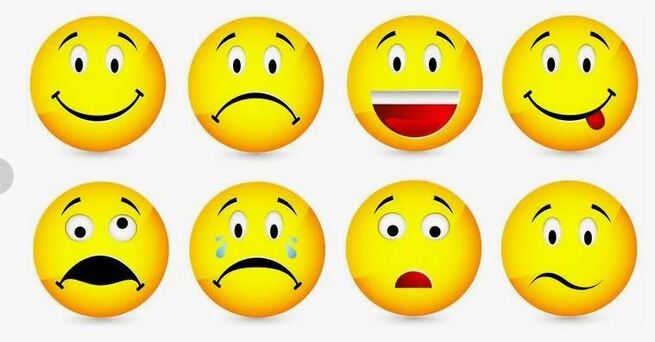
Оценили 2 человека
6 кармы