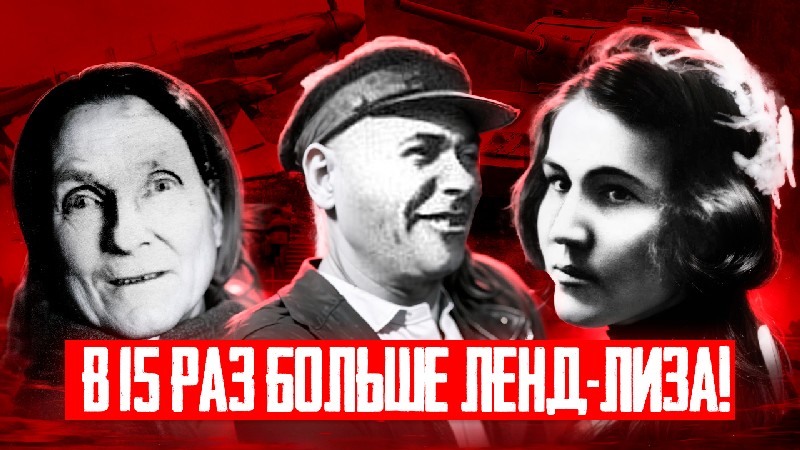
Недавно попался на глаза шортс-видео на интересную тему — «как крестьянин сумел купить в годы войны два самолета».
Его героем стал действительно, пожалуй, один из самых известных, как бы сейчас сказали, советских «спонсоров» военных лет — житель Саратовщины Ферапонт Головатый, купивший для Красной Армии целых два истребителя Як! Правда, поскольку это происходило с промежутком больше, чем в год, модели яковлевских самолетов оказались разными.
От самой первой, Як-1, до самой современной на то время — Як-3, ставшей уже «лебединой песней» таких винтокрылых машин. Ведь вскоре после войны истребительная авиация стала уже реактивной. Вскользь можно заметить, что наибольшее удивление при просмотре этого ролика вызывает даже не сам факт покупки целой истребительной «пары». А то, что это вызвало явное удивление автора сюжета, — ну как же так, обычный колхозник, откуда у него такие деньги?! А, ну да — он же пасечником был, мед продавал, который стоил тогда на рынке свыше 500 (и до тысячи, по другим источникам) за килограмм — вот и появились необходимые средства. А так, конечно, откуда ж у крестьян тогда могли взяться такие деньжищи? Они ж, согласно расхожим либеральным мифам, «находились в колхозном рабстве, получая за каторжный труд лишь палочки-трудодни, на которые могли лишь еле существовать на грани голодной смерти». Но если кто-то из селян имел дополнительный приработок — тогда конечно, могли быть и такие якобы уникальные случаи…
И почему-то мало кто задумывается при этом, — а кто ж этот мед от пасечника Головатого за тысячу рубликов за килограммчик мог покупать? Такие же «нищие горожане, рабочие и служащие», месячные оклады которых в среднем составляли от силы сотни три-четыре рублей? Наверное, просили взвешивать им сие лакомство чайными ложечками — на аптекарских весах, с точностью до десятой доли грамма, не иначе. Ну, или же клиентами будущего «спонсора» ВВС РККА были исключительно какой-нить «криминал». Ах да — как это можно было забыть — и «преступные партократы, жирующие на лишениях простого народа».
***
Если серьезно, то конечно, жизнь простого народа, не исключая и крестьян, накануне войны и с ее началом была отнюдь не такой нище-беспросветной, как ее малюют в антисоветских агитках. В том числе и вышеупомянутая «страшилка» насчет «трудодней», якобы аналога некой «сталинской барщины» — необходимый минимум которых, даже по данным иноагента Википедии, составлял в зависимости от региона, от 60 до 100 дней в году. Будучи несколько повышен лишь с началом войны, — поскольку очень многие работники-мужчины были мобилизованы на фронт. А так, называть «тяжкой барщиной» необходимость участия в коллективном труде аж от раза в 6 дней (кстати, до июля 1940 года календарь в СССР делился именно на «шестидневки») — это, конечно, трэш.
Кстати говоря, при желании колхозникам можно было даже и этот минимум избегать. Причем никакой «сталинский ГУЛАГ» им за это не угрожал — только лишение статуса члена колхоза и возврат имущественного «пая», а также лишения ряда льгот. Ну, так и что — на начало войны в Советском Союзе продолжало существовать свыше 3 миллионов «единоличных» хозяйств! Тем не менее среди тех, кто уже вступил в колхоз, выходить из него множеству желающих, как говорится, «дураков не было». Чтобы снова царапать землю допотопной сохой, что ли, — вместо быстрой вспашки почвы трактором из МТС? А так, с учетом свободного выбора уровня собственного трудоучастия в колхозной работе каждый мог выбирать — ограничиваться лишь этим самым минимумом или зарабатывать побольше. Ведь обязательные поставки продукции государству по фиксированным твердым ценам составляли в среднем около четверти урожая — остальное оставалось колхозу. И после обеспечения колхозных фондов, соцкультбыта и проч. — раздавалось тем же колхозникам. Которые могли, например, продать зерно или там мясо и государству, и потребкооперации, и на рынке, — а могли, например, на полученное паевое зерно откармливать для еще более выгодной продажи домашнюю скотинку. Вот достаточно показательная цитата на этот счет:
«Муж Матрены Яковлевой (уроженки села Буб Сивинского района Пермского края) ушел на фронт, и от него долго не было вестей, приемный сын — своих детей у пары не было — собирался на войну. В начале 1943 года, узнав о жестоком сражении под Сталинградом и о патриотическом почине саратовских крестьян, она решила тоже, как может, помочь бойцам. Продала все свое немалое имущество — шесть голов скота, включая две коровы, теленка, овцу и двух свиней, а также имевшиеся в доме запасы масла, меда, муки — и на вырученные деньги, 100 тыс. рублей, купила для фронта боевой самолет-истребитель».
В дальнейшем самоотверженная советская труженица прожила 101 год, — уйдя из жизни в 1995 году. А в 2012 году деньги от односельчан собирали уже для нее, чтобы увековечить ее память, — воздвигнув в центре села памятник работы скульптора Алексея Татаринова…
***
Но что да — то да, именно жители Саратовщины в годы войны стали настоящими «рекордсменами» по «спонсорской поддержке» ВВС Красной Армии, — подарив им 1 520 самолетов! Притом что общее количество этих машин, построенных на пожертвование советских людей, составило более 2,5 тысяч штук. Вообще же, благодаря «народному финансированию» был построен еще и каждый шестой танк, 16 катеров, 8 подводных лодок, — не считая другой боевой техники и вооружений. Всего же непосредственный вклад граждан Страны Советов в Фонд Обороны, созданный в конце июля 1941 года, составил по тем временам просто «астрономическую» сумму в 94,5 миллиарда рублей! Притом что, например, весь объем поставок по хваленому ленд-лизу, «без которых мы бы не выиграли войну», согласно еще одной либеральной догме, не превышал 10 млрд. долларов. Согласно курсу Госбанка СССР — чуть больше 6 млрд. рублей. Оно-то, либералы, и над этим курсом не устают изгаляться вот уже десятилетия — вроде тезиса о том, что «Сталин приказал установить его по соотношению стоимости в СССР и США кирзовых сапог». Как будто американский же «индекс Биг-Мака», их «национального» бутерброда с сосиской, чем-то лучше в этом отношении. На самом деле, в сравнении покупательной способности валют разных стран, по которым и устанавливается и курс, и показатели ВВП по ППС, учитывалась не только цена на дефицитную в СССР «клубничку» вроде заокеанских джинсов. Но и стоимость образования, питания, одежды, медицины, коммунальных услуг — и много другого, без чего прожить очень и очень сложно.
Вот и получается, что объем «народного ленд-лиза» превысил таковой у ленд-лиза американского в добрых 15 раз. Понятно, что пожертвования советских граждан состояли лишь из самых крупных сумм — образца упомянутых выше. Хотя, кстати, землячка Ферапонта Головатого, Анна Селиванова, тоже, как и он, пасечница, подарила фронту даже три Яка! Участь второго из них, в отличие от «головатовского», была трагической — его пилот Василий Чибисков из 832-го истребительного авиаполка погиб 2 марта 1943 года в Сталинградском небе. Зато третьему по счету, пилотируемому командиром эскадрильи 431-го ИАП майором Алексеем Суровешкиным, повезло куда больше — к концу войны офицер совершил на нем 517 боевых вылетов, одержал десять побед лично и шесть в группе.
***
А вот Мария Васильевна Октябрьская, овдовевшая после гибели на войне мужа, полкового комиссара, мало того что собрала на покупку танка Т-34 пятьдесят тысяч рублей — так еще лично добилась у Сталина разрешения стать его механиком-водителем! Отучилась для этого несколько месяцев в Омском танковом училище — и с октября 1943 года села за рычаги бронированной машины, названной в ее честь «Боевая подруга» — в составе 2-го батальона 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса. Правда, воевать отважной женщине довелось недолго — уже 18 января 1944 года она в ходе тяжелого боя с немцами получила осколочное ранение глаза, спустя два месяца приведшее ее к смерти, несмотря на лечение в лучших госпиталях. В августе того же года одной из первых женщин-танкисток в РККА (всего их было 19) было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза… Кстати, другая ее коллега, Екатерина Петлюк, уже второй по счету своей машиной имела танк с ласковым именем «Малютка». Построенный на пожертвования детей Омской области в 1943 году, — которые начали поступать от них после публикации в газете «Омская правда» письма от эвакуированной туда с семьей девочки:
«Я — Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевки, Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера, и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танки. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем маленьким детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада».
Собрано тогда было больше 160 тысяч рублей. Наверное, многим детишкам помогали в этом и родители — да, собственно, любые «детские деньги» это по определению чей-то подарок, ведь слава Богу, детский труд в СССР был запрещен. Но тем больше при этом выглядит жертва самых маленьких граждан страны, — потративших свои немногие средства не на игрушки или лакомства, а на достижение как можно более быстрой победы над ненавистным врагом. Судьба «Малютки», легкого танка Т-60, историкам точно неизвестна. Есть и одна версия, что он дошел до Берлина, — и другая, что погиб в бою еще осенью 1943 года. К счастью, боевой путь одной из его механиков-водителей, Екатерины Петлюк, сложился более удачно, — несмотря на три ранения и присвоенную инвалидность 2 группы, она после участия в боях за Киев была отправлена учиться в танковое училище. И после окончания курса, получив звание младшего лейтенанта, была оставлена там командиром учебного взвода. Уйдя из жизни в почтенном возрасте 81 год в 1998 году…
К слову сказать, упоминавшийся в начале статьи Ферапонт Головатый к концу жизни тоже не остался в статусе лишь обычного пасечника. Сначала его, как говорится, «без отрыва от производства» стали привлекать к поездкам по области, — в которых он знакомил земляков со своим почином, убеждая следовать его примеру. В 1944 году его приняли в ряды ВКП(б), — несмотря на то что, как нередко смакуют в изданиях «желтоватого оттенка», «пасечника чуть не отправили в ГУЛАГ, — так как до революции он служил в царском конвое». Так и что — зато в Гражданскую он был командиром эскадрона Красной Армии. А после войны стал председателем колхоза — и Героем Социалистического Труда.
Надо понимать — высшую «гражданскую» награду уроженец Полтавщины, осевший после Гражданской на Саратовщине, получил отнюдь не в качестве некой «взятки» за подаренные РККА в годы войны самолеты. Как раз с благодарностью от страны за оказанные ей услуги в те годы дела обстояли достаточно оперативно — в виде званий, орденов, а то и премий. Самая «денежная» их которых, «Сталинская» первой степени, как раз и составляла 100 тысяч рублей. Конечно же, Золотая Звезда Героя Соцтруда в 1948 году стала ознаменованием успехов Ферапонта Петровича уже на поприще председателя колхоза. А не выполняй он план, запусти общественное хозяйство — ему бы никакие прежние заслуги не помогли бы. Так что его председательская работа тоже была ударной и стахановской. Потому и «сгорел» ударник уже в 1951 году, — дожив всего до не такого уж и преклонного 61 года…
***
Конечно, перечислить все многочисленные примеры индивидуальных и коллективных пожертвований в Фонд обороны от советских граждан в небольшом материале вряд ли возможно. Там ведь были самые разные суммы и цели. И танковая колонна «Дмитрий Донской», построенная за счет средств верующих Русской православной церкви. И самолет Ил-2, на котором было написано «От Леночки — за папу» — на который пошли и скромные 110 рублей, собранные на елку московской первоклассницей Леной Азаренковой, дочерью летчика, погибшего в бою за Родину. Что несколько роднило оба этих случая — незримым напоминанием евангельского эпизода о бедной вдове, которая пожертвовала на храм всего две монеты. Но чья жертва оказалась выше, чем у золота богачей — ибо женщина отдала все, что имела…
Были деньги, отданные для фронта известными учеными, писателями, композиторами. Да, в общем, в Советском Союзе было немало достаточно зажиточных людей — вопреки расхожим либеральным мифам. В кооперативном секторе, уничтоженном лишь при «кукурузнике» и тайном «троцкисте» Хрущеве в 1956 году, производилось несколько процентов от всего промышленного производства — в том числе, например, до 40 % мебели, передовой электроники — как ламповые приемники и даже телевизоры. И где тогда работало тоже несколько миллионов человек. Да и рабочие-«стахановцы», чья доля достигала пятой части от общего числа трудящихся, тоже отнюдь не бедствовали, — получая оклады далеко за тысячу рублей в месяц. Притом что Сталин, как секретарь ЦК партии, имел «на руки» 1 200 — даже поменьше, чем многие академики. А зарплата летчиков-испытателей в предвоенные годы доходила до 30 тысяч рублей в месяц!
Оклад лейтенанта РККА даже в мирное время превышал 600 рублей — командир полка получал в полтора, а дивизии — вдвое больше. С началом войны выплаты еще больше повысились. Включая немалые премии за подбитую вражескую технику и даже за спасенную (или вовремя эвакуированную подбитую) свою, — доходя в обоих случаях до тысячи рублей. А с учетом того, что на фронте денег тратить было особо и некуда — «денежные аттестаты» офицеры часто посылали своим семьям в тылу. Так что деньги у населения были. И никто их принудительно не забирал — разве что в первые дни войны был введен лимит на снятие наличных из сберкасс не больше 200 рублей за раз. Так ведь в «цитадели демократии» и рыночной экономики, США, с началом Великой депрессии полсотни самых крупных банков вообще были закрыты по распоряжению правительства, — чтобы паника со снятием вкладов перепуганными началом кризиса вкладчиками не привела к их мгновенному банкротству. Об этом еще Эптон Синклер в «Автомобильном короле», повествующем о жизненном пути Генри Форда, писал…
А ведь эти немалые денежные средства могли быть пущены куда угодно — в том числе, например, на создание запасов «на черный день», ажиотажного спроса на товары. Одним словом, «для себя и своей семьи, — а не на дядю». Раскручивая спираль инфляции, — которая в реале, в отличие от очень многих воюющих стран с рафинированно-рыночной экономикой, в СССР как-то почти и не отмечалась. Максимум — на десятки процентов по уровню цен и зарплат, — а не в разы и даже десятки раз, как, например, в Румынии в военные годы. Но вместо этого почти сотня миллиардов рублей — 15 % от общих затрат советского бюджета на войну (588 миллиардов) была добровольно понесена людьми в Фонд обороны. Это не считая облигаций государственного займа, лотерей, и других подобных моментов — также пополнивших бюджет на десятки миллиардов рублей.
Право, это тоже является однозначным аргументом, доказывающим высочайший уровень в Стране Советов не только патриотизма, — но и коллективизма, воспитываемых в гражданах Советской Властью. Да, в общем, в виде общинного начала, и так являвшегося основой духовно-культурного кода в нашем народе с незапамятных времен. Вопреки ожиданиям «бывших» образца Краснова-Шкуро, идеологов «белогвардейщины» на то, что «большевистский режим держится только на штыках — и развалится, как только доблестные солдаты фюрера уничтожат Красную Армию». А тут якобы «запуганный и угнетенный» народ возьми — и понеси свои «кровные» для приближения победы над своими непрошеными и незваными «освободителями». На самом деле — лжецами и убийцами, грезившими о порабощении «неполноценных славян», — пошедших в свой «дранг нах Остен» вкупе с примкнувшими к ним предателями.
Только ничего у этой публики не получилось. Благодаря не только военным подвигам солдат и командиров РККА на фронте — и трудовым подвигам тех, кто «дни и ночи у мартеновских печей…». Но и скромному и почти незаметному, но тоже подвигу — жертве и самопожертвованию частью отнюдь не лишних, особенно в годы военного лихолетья, своих законных доходов — в Фонд обороны нашей единой страны от страшного врага…




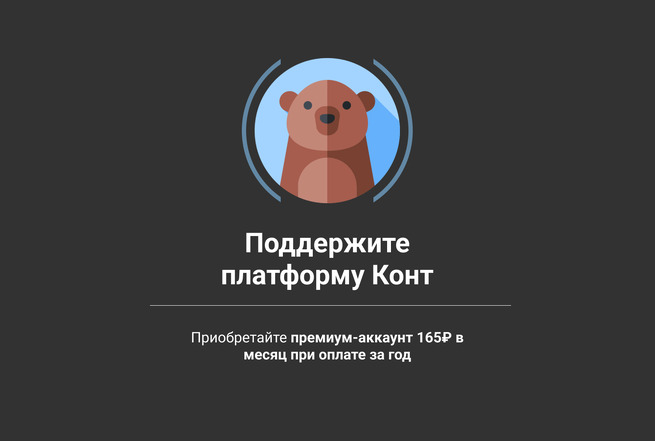

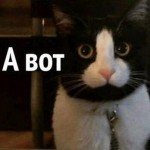



Оценили 10 человек
15 кармы