
Имя Адольфа Гитлера по сей день заслуженно воспринимается синонимом самого страшного злодея за всю историю человечества. Тем интереснее узнать, что в рядах Красной Армии тоже воевал Гитлер, — только носивший имя Семен. Получивший уже в первые месяцы войны медаль «За отвагу». Вообще можно заметить, что однофамильцы самых одиозных «бонз» Третьего Рейха в рядах РККА встречались не так уж и редко. И даже почаще, чем однофамилец собственно «фюрера германской нации».
Как минимум среди награжденных советскими орденами и медалями. В частности, в их числе на сайте «Память народа» можно встретить носителей фамилий Геринг, Манштейн и Бок. Даже и полного тезку немецкого полководца — Федора Бока. Правда, не генерал-фельдмаршала, — а гвардии сержанта, награжденного не всякими там «Железными крестами» и прочими причиндалами, — а куда более почетным Орденом Славы 3 степени. Зато среди орденоносных советских Герингов другой гвардии сержант, Николай Александрович, всего-то 1924 года рождения, был удостоен орденом Славы сразу двух степеней: 2-й и 3-й. Не хватило всего одного, первой степени, — чтобы стать «полным кавалером» этой награды, приравнивающейся в таком случае по почету к званию Героя Советского Союза. Но, похоже, в нашей армии ни таких полных кавалеров, ни Героев среди однофамильцев известных гитлеровцев за войну так и не появилось. Может и правда, потому что до высших степеней почета их подвиги чуть не дотягивали. А может, и действительно из-за того, что командование слегка опасалось представлять к высшим советским наградам даже героев, — но тех, чьи имена ассоциировались с именами злейших врагов нашей Родины — да и всего мира тоже…
Не исключено, что именно последний мотив стал доминирующим и в том, что однофамильца самого известного нациста, Семена Гитлера, 10 февраля 1942 года наградили всего лишь медалью «За отвагу». Безусловно, тоже почетной наградой, дававшейся исключительно за личные подвиги в бою (а не, скажем, «за умелое руководство войсками», как большинство других, в том числе и самых высших орденов), — но все же. Достаточно прочесть текст представления, заверенный 9 сентября 1941 года командующим Приморской армии:
«Будучи наводчиком станкового пулемёта, тов. ГИТЛЕР в течение 8 суток беспрерывно уничтожал своим метким огнём сотни солдат противника. При наступлении на высоту 174.5, тов. Гитлер своим огнём станкового пулемёта поддерживал наступление стрелкового взвода, однако противник, зайдя с тыла, окружил взвод и расстрелял его. Тов. ГИТЛЕР, со своим пулемётом, уже раненный, остался один среди противника, но он не растерялся и вел огонь, пока не израсходовал все патроны, а после чего на расстояние 10 км., ползком, среди противника, с пулемётом, возвратился в свою часть».
Заключение вышестоящих начальников:
«Тов. ГИТЛЕР С.К., будучи наводчиком станкового пулемёта, проявил исключительное хладнокровие, стойкость, храбрость в бою при уничтожении врага. Тов. ГИТЛЕР С.К. прекрасно подготовленный пулемётчик и стойкий боец. Тов. ГИТЛЕР достоин награждения медалью "ЗА ОТВАГУ".
Комендант 82 УРа полковник КОПИН. 19 августа 1941 г.
Достоин награждения медалью "ЗА ОТВАГУ",
Командующий Приморской Армией Генерал-лейтенант САФРОНОВ.
9 сентября 1941 г.»
***
Правда, ряд авторов считают, что относительно низкая по значимости награда была вручена Семену Константиновичу не столько из-за его фамилии, — но и просто потому, что «в первые месяцы войны, исполненных тягостных отступлений, командование воевавших частей вообще старалось поменьше подавать наверх представлений о награждении, — дескать, результатов маловато, за что ж ордена и медали для бойцов просить?». — Что ж, вполне возможен и такой вариант. Не исключено также, что сыграло определенную роль и то, что содержание текста наградного листа, в общем-то, было составлено на основе слов лишь самого пулеметчика. Из фактов только то, что он, раненый, вышел к своим войскам с пулеметом, — притом что занимаемая им прежняя позиция была четко помечена на штабных картах. Хотя, конечно, возможно еще раньше уцелел кто-то из красноармейцев взвода, который, согласно тексту награждения, был уничтожен противником, зашедшим с тыла.
Но все равно, даже если такие «счастливчики» и были — они не могли быть свидетелями, как Семен Гитлер, раненый, тащил за собой пулемет целые 10 километров, да еще по вражеским тылам. Иначе бы сами ему помогли, — а не позволили бы ползти раненому, в одиночку. С другой стороны, «Максим»-то — вот он, налицо. Серийный номер, записанный в штабных документах совпадает. Ранение бойца — тоже налицо. И главное — уже сам факт подачи представления на красноармейца с красноречивой фамилией Гитлер без веских на то оснований, да еще в первые месяцы войны — это действительно крайне маловероятный сценарий. Потому что при малейшем сомнении в обоснованности такого рапорта подавшее его начальство укрепрайона могли бы ожидать куда более серьезные неприятности, нежели в случае ошибки в отношении бойца, носящего более привычную фамилию.
Хотя конечно, при этом не стоит принимать изложенные в «Наградном листе» данные о подвиге Семена Константиновича слишком уж буквально. Например, «8 дней вел беспрерывный бой». То, что вражеские атаки были ежедневными — несомненно. Но конечно, не ежеминутными. Просто техническая скорострельность пулемета «Максим» — 600 выстрелов в минуту, боевая — 250. Даже если исходить из последней цифры, одной пулеметной ленты хватит лишь на минуту боя, — а стандартного боезапаса (и то только для стационарно расположенных пулеметных точек) в 3 000 патронов — на 12 минут. Даже если патронов будет и вдесятеро больше — то максимум на два часа действительно непрерывной стрельбы. И то если пулемет будет снабжен системой непрерывного водяного охлаждения, ускоряющего время долива воды в кожух — как на снимке ниже:

А так «долив воды» необходимо делать после каждых 500 выстрелов во избежание заклинивания грозного оружия. В сравнении с которым в этом плане безнадежно проигрывали любые ручные пулеметы, — могущие стрелять без замены перегревшегося ствола от силы пару сотен выстрелов. Недаром самый массовый «ручник» Великой Отечественной, системы Дегтярева, имел боезапас всего в 4 диска по 47 патронов — все равно дольше стрелять без необходимости немалого перерыва для охлаждения раскалившегося ствола он просто не мог…
И конечно же, в рапорте командования Приморской армии «наверх» речь шла не о буквально непрерывных атаках (для которых не хватило бы не только патронов у наших пулеметчиков, но и солдат у противника, с учетом их потерь), — но об атаках частых. И отнюдь не о непрерывном нахождении все эти 8 суток рядового Гитлера за гашеткой «Максима». Хотя рекорд бодрствования и составляет около 11 суток, — но все-таки уже после даже первых суток вынужденной бессонницы скорость реакции, внимательность и другие необходимые бойцу качества снижаются настолько, что он … в общем, уже «не боец». Недаром в армейских Уставах четко регламентируется необходимость для «часовых» спать 2 часа из каждых 6 в суточном наряде — и даже при менее ответственных в плане требуемого внимания нарядах по кухне солдатам положено не менее 2 часов сна. Притом что минимальный промежуток между нарядами не должен быть меньше двух дней — так, чтобы боец смог хотя бы одну ночь полноценной выспаться между такими дежурствами.
***
Тем не менее никакой «фантастики» в том, что пулемет рядового Гитлера своим огнем время от времени отражал частые атаки гитлеровцев на протяжении 8 дней, нет. Во-первых, это четко подтверждается журналами боевых действий в том районе. Во-вторых, расчет станкового «Максима» ведь составлял далеко не один «наводчик» — должность которого и занимал герой статьи. Согласно «Руководству для бойца пехоты» РККА 1940 года расчет такого пулемета должен был иметь следующий состав:
начальник пулемёта — управляет огнём пулемётного расчёта;
наводчик — является заместителем начальника пулемёта, ведёт огонь из пулемёта и выполняет всю работу, связанную с использованием пулемёта в бою;
помощник наводчика — помогает наводчику в сборке пулемёта к стрельбе, в заряжании пулемёта, облегчает подачу ленты при стрельбе и отвечает за то, чтобы при пулемёте было достаточное количество патронов и все, что необходимо для ведения огня;
наблюдатель-дальномерщик — определяет расстояние (до целей и ориентиров), наблюдает за полем боя, за подразделениями своих войск и за результатами огня своего пулемёта;
подносчики патронов — по указанию начальника пулемёта или наводчика подносят патроны в лентах, воду для охлаждения ствола, смазку и все необходимое для боевой работы пулемёта.
ездовой — ведает конной повозкой для транспортировки пулемёта и боеприпасов, организует снаряжение лент патронами и подноску их к пулемёту.
Допустим, ездовой для пулемета, находящегося в стационарном укреплении, особо не нужен. Ну, так «подносчики патронов» (и воды) недаром упомянуты в тексте пособия во множественном числе — при интенсивной стрельбе их много не бывает. Так что все равно получается не менее 7 человек. И хотя собственно «стрелком» действительно является именно наводчик (которым и был Семен Гитлер), — но остальные его боевые товарищи (не говоря уже о командире расчета) в той или иной мере могли его при необходимости заменить. Или хотя бы разбудить при начале новой вражеской атаки, — попеременно дежуря в качестве наблюдателей.
***
Собственно, за лаконичными строками «Представления о награждении» Семена Константиновича скрывается трагедия тяжелых боев лета 1941 года, — когда из всего немалочисленного расчета пулемета в живых остался только он один. Что, кстати, тоже может показаться чудом — обычно пулеметы и пулеметчики замолкают не только тогда, когда у них кончаются патроны. Гораздо чаще перед этим расчет гибнет от пуль вражеских снайперов, гранат подобравшихся ползком атакующих солдат противника, — а то и просто от попадания в ДОТ или ДЗОТ вражеского снаряда или авиабомбы. Хорошо еще если не пылающей струи бензина из ручного огнемета — или «огнеметного танка»…
Но даже если пулемет вдруг замолкает именно из-за того, что кончились патроны (или его просто заклинило) — шансы выжить у пулеметчиков и в таком случае минимальны — обычно их тут же добивают подбежавшие враги. Как знать, возможно, Семену Гитлеру удалось спастись даже в такой ситуации. Когда, например, позицию замолчавшего пулемета наступающие немцы забросали несколькими гранатами — и, удовлетворившись зрелищем неподвижно лежащих советских бойцов, побежали дальше, не сделав «контрольных выстрелов» по тем, кого и так считали мертвыми. Пулемет победившие враги тоже с собой не забирали — для этого у них были «трофейные команды». А наш пулеметчик, пусть и один-единственный среди своих погибших товарищей, взял — да и очнулся. И мало того — потащил за собой и пулемет. Который, конечно, к длительным «прогулкам» предназначен не был, но небольшие колеса на защитном щитке все-таки имел — иначе 67-кг махину было бы трудно передвигать даже на боевой позиции. А что Семен Константинович вышел к своим, пройдя 10 километров по вражескому тылу, — так ведь в ситуации динамического противостоянии сплошные линии окопов с обеих сторон фронта были оборудованы далеко не везде. Вот и получилось…
***
Вскользь можно заметить, что уроженцу местечка Оринин Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области, родившегося в 1922 году (точная дата военно-учетными документами не приводится) Семену Гитлеру повезло не только в этом, самом известном его бою. Но уже даже в том, что после призыва в РККА в 1940-м он попал служить в Одесский военный округ, — с началом войны преобразованный в Южный фронт. Командование которого, конечно, «звезд с неба не хватало» (как, впрочем, и практически все без исключения военачальники РККА в начальный период войны), — но тем не менее избрало для своих войск самую, как потом выяснилось, выигрышную тактику. Не «маневренной войны» и малопродуктивных контрударов, только быстрее стачивающих и так тающие силы нашей армии, — но опору на хорошо оборудованные «укрепрайоны». К тому же имеющие богатые склады вооружения, продовольствия и другого имущества, — постепенно расходуя запасы которых бойцы могли длительное время сражаться хоть и в полном окружении.
Наиболее ярко эта разница в тактике проявилась на киевском направлении, — когда 5-я армия РККА, крепко севшая в Коростеньском укрепрайоне, успешно отражала многократно превосходившие ее состав силы гитлеровцев до начала сентября 41-го. В то время как ее соседи южнее, 6-я и 12-я армии, оторвавшиеся от баз снабжения, терпящие недостаток патронов, снарядов, бензина, попали в «Уманский котел» с последующим уничтожением или пленением еще в июле.
Приморская же армия Южного фронта, пусть и медленно отступая, тоже опиралась на оборудованные до войны укрепрайоны. А потому еще до середины июля удерживала врага на рубеже Днестра. Это на фоне катастрофы Западного фронта в Белоруссии — столица которой Минск была захвачена гитлеровцами уже на 6-й день войны. Причем все еще командующий тогда фронтом генерал Павлов, не принявший должных мер для укрепления своей обороны накануне войны (за что вскоре и поплатился жизнью по приговору Верховного Суда), уже практически потерял контроль и связь с подчиненными подразделениями. Так что трагическую весть о падении Минска и Генштаб, и сам Сталин узнали не от Павлова, — а из новостной сводки британской Би-Би-Си. После чего, кстати, не только отправился под суд Павлов, — но на фронт был отправлен и тогдашний начальник Генштаба Жуков, будучи замененным на более надежного в плане штабной работы маршала Шапошникова…
***
Но вернемся к главному герою нашего повествования. Вскоре после призыва Семен Гитлер был направлен в пулеметную школу, — которую закончил за месяц до начала войны. После чего получил назначение в Тираспольский укрепрайон — самый южный на западной границе СССР, дальше шла уже лишь дельта Днестра, малопригодная для пересечения ее атакующими подразделениями с любой стороны.
Укрепрайон общей протяженностью в 150 км был хорошо оборудован — там было построено 162 пулеметные и 22 артиллерийские точки. Под которыми подразумеваются, конечно, не какие-то окопы или даже блиндажи, — а полноценные железобетонные сооружения, бункеры, часто — почти что полноценные аналоги мощных фортов прошлых веков. Правда, Семен Гитлер служил не в одной из таких крепостей, — а в ДОТе приблизительно такого образца:

С учетом же того, что среди немцев (а тем более среди помогавших им на южном участке фронта румын) собственных «Александров Матросовых», желавших своим телом закрыть амбразуры советских ДОТов, как-то не водилось — отражать вражеские атаки нашим бойцам удавалось довольно долго. Семену Гитлеру и его боевым товарищам, как следует из «Наградного листа» — так целых 8 дней. Удалось бы и больше, — но увы, даже плотно расположенные пулеметные точки тоже не всесильны, если у противника есть артиллерия. Даже если ее снаряды не могут сразу точно уничтожить ДОТ, — то уж подвоз туда патронов становится очень проблематичным. Да и если атакующим сложно пробиться сквозь шквал огня днем, — то проползти ночью удается нередко. Как это и случилось на участке огневой точки героя этой статьи, — когда находящийся там взвод нашей пехоты был уничтожен ударом с тыла. А потом наступила очередь и ставшего беззащитным с тыла и ДОТа…
Впрочем, сохранивший не только собственную жизнь и свободу, но и пулемет, Семену Константиновичу вместе с остальной Приморской армией до поры до времени везло и дальше. И во время героической 70-дневной обороны Одессы с 5 августа по 16 октября, — и во время просто-таки суперуспешной эвакуации частей нашей армии из Одессы в Крым. Когда действительно были ввезены весь личный состав и боевая техника, — а не только старшие офицеры, как в последние дни обороны Севастополя в трагическом июне 1942 года…
Именно Севастополь в числе других бойцов прежней Приморской армии оборонял почти до самого конца и Семен Гитлер. Надо полагать, — не менее умело уничтожая наседавших гитлеровцев пулеметным огнем, чем прежде, в ходе боев за Тираспольский укрепрайон. В ходе этих боев герой и погиб. Точная дата его смерти неизвестна. В разных источниках приводится и 3 мая, и 4 июля 1941 года. Первая из них, впрочем, кажется, более правдоподобной — тогда между осажденным с суши Севастополем и «Большой Землей», черноморским побережьем Кавказа, где находились главные базы Черноморского флота, еще сохранялись относительно регулярные рейсы боевых кораблей ЧФ, подвозящих в город подкрепления и снаряжение, забиравших обратными рейсами раненных и архивы.
Но уже скоро немцы начали свою операцию «Охота на дроф» — первым этапом которой стала фактическая блокада морских перевозок из-за многократно увеличившегося числа вражеских самолетов и их атак на наши корабли. Что, собственно, и привело к потере нами Севастополя на рубеже июня-июля. А 4 июля 1942 года последние защитники города собрались на мысе Херсонес, обреченные на гибель или плен, — и оттуда ушли уже последние наши даже подводные лодки. Так что если Семен Гитлер и дожил бы до этого трагического дня — архивы, содержащие данные о его гибели, все равно бы уже некому было эвакуировать из Крыма. Так что июльская дата смерти героя — больше предположительно-гипотетическая...
***
К слову сказать, отвечая на частое недоумение «почему же Семен Гитлер не поменял свою фамилию» можно заметить, — а по какой причине он должен был это делать? До 1939 года, когда нацистский режим в Германии однозначно считался в СССР «вероятным противником» — между Москвой и Берлином, тем не менее, существовали дипломатические отношения. После подписания пакта о ненападении (именно о ненападении, — а не о мнимом «союзничестве», как это пытаются всеми силами доказать либералы-антисоветчики!) менять фамилию, созвучную с той, что носил лидер теперь уже формально нейтрального для Советского Союза государства, стало тем более не самой насущной необходимостью. А уж с началом войны сие тем более превратилось в пустую формальность. Подтверждением чего — не только в отношении «советского Гитлера» — являются длинные списки награжденных советскими орденами и медалями Герингов, Манштейнов, Боков и других однофамильцев известных нацистов.
Вскользь можно вспомнить и о том, что часто принято называть «легендой» — согласно которой многочисленная еврейская семья Гитлеров, оставшихся на оккупированной территории, избежала уничтожения в ходе «Холокоста» лишь благодаря своей фамилии. Дескать, ни один каратель не рискнул взять на себя ответственность подписать приказ на ликвидацию пусть и евреев, — но носивших фамилию горячо любимого фюрера. С другой стороны, если вспомнить, какой мизерный процент еврейского населения, оставшегося на оккупированных землях, дожил до прихода Красной Армии, — можно предположить, что не такая уж это и легенда…
Правда, после войны родственники Семена Гитлера действительно предпочли за лучшее стать «Гитлевами» — от греха подальше. А в более поздние времена — уехать в эмиграцию в Израиль, где их потомки проживают и ныне. Впрочем, на израильских ресурсах тоже хранят память о советском герое. Ставшем лучшим доказательством того, что суть человека — не в формально носимой им фамилии, но в его убеждениях и готовности бороться за них, даже жертвуя своей жизнью для защиты Родины от «коричневой чумы» фашизма…



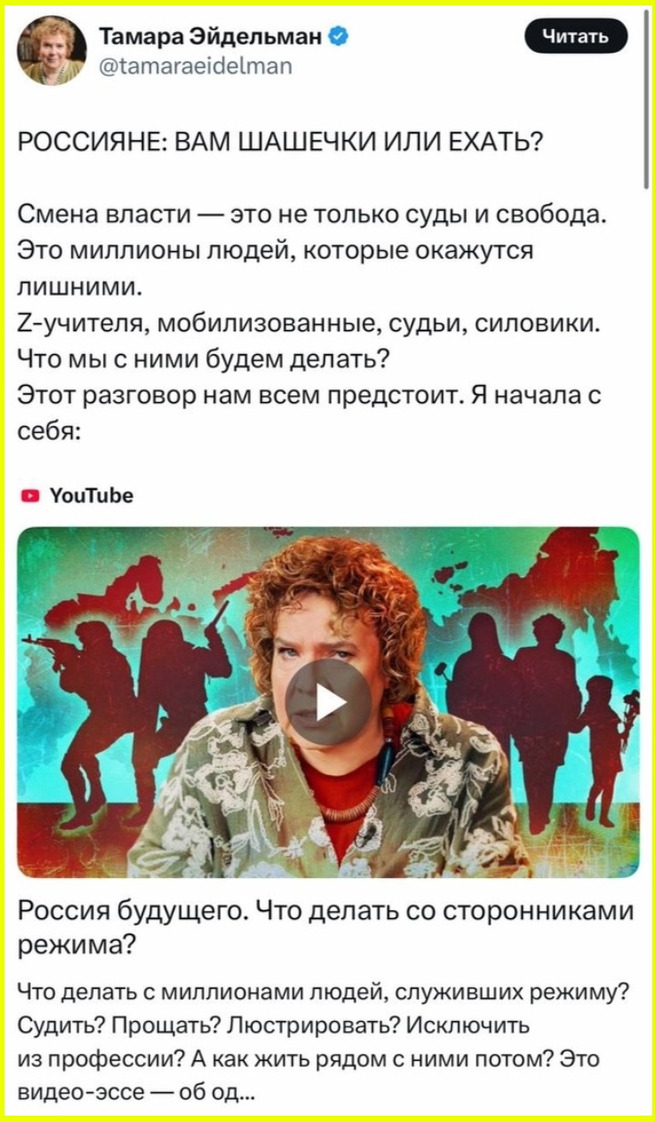

Оценили 9 человек
12 кармы