ПАМЯТИ Я. Я. ПЛАВИЛЬЩИКОВА
…Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа,- что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и на поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.
Альбер Камю

Над сельвой
Устраиваясь в кресле, я обратил внимание на человека, показавшегося мне знакомым. Он долго не поворачивался в мою сторону, потом повернулся, и я вспомнил, что действительно видел его около часа назад, тут же - в холле аэропорта. На нем была плотная шелковая куртка, одна из тех, что так нравятся лесорубам и парашютистам, но удивило меня отнюдь не это - мало ли кто и что носит! - а выражение лица: этот человек был абсолютно невозмутим! Едва пристегнувшись к креслу, он отключился от окружающего.
Дожидаясь взлета, я вытащил из кармана газету и развернул ее. Не лучшее из развлечений, но сегодня первая же статья привлекла мое внимание. Речь в ней шла о странном европейце, с которым столкнулся в свое время, пересекая Южную Америку, французский врач Роже Куртевиль, а после него капитан Моррис, отправившийся в 1934 году на поиски «неизвестного города из белого камня», затерянного в джунглях, города, в котором члены Английского королевского общества по изучению Атлантиды предполагали найти постройки древних атлантов, переселившихся после гибели своего острова на южноамериканский континент.
Увлекаясь, автор анализировал легенды, широко распространенные среди индейцев, обитающих в глубине сельвы, легенды о некоей змее боиуне - хозяйке таинственных и необозримых амазонских вод. В период ущерба луны боиуна якобы может обманом привлекать к себе людей, принимая облик баржи или речного судна, а то и океанского лайнера. Тихими ночами, когда небосвод напоминает мрачную вогнутую чашу без единой мерцающей звезды, а вся природа погружается в душный сон, тишину вдруг нарушает шум идущего парохода. Еще издали можно разглядеть темное пятно, впереди которого бурлит и пенится вода. Горят топовые огни, а над толстой, как башня, трубой черным хвостом расстилаются клубы дыма.
Несколькими минутами позже можно услышать шум машин, металлический звон колокола. На забытом богом берегу одинокие серингейро или матейрос спорят о том, какой компании принадлежит идущий по реке пароход. А он, переливаясь в лучах электрических огней, все приближается и приближается к берегу, напоминая огромное доисторическое животное, облепленное бесчисленными светлячками.
Потом пароход начинает сбавлять скорость. По рупору звучит команда дать задний ход и спустить якорь. Глухой удар, всплеск - якорь погружается в воду. Скрипя и грохоча, сбегает сквозь клюз тяжелая цепь.
Тем временем люди на берегу решают подняться на пароход. «Несомненно, команде нужны дрова»,- решают они, довольные этой неожиданной встречей… Они садятся, наконец, в лодку, но не успевают пройти и половину пути - пароход перед ними внезапно, будто его и не было, проваливается в воду! Крылья летучей мыши шуршат над головами, крик совы отдается пронзительным эхом - а на воде нет ничего!.. Потрясенные случившимся, люди озираются, переглядываются и, проклиная боиуну, спешат к берегу…
У автора газетной статьи, надо сказать, было свое мнение. Он связывал содержание таких вот легенд с появлением в бассейне верхней и средней Амазонки пароходов, а может быть, и с невесть как забредшими сюда субмаринами… «В таких случаях,- хмыкнул я,- связи отыскать несложно. Полезнее и вернее было бы все же вовремя вспомнить о самом простом - например, о сплывающих по течению травяных островках, облепленных светлячками, или о смытых с обрывов толстых деревьях…» Бросив газету, я глянул в иллюминатор.
Безбрежный зеленый океан сельвы расстилался внизу.
Пытаясь отыскать в этой зелени ниточку Трансамазоники, самой длинной дороги в мире, строящейся в лесах руками все тех же матейрос, я приподнялся. Но в сплошном покрове тропических лесов не видно было ни одной прогалины. Зелень, зелень, зелень! Океан зелени…
Я вздохнул… Это была затея шефа - сунуть меня в самое сердце сельвы. Работы, ведущиеся на Трансамазонике, как они ни были грандиозны, не нуждались, на мой взгляд, в присутствии сразу двух постоянных корреспондентов- в одном из мелких поселков второй месяц сидел мой коллега Фил Стивенс, и его репортажей вполне хватало для нашей «Газет бразиль». Но… Как говорил шеф, газетчик вовсе не становится плохим газетчиком, если постоянные его занятия время от времени прерываются неожиданными путешествиями.
Итальянка, сидящая в соседнем кресле и, как я понял из ее слов, обращенных к соседу, летящая в Манаус, к дяде, прочно обосновавшемуся на новых землях, подозвала стюардессу. Пользуясь случаем, я заказал кофе. Но его не успели принести.
- Извините, вы не от «Газет бразиль»?
Голос был хриплый, нервный. Я повернул голову и увидел человека в шелковой куртке. Чуть пригнувшись, будто боясь задеть головой плафоны низкого салона, потеряв всю свою невозмутимость, он ждал ответа, и меня поразило, как нервно подрагивал под его нижней губой поврежденный когда-то мускул. Шрам был неширок, но только теперь я понял, что отпечаток презрительного равнодушия придавал этому человеку именно он,
- Я узнал вас,- помедлив, продолжил незнакомец.- У меня есть фотография мастера Оскара Нимайера с группой сотрудников из компании «Новокап». Фотография выразительна, не стоит труда узнать на ней и вас… Я- уругваец. Мое имя - Репид. Хорхе Репид. Я лечу в Манаус, отчасти и по делам мастера.
У меня цепкая память на имена, но это - Хорхе Репид- в памяти не всплывало. Расстегнув ремни, я привстал, потому что говорить через голову итальянки было неловко, и уругваец кивнул:
- В первом салоне можно выкурить по сигарете.
Вежливо пропустив меня, он пошел позади, размеренно, не торопясь, будто пересчитывая всех пассажиров далеко не заполненного самолета. Решив узнать настоящее отношение Репида к мастеру, я повернулся.
- Не останавливайтесь! - с угрозой произнес уругваец, и я не узнал его - глаза будто выцвели, кожа плотно обтянула худощавое лицо. Куртку он успел расстегнуть, и теперь из-под нее смотрел на меня ствол короткого автомата.
- Пристегнуться! Всем пристегнуться! - крикнул Репид по-португальски и отступил к стенке салона, чтобы видеть пассажиров.- Руки положить на спинки кресел!
Ошеломленные пассажиры выполнили приказ. Руки взметнулись над спинками кресел, как стая тяжелых бабочек. Прямо передо мной проснулся вялый толстяк с опухшим красным лицом. Его соседка, торопливо выкрикнув что-то, заставила и его вытянуть руки. Мне стало не по себе - такой глубокий, безвольный страх отразился в глазах толстяка.
- Этот человек,- сказал уругваец, указывая на меня,- пройдет вдоль рядов и обыщет каждого. Ему не нужны деньги и драгоценности. Он должен узнать, есть Ли у вас оружие. Предупреждаю, никаких акций! Он такой же пассажир, как вы!
Салон безмолвствовал.
- Идите! - сказал уругваец, подтолкнув меня стволом автомата. Впервые на губах его промелькнула тень улыбки. А может, просто дрогнул неширокий шрам под выпяченной нижней губой.
Одежда толстяка (он был первый, кого я коснулся) промокла от пота.
- Вам плохо? - спросил я.
- Молчать! - прикрикнул уругваец.- Молчать!
Сжав зубы, я приступил к обыску.
Ощупав карманы худого, длинного матроса и двух представителей транспортной конторы Флойд, как явствовало из монограмм на их портфелях, я подошел к итальянке.
- Нет! - сказала она с отчаянием.- Вы не сделаете этого!
«Никто не уберегся от страха,- подумал я.- Пять минут назад все эти люди вели нормальную жизнь, не помышляя ни о каких опасностях, и вот страх уже парализовал их волю…» Я искал способ успокоить итальянку,- но она, к сожалению, уже ничего не могла понять, только пыталась глубже вжаться в кресло, будто я был для нее самым страшным из всех насильников.
Но, занимаясь итальянкой, я увидел вдруг и другое - человек, сидевший прямо за ней, невзрачный, незапоминающейся внешности, человек, одетый в мятую полотняную куртку, быстро подмигнул мне. Он сделал это незаметно и весьма убедительно. И, выигрывая для него время (я очень надеялся, что это не просто сумасшедший, а специальный сопровождающий авиакомпании), я спросил итальянку:
- Хотите воды?
Это прозвучало как насмешка, но ничего другого в голову мне не пришло. Повернувшись к уругвайцу, я негромко пояснил:
- Женщине плохо.
- Продолжай! - крикнул он.
И в этот момент я бросился на пол. Я не пытался укрыться за креслами, на это у меня не было времени. Я просто упал на запылившуюся ковровую дорожку, и выстрелы сразу, один за другим, убили казалось надолго воцарившуюся в салоне тишину. И лишь когда они смолкли, я вскочил. Уругваец сползал по стене салона, цепляясь рукой за выступ иллюминатора, а прямо перед ним, вскочив, кричала женщина.
- Сидеть на местах! - крикнул я пассажирам, срывая автомат с шеи убитого.
Что делается в первом салоне?
Споткнувшись на неожиданно высоком пороге, я получил тяжелый удар в лицо. Не успел даже крикнуть, у меня вырвали оружие, сбили на пол. Высокий курчавый человек в такой же, как на убитом уругвайце, куртке наклонился надо мной:
- Ты стрелял?
Я отрицательно помотал головой. Вряд ли это его убедило. Он выругался:
- Буэно венадо! - и, указав на дверь, через которую я так неудачно ворвался, приказал:
- Встань! Иди!
«Сейчас войду,- подумал я,- и сопровождающий выстрелит. Вряд ли мне удастся повторить трюк с падением…»
Я толкнул дверь и сразу понял, что все проиграно. Руки пассажиров все так же покоились на спинках кресел, никто даже не отстегнулся. Но уругваец был мертв, лежал поперек салона. А дальше - и это и было причиной неестественного спокойствия - за креслом замершей в обмороке итальянки повис в пристяжных ремнях убитый уругвайцем сопровождающий авиакомпании.
- Буэно венадо! - выругался курчавый.- Революция потеряла превосходного парня! - Казалось, он не выдержит, заорет, но в салон ввалился еще один тип в шелковой куртке и одернул его.
- Перестань, Дерри! Сейчас не до него. Слышишь?
Самолет терял высоту. Пол под нами подрагивал.
Заметно похолодало. Резко свистел выходящий сквозь пробоины воздух.
«Революционер! - с бессильным презрением подумал я, разглядывая курчавого.- В месяц три революции! В год - тридцать шесть! Плюс тридцать седьмая, незапланированная, упраздняющая все предыдущие!.. Какая к черту революция! Очередной переворот в одной из латиноамериканских, республик…»
Самолет трясло. Дрожь его пульсирующей болью отзывалась в раскалывающейся голове.
- Сядь в кресло и пристегнись!
Упав в свободное кресло, я закрыл глаза, на ощупь нашел ремни. А самолет продолжало трясти так, будто он уже катился по плохо вымощенному полю.
Вытащив из кармана сигарету, курчавый протянул ее напарнику.
- Мокрый? - спросил он с презрением толстяка, все еще державшего руки на весу.- Опусти лапы, надорвешься! Ты ведь недавно стал человеком, да? Сколько ты стоишь?
Толстяк ошалело молчал. Пот крупными каплями стекал по его лицу. Но это был именно пот, толстяк не плакал.
- Такие, как ты, всего боятся,- презрительно добавил курчавый.- Ты не Репид! Буэно венадо!
Мои часы разбились, но, и не глядя на них, я знал - на все случившееся ушли считанные минуты. Судя по солнцу за иллюминатором, самолет продолжал держать курс куда-то на запад, в сторону Перу, туда, где Амазонка называется Солимоэс…
Самолет опять затрясло.
- Отчего это? - спросил напарник курчавого.
- Пилоты нервничают!
Ответ, казалось, удовлетворил спрашивавшего, но лицо его осталось тревожным. Не докурив сигарету, он бросил ее на пол и раздавил тяжелым каблуком.
Теперь мы шли так низко, что я видел за иллюминатором купы отдельных деревьев. Пассажиры насторожились. И в самом деле, что-то изменилось… Что?.. Я потянул воздух ноздрями, а потом увидел - в салон через пробоины в стенах медленно втягивались струйки удушливого желто-зеленого дыма. Дым поднимался над креслами, висел над нами плоскими не-смешивающимися слоями. Потом он рассосался, потускнел, стал будничным, будто мы попали в прокуренный темный кинозал.
Удар потряс корпус.
Я почувствовал, что нас подбрасывает вверх, под острым углом, опрокидывает, придавливает к сиденьям. Потом тяжесть исчезла, но тут же вернулась - мерзкая, удушающая. Вцепившись в подлокотники кресла, я увидел, как корпус самолета лопнул, и сразу душные незнакомые запахи хлынули на меня со всех сторон.
В сельве
Когда я очнулся, передо мной горело дерево, а метрах в тридцати, среди рваных лиан и мятой растительности, мутно дымилась разбитая сигара фюзеляжа. Ря-дом со мной, лицом в болотной воде, лежал курчавый террорист, тот, кого звали Дерри. Куртка задралась на шею, я видел голую обожженную спину… Видимо, нас выбросило из самолета еще в воздухе, после первого удара, и, как это ни странно, я был жив!
Несколько пиявок толщиной с карандаш успело присосаться к руке. С отвращением содрав их, я побрел к самолету, проваливаясь в жидкую грязь чуть ли не по колено. В груде искореженного металла вряд ли могли остаться живые - коробка салона выгорела насквозь, и, убедившись в этом, я вернулся к телу курчавого.
- Доволен? - спросил я, будто он мог мне ответить.- Доволен?
Отраженное кронами эхо негромко, зловеще крикнуло:
- Доволен!..
Я снял с Дерри куртку. В сельве такая куртка незаменима- ни москиты, ни клещи ее не прокусят… Рядом с самолетом можно было, наверное, найти еще что-нибудь, но меня тошнило при одном взгляде на выгоревшую дюралевую сигару, и, в последний раз взглянув на нее, я углубился в лес.
Бледные, обвешанные лохмотьями эпифитов, стволы уходили вверх - в тесное сплетение листьев. Я был как на дне океана, и душно и сумрачно тут было как в океане, в перегретом, взбаламученном океане. Я не знал, в какую сторону надо идти, и все же шел. Неприятно пахнущие муравьи крутились на ветках, упавших в болото. Грибы и плесень оплетали любой островок. Но кое-где на стволах деревьев можно было различить следы засохшего ила, и этот ил был не болотным - рядом текла река.
Чем глубже я уходил в лес, тем сумрачней становилось вокруг, и, наконец, жаркая влажная духота чащи сомкнулась надо мной полностью. Пугающе взрывались в сумраке огни светлячков, странные звуки неслись сверху, но я упрямо шел и шел туда, где, по моим предположениям, могла оказаться река.
Изредка я останавливался, но жизнь сельвы кипела на невидимых мне этажах. Именно оттуда доносились звуки, именно оттуда, как яркие парашютики, спускались иногда трепещущие заблудившиеся бабочки.
Споткнувшись о тушу дохлого каймана, я по-настоящему поверил, что река рядом. Но далеко не сразу к ней пришел - мешали кривые, задавленные лианами стволы, мрачные крохотные озера, переполненные манграми, . ярко-красные воздушные корни которых источали дурманящий сладкий запах… Казалось, это никогда не кончится, и все же я ступил на плотный мелкий песок, по которому стайкой метнулись перепуганные мной крабы.
Река целиком пряталась под пологом леса, и Именно тут, на берегу, к которому я так стремился, я чуть не погиб, наткнувшись на поблескивающие, шевелящиеся, похожие на черные тыквы, шары устроившихся на ночлег кочующих муравьев «гуагуа-ниагуа»- «заставляющих плакать»… В панике, сбивая с себя свирепо кусающих насекомых, я бросился в воду, еще раз оценив качество взятой у уругвайца куртки-она не промокала… А выбравшись на берег, долго прислушивался - не доносится ли откуда-нибудь характерный шорох «гуагуа-ниагуа», пожирающих листья?
Сгущались сумерки.
Разбитый, я влез на нависающее над водой дерево и почти сразу услышал крик.
Крик начинался в глубине сельвы - тонкий, жалобный, слабый, потом понемногу набирал силу и переходил в панический рев, обрывавшийся так внезапно, будто кричавшему затыкали рот.
«Это не человек,- сказал я себе.- Это ночная птица. Она вышла на охоту, и охотится, конечно, не на людей».
Но успокоиться было трудно. В голову сами по себе приходили мысли о потерявшихся в сельве людях, скелеты которых находят иногда на отмелях и в лесных болотах. Капитан Моррис, полковник Перси Гаррисон Фоссет. Они знали о сельве многое, они специально готовились к своим путешествиям, и все же сельва их поглотила…
Разбуженные тоскливым криком птицы окружали меня невнятные страхи. Я вспомнил даже о Курупури, духе, ноги которого вывернуты назад, о духе, терзающем все живое, о духе, состоявшем в близком родстве все с той же таинственной боиуной…
Вдруг на реке, далеко подо мной, мелькнули огни. Они виделись так явственно, что, вздрогнув, я чуть не сорвался с дерева. И чары тут же исчезли - огни потускнели, будто погрузились, ушли под воду.
- Боиуна,- сказал я себе, покрываясь холодным потом.- Боиуна…
Ночь тянулась бесконечно. Я то впадал в забытье, то просыпался от воплей идущих поверху обезьян-ревунов, а совсем под утро вдруг разразился короткий ливень, не принесший прохлады, зато отяжеливший, вымочивший ветви, сквозь которые глянули на меня такие крупные, такие яркие звезды, что меня охватило тяжелое отчаяние.
Все утро я оплетал лианами найденные на берегу стволы пальмы асаи. Голод и страх мешали работать - я беспрестанно оглядывался на заросли, будто из них и впрямь могло показаться жуткое, искаженное злой гримасой лицо духа Курупури. Я успокоился, лишь столкнув на воду непрочный плот.
Поворот за поворотом. Я потерял им счет, но не уставал убеждать себя - я на реке, а все реки рано или поздно выводят к людям.
Я знал, что настоящая сельва всегда пустынна (птицы и звери любят относительно свободные пространства), и все же уединенность этих мест, отсутствие живого меня убивали.
«Кто был этот Репид? - думал я.- Кто были его приятели? Действительно революционеры, хотевшие таким образом добраться до удобного им пункта, или же налетчики, уходившие от закона?.. Ну да!- выругался я.- Похожи они на революционеров, как Дженнингс на Кастро!.. Воздушные пираты!»
- Компадре!
Я замер.
Потом медленно повернул голову.
Из-за куста на меня смотрел человек.
Плот медленно проносило мимо. Вскрикнув, я бросился в воду, вцепился в нависающие с берега кусты. Человек протянул руку, помог выбраться на сухое место.
- Не советую проделывать такое дважды. В воде есть пираньи, они за минуту успевают разделать быка.
Я не понимал слов. Я просто их слушал! Ведь это был настоящий человек! Живой! Во плоти! Без автомата! В рубашке, в плотных брюках, в тяжелых высоких башмаках. Длинное лицо с сильной, выпяченной вперед челюстью, чуть горбатым носом казалось мне необыкновенно привлекательным. И, ухватив незнакомца за руку, я повторял:
.- Мне нужны люди! Мне нужно добраться до людей. До серингейро, до матейрос, до кого угодно! Мой самолет сгорел! Я ищу людей!
Незнакомец неторопливо высвободил свою руку, сунул ее в карман и вытащил таблетку глюкозы.
- Проводите меня до селения, до любой гасьенды! - просил я.- Мне нужны люди!
Он будто бы колебался.
- Я совершенно один! Я уже сутки как один!
Он внимательно осмотрел меня, даже провел рукой по моей куртке, кивнул и шагнул в заросли. Я почти наступал ему на пятки, боялся, что он исчезнет. Но он не исчез. Больше того, метров через сто остановился, и я увидел причаленный к берегу мощный катер и бородатого мужчину с удочкой в руках. Катер так удачно прятался в зарослях, что, проплывая мимо, я мог его не заметить.
Оставив удочку, бородатый вопросительно взглянул на моего проводника. Тот кивнул.
Не торопясь, бородатый достал из-под брошенного на берегу брезента кусок жареной рыбы и протянул мне. Такунари или тамбаки - я не понял, но рыба была вкусная, я с жадностью съел ее.
- Мне нужны люди! - говорил я между глотками.- Мне нужны люди. Мой самолет сгорел!
- Компадре,- спросил приведший меня,- ты один?
- Все сгорели!-я махнул рукой.- Я один!
- Ты путаешь, компадре,- возразил проводник.- Вот где они могли сгореть! - и, взяв меня за руку, как ребенка, повел сквозь заросли в самую глушь, в сумрачную духоту сельвы, и, остановившись, наконец, отвел листья в сторону, повторил:
- Вот где они могли сгореть.
Я замер.
На добрый десяток миль сельва была сожжена. Не огнем, нет, потому что листва и ветки, искореженные так, будто их прокалили в сушильном шкафу, оставались на предназначенных им природой местах. Мертвые стволы упирались в низкое небо, укутанное туманной дымкой.

- Вот где они могли сгореть… У тебя, там, был другой огонь?
- Другой,-подтвердил я.- Другой. Самый обычный.
- Идем! - сказал проводник.
- Но что случилось тут?
Проводник не ответил, бородач тоже. Я спрашивал, я не уставал спрашивать, суетливо и беспомощно, но они отмалчивались, не хотели говорить. И, отчаявшись, я замолчал. Тогда тот, кто упорно называл меня «ком-падре», сам спросил:
- Почему сгорел самолет?
- Угон,- пояснил я.- В самолете стреляли. Самолет потерял высоту.- И вспомнил об итальянке: - В самолете были женщины!
- Кто стрелял?
- Человек, которого звали Репид. Хорхе Репид, уругваец. С ним были и другие люди. Одного звали Дерри.
- Твои друзья?
- Нет! Они говорили между собой. Я услышал эти имена - Дерри и Хорхе Репид.
- Ты, правда, остался один? Ты никого не оставил в сельве?
- Да! - теперь я утверждал.- Я видел самолет. Он сгорел, он пустой, как труба. А меня выбросило еще в воздухе, наверное, был взрыв… Там все сгорело!
- Проводи нас!
Я смертельно устал, но проводник был прав - место падения самолета надо было осмотреть более тщательно. Все равно, подумал я, скоро мы окажемся среди людей.
Путь, на который у меня ушло почти двое суток, катер проделал за несколько часов. Я спал, когда бородач заставил меня встать и причалил катер.
Светало.
Ведя компадре по зарослям, я понял, что если бы сразу взял на север, мне не пришлось бы так долго блуждать - река делала петлю…
Ядовито-зеленая плесень успела оплести фюзеляж самолета. Остановившись под сломанной пальмой, я молча следил, как мои спутники обшаривают болото. Не знаю, что они хотели найти, но они явно что-то искали… Перевернув труп раздетого мною Дерри, проводник спросил:
- Как его звали?
Я повторил.
Больше они ни о чем не спрашивали. Катер стремительно рванулся вниз по течению, и я впервые совершенно отчетливо понял, какая мне выпала удача - блуждай я тут хоть год, нигде ни одного человека! Эти места были необитаемы, царство влаги и духоты!
Тем неожиданнее было увидеть бетонный пирс, выдвинутый с берега почти на середину реки. Значит, я опять ошибся?
- Компадре,- приказал тот, кто встретил меня на реке.- Иди! Там люди!
- А вы? Как вас зовут? Где я найду вас?
- Иди! - повторил он.
Я протянул руку, но бородач уже оттолкнул катер от пирса.
Пожав плечами, я сел на теплый бетон и несколько минут разглядывал свое отражение в мутной воде. Опухшее лицо, грязная куртка… А эти люди? Почему они так молчаливы? Почему они сразу ушли?
Плеснув в лицо теплой водой, я утерся рукавом куртки и встал. Бетонная автодорога, начинавшаяся прямо на пирсе и размеченная цветными полосами, нигде, видимо, не просматривалась с воздуха и вела прямо в чащу красно-желтых орхидей и белых огромных фуксий.
Обсерватория «Сумерки»
Автодорога была так надежно укрыта зарослями, что только легковые автомобили могли пройти по ней, не зацепив кузовом веток. Я с наслаждением ступал по твердому бетону, радуясь тому, что не хлещет из-под ступней грязь, не проваливается почва. Прежде всего, подумал я, потребую еды и… телефон! Нужно срочно связаться с шефом. Не каждый день на долю корреспондента выпадают подобные приключения.
Открытый «джип», выкатившийся навстречу, ошеломил меня. За мной?
Оказалось, за мной…
Человек за рулем был столь же немногословен, как и мои спутники. Лицо его почти наполовину закрывали темные очки, и он их так и не снял. Буркнул что-то вроде приветствия и, перегнувшись через сиденье, при-открыл заднюю дверцу. Ах, как приятно запахло теплой кожей, бензином, металлом! Поддавшись неудержимому приступу благодушия, я болтал всю дорогу, а она заняла все же почти десять минут. Дорожных знаков никаких, водитель не стеснялся - гнал «джип» вовсю, и он только повизгивал на поворотах, бросая меня из стороны в сторону. Слова мои родитель слушал внимательно, однако когда я попытался похлопать его по плечу, уклонился от ладони. Даже это меня не отрезвило, я продолжал болтать, пока водитель не заметил:
- Приехали.
Прямо передо мной возвышалась каменная стена, верх которой прятался в зарослях. Водитель кивнул, и я переспросил:
- Мне сюда?
Он усмехнулся и выжал акселератор. «Джип» исчез, как перед этим исчез катер.
Осмотрев пустую дорогу, я пошел вдоль стены и очень скоро наткнулся на металлическую дверь, отворившуюся так легко, будто она была сплетена из соломы.
Плоские бетонные стены холла, подпертые металлическими контрфорсами, уходили высоко вверх. Нигде не было ни одного окна, никакой мебели, зато прямо у дверей, в нише, стоял телефон. Он ничем не отличался от своих собратьев, оставленных мною в редакции «Газет бразиль», и все же была в нем странность - трубку к рычагам прижимала пружина, будто что-то могло само по себе сдвинуть ее с места.
Не зная, что предпринять, я поднял трубку. Ответили немедленно:
- Поднимитесь в лифте на пятый этаж. Для вас приготовлена комната.
Положив трубку, я опять удивился пружине.
Лифт вознес меня вверх, и, как оказалось, искать комнату мне не пришлось - войти в нее можно было только из лифта. Случись тут пожар, сломайся подъемник, выбраться наружу было бы сложно. Впрочем, дверь в шахту открывалась свободно, без блокировки, и я поразился глубине шахты - это здание имело и подземные этажи.
Комната мне понравилась. Стол, два кресла, диван. Ничего лишнего. В узком шкафу я нашел кофе, сыр, булки. Кофейник был тут же, рядом с горкой салфеток.
Я поставил его на плитку и побрел в ванную, на ходу срывая с себя грязное белье. Горячая вода усыпляла. Закрыть глаза, спать, спать… Но я включил холодную воду. Рано спать! Рано.
В бельевом шкафу нашелся и халат. Облачившись в него, я подошел к узкому и высокому окну, затянутому решетчатыми жалюзи. Густая листва прижималась к толстым стеклам - рассмотреть что-либо за окном было невозможно.
Выпив чашку кофе, я взялся за телефон.
- Слушаю вас! - раздался голос в трубке. Добродушный, спокойный голос.
- Где я нахожусь?
- Поселок Либейро. Обсерватория «Сумерки».
- Сумерки? Что это значит?
- Просто название.
- Прошу вас, соедините меня с редакцией «Газет бразиль», Бразилиа. Я - журналист Маркес, научный обозреватель газеты, потерпевший аварию в районе вашего поселка. И будьте добры прислать человека с одеждой. Все, что необходимо мужчине при росте 187, весе 79. Платит банк Хента,- я назвал номер счета.
Прошло полчаса, прежде чем телефон ожил.
- Где ты находишься?
Я сразу узнал голос шефа, неторопливый, но не терпящий волокиты. И так же четко ответил:
- Поселок Либейро, обсерватория «Сумерки». Это не моя инициатива, шеф. Мой самолет сгорел. Его пытались угнать. Много жертв. Стараюсь добраться до Манауса. Сегодня же продиктую сообщение для газеты. Это заинтересует многих.
- Поддерживаю,- сказал шеф.- Но на гнилые орехи времени не теряй. Трансамазоника,- Вот что волнует нашу страну! - и повесил трубку.
«Ладно! - выругался я про себя.- Не стоит нервничать. Шеф всегда был таким. Его время, разумеется, стоит дороже моего». И все же осадок от разговора остался… Не совсем приятный осадок.
«Либейро… Либейро…» Карты под рукой не было.
«Это где-то на западной границе,- пытался вспомнить я.- На западной границе или… А черт с ним, завтра все прояснится! Спать! - вот чего я сейчас хочу».
И, едва добравшись до постели, я провалился в сон.
А когда проснулся, была ночь= Сварив кофе, освеженный, я устроился на каменном подоконнике. Жалюзи были подняты, я видел смутную листву за стеклом. И вдруг все это исчезло* словно уничтоженное вспышкой. Вместо глубокой тьмы лиственных сплетений я увидел звездное небо, увидел низкие, расползшиеся по горизонту звезды, будто я был на равнине, а не в сельве. Чашка выпала из моих рук и со звоном разбилась.
Звезды были яркие и пронзительные.

А потом все исчезло. Напрасно я всматривался в тьму. Ни звезды, ни единого огонька…
Торопливо я вызвал дежурного, и мой голос его, как видно, обеспокоил, потому что, наконец, он появился в комнате сам - крупный, добродушный толстяк. Странно было слышать слова «обсерватория», «звезды», «геофизика» - такие люди, как правило, предпочитают говорить о скачках или о боксе. Но он говорил о звездах и геофизике, которыми тут занимались, а под конец успокоил:
- Вы переутомлены, вам надо отоспаться и отдохнуть. Сельва отнимает у людей слишком много сил. Прислать вам вина?
- Спасибо. Что слышно у вас об авиаугонах? Я имею в виду местную линию.
Он рассмеялся:
- Наша посадочная полоса похожа на царапину. У нас всего два самолета. Но водят их пилоты, знающие каждую излучину реки, каждый ее перекат, каждое высокое дерево, способное служить ориентировочным знаком… Угоны - привилегия больших трасс.
- Чем, собственно, занимаются сотрудники обсерватории?
- Я уже говорил - звездами. Но точнее об этом скажут они сами. Я лишь встречаю и провожаю гостей.
- Много их тут бывает?
- Когда как.
- Есть тут бар или клуб, где можно провести пресс-конференцию?
- Персонал обсерватории невелик,- уклонился дежурный от прямого ответа.- Есть комната для гостей, ее я мог бы назвать клубом, но сейчас она пустует. Вы же знаете - климат. В нашем климате сырость очень быстро съедает и дерево и железо. Впрочем, вряд ли вы успеете поговорить с сотрудниками. Билет до Манауса вам заказан.
- Спасибо,- поблагодарил я.- И… соедините меня с «Газет бразиль».
Пока телеграфисты вызывали метрополию, я успел подойти к зеркалу. Мне давно следовало побриться. Но вот загар… загар был великолепен!
Загар?!
Какого черта! Не обрел же я этот камуфляж в сельве?!
Распахнув халат, я удивился еще больше - все мое тело золотилось от густого загара!
Это неожиданное открытие меня смутило. Я не мог его объяснить. И когда затрещал телефон, удивился еще сильнее, ибо шеф раздраженно спросил:
- В самом деле, где ты находишься?
- Либейро, обсерватория «Сумерки».
- Дурацкая шутка! - возмутился шеф.- В поселке Либейро со вчерашнего дня сидит наш репортер Фил Стивенс. Я просил разыскать тебя. Фил утверждает, что никаких обсерваторий в Либейро нет. А значит, нет в Либейро тебя! Где же ты?
- Я встревожен, шеф…- начал я, но нас сразу прервали. Писк зуммера подействовал на меня угнетающе. К тому же постучали в дверь.
- Войдите!
Это вновь был дежурный. Но сейчас он держался официально, я бы сказал - холодно. Наверное, потому, что вместе с ним в комнату вошел человек, которого я, кажется, где-то видел.
Любитель цапель эгрет
Впрочем, нет… О любом военном можно сказать, что вы его где-то видели. А это был военный, и никакой штатский костюм не мог скрыть его выправки.
- Инспектор,- представился он.- Я не задержу вас, но по долгу службы обязан задать несколько вопросов.
- Слушаю вас.
- Кто были люди, доставившие вас к обсерватории?
- Я их не знаю. Я наткнулся на них случайно, в сельве. Они были добры ко мне.
- Их имена?
- Они не назвали своих имен.
- Но, может, в беседе между собой?..
- Нет.- Я покачал головой.- Я был слишком возбужден, мог не расслышать. Но, кажется, они и впрямь не обращались друг к другу по имени. Вообще-то в их поведении была доля странности…
- Что именно?
- Ну… Например, они не ответили ни на один из моих вопросов.
- Хорошо,- сменил тему инспектор.- Расскажите о случившемся в самолете. Всю правду, если она даже неприятна вам… Нас интересует некто Репид, доверившийся вам.
- Это не так,- возразил я.- Мне этот уругваец не доверялся.
- Кубинец,- поправил меня инспектор.
- Он назвал себя уругвайцем.
- Это не меняет дела… Вы журналист. Вы собираетесь писать о случившемся?
«Он слышал мой разговор с шефом…» - почему-то решил я и ответил:
- Как можно подробнее. Такие вещи нельзя замалчивать. О таких вещах должны знать все!
- Итак?
Я подробно рассказал о катастрофе.
Инспектор слушал внимательно, иногда уточнял детали, переспрашивал, а дежурный тем временем стоял у окна, и один бог знает, что он там видел.
- Но вы разговаривали с Репидом?
- Только отвечал на вопросы.
- И, заметьте, помогали ему!
Я усмехнулся:
- Под угрозой… Любой из нас вынужден был бы поступить так. Вот напарник Репида, некто Дерри, тот оказался разговорчивей. Он орал что-то о том, что революция потеряла еще одного парня. Он даже эпитет употребил. Вроде бы - «превосходный». Да, именно так! «Революция потеряла превосходного парня»!
- «Превосходного…» - задумчиво протянул инспектор.- А не мог он сказать что-то противоположное? Вы были перевозбуждены, потом долго блуждали в сельве. Вы могли ошибиться. Это совсем нетрудно, если человек в джунглях один…
- «Революция потеряла превосходного парня»! - настаивал я.- Именно так он и сказал.
- А видели вы кого-нибудь из террористов раньше? Дерри? Репида?
- Нет, не видел, если не считать того, что Репид перед посадкой останавливался перед табло аэропорта. Он был вот в этой куртке,- я кивнул в сторону шкафа, в котором висела грязная куртка погибшего уругвайца.
Инспектор неожиданно заинтересовался:
- Я заберу куртку. Она будет нужна…
Сняв куртку с вешалки, он ощупал ее, потом бросил дежурному, не переставая задавать мне вопросы. Его интересовало буквально все: час вылета, погода, количество пассажиров, возраст Репида. Казалось, он мысленно перебирал варианты, отбрасывал их, искал новые- строил рабочую схему. Так я ему и сказал - рабочую схем у…
- Мы всегда начинаем с голого места,- вздохнул инспектор.- Специфика службы… Ну теперь все. Благодарю вас за помощь. Рад сообщить, что банк Хента подтвердил ваш счет. Вам следует переодеться,- он критически осмотрел меня.- Манаус - большой и цивилизованный город. Дежурный принес вам белье и билет на самолет.
- Спасибо.
Инспектор вышел. Лицо дежурного сразу приняло благодушный вид.
- Я тоже рад,- почему-то сказал он, выкладывая на стол содержимое большого свертка.- Тут все белье, костюм. Если что-нибудь окажется тесным или большим, мы попробуем заменить. Но выбор, к сожалению, не велик. Пополнять придется в Манаусе.
Когда он двинулся к выходу, я чуть не спросил - где же* я нахожусь, если в Либейро нет никакой обсерватории? Но сдержался, тоже не знаю - почему. Только попросил карту. Он принес ее и ткнул толстым пальцем в зеленое пятно:
- Наш Либейро. Мелкий, очень мелкий поселок, даже на карте не обозначен. А это Манаус. Вас здорово будет бросать над сельвой, самолеты у нас маленькие.
Я неодобрительно хмыкнул:
- Другого транспорта нет?
- Только катер. Но рекой добираться долго,- он покачал головой.- Очень долго.
Оставшись один, я внимательно изучил карту, на которую был нанесен приличный кусок Бразилии. Но с таким же успехом я мог всматриваться в очертания Антарктиды - как найти поселок, не обозначенный даже точкой? Привязок у меня не было.
Бросив свое бесполезное занятие, я попытался угадать - кто доставит меня к самолету, и оказался прав: все тот же неразговорчивый водитель. На этот раз он мне не понравился. Не понравилось его лицо, тяжелое, широкое, с таким же тяжелым и широким лбом, наконец, глаза за темными очками. Мощные мускулы, отчетливо угадывающиеся под тонкими рукавами рубашки, будто подчеркивали какую-то его обособленность от таких, как я, привыкших больше к кабинету, а не к путешествиям, людей, А машину он гнал так, что я вынужден был вцепиться в кресло.
- Мы опаздываем?
Он будто ждал этих слов. Притормозил, повернулся! открыл дверцу:
- Вы видели когда-нибудь цаплю эгрет?
У меня сразу отлегло от сердца.
«Ты становишься невозможен,-сказал я себе.- Невозможен и подозрителен. Слишком подозрителен… Этот парень, несмотря .на отталкивающую внешность, больше, конечно, придуманную мной, в сущности отнюдь не плох…» Вслух я проговорил:
- Только в зоопарке.
- Это совсем не то!
Видимо, увлечение водителя было глубоким. Заглушив мотор, он сунул ключ в карман и повел меня по узкой тропинке в самую глушь, в сырое и душное сплетение веток.
Но зрелище, увиденное нами, стоило плохой тропы!
На песчаной полоске открытого солнцу берега, будто облачка, разгуливали белые длинноногие птицы, важные, как сенаторы. Невозможно было смотреть на них без улыбки, и, наклонившись над обрывом, я с удовольствием наблюдал за каждым движением цапель. Только легкий шум, будто на дороге, оставленной нами, вдруг пророкотал мотор, заставил меня обернуться.
- Господи! - беспомощно произнес я.- Что вы собираетесь делать?
Водитель, чуть наклонившись, сделал шаг ко мне, и я увидел в его руке нож.

Отступив, я прижался к теплому стволу голого дерева. «Это все! - успел подумать я.- Уходить некуда!..»
Но когда водитель прыгнул на меня, из-за кривого ствола умирающей, задушенной лианами пальмы асаи хлопнул негромкий, как детская хлопушка, выстрел.
Изумление, исказившее лицо водителя, изумление, смешанное со страхом, не могло меня обмануть - жертвой оказался не я…
Но кто был стрелявший?
Вскрикнув, я бросился бежать по тропе, сбивая рукой хлещущие по лицу листья.
На дороге не было никого. Никаких следов. Ни отпечатка шин, ни капель масла. Мертвая, страшная тишина сельвы, хотя я на библии мог поклясться, что несколько секунд назад слышал шум мотора.
Ключ зажигания остался в кармане водителя. Пошарив в куртке, я нашел мелкую монету и сумел вернуть мотору «джипа» жизнь. Руки дрожали, нога никак не могла попасть на педаль. Наконец, я все же сдвинул машину, дал газ, вылетел за поворот и… сразу резко затормозил.
Плотной стеной стояли передо мной деревья.
Дорога обрывалась на узкой бетонной площадке, и дальше пути не было!
Возвращение
Главное, успокоиться!
Я вытер платком лоб и настороженно уставился на заросли, будто там все еще прятался мой спаситель, но и убийца одновременно.
«Вы видели когда-нибудь цаплю эгрет?» - вспомнил я голос водителя. Лживый, холодный голос - не понять это мог только идиот вроде меня.
И внезапный выстрел!
Стреляли не в меня, хотя я был лучшей целью, чем водитель, полуприкрытый от стрелявшего ветвями.
Развернув «джип», я приоткрыл дверцу, вылез на горячий бетон. Терпеливо осмотрел сиденья, багажник. Обычно багажники таких автомобилей забиты канистрами, камерами, ветошью, но этот был пуст, как в первый день творения.
Я вновь взялся за руль.
Куда я попал?
Хорхе Репид, Дерри… Бородач и компадре… Дежурный и инспектор… Наконец, этот блеф с отправкой в Манаус… У меня голова шла кругом.. Что это за обсерватория? Не одна ли из тех фирм, что, запрятавшись в укромном месте, производит наркотики?.. Вряд ли. Зачем прятаться в сельве? Каменные джунгли Сан-Пауло или Рио удобнее…
«Сумерки»… Я невольно усмехнулся.
Проезжая под каменной, слепой, как скала, стеной обсерватории, подумал - кем она заселена, кроме дежурного и инспектора? Почему никто не выйдет, не остановит машину?
И опять усмехнулся: с одной стороны река, с другой сельва. Куда я уйду?
Но уйти я решил твердо. Остановил «джип» на пустом пирсе, закурил, еще раз обыскал машину. Перерыл все уголки, заглянул под капот, под сиденья, но, кроме сумки водителя с сигаретами и термосом с кофе, ничего не нашел.
Под легким крытым навесом аккуратно стояли весла. Взяв пару, я бросил их в привязанную к скобе лодку. Я никому не давал никаких обещаний, с меня не брали подписок, я волен сам выбирать свой путь. По крайней мере, оставаться там, где на тебя покушались, бессмысленно… И в последний раз бросив взгляд на бетонные стены, на «джип», сиротливо застывший под ветками фуксий, я решительно оттолкнул лодку от берега.
Весла скрипели. Я бросил их, предоставил себя течению. До боли в глазах всматривался в свисающие повсюду воздушные корни мангров.
Будут ли меня преследовать? Скоро ли обнаружат «джип»? Скоро ли найдут тело водителя? Как оправдываться, если меня обвинят в убийстве?
Я поежился, вспомнив, как странно и страшно шуршал песок, стекая на труп свалившегося с берега водителя…
А шеф!
Я с раздражением вспомнил о шефе. Он раньше меня узнал о том, что в Либейро нет никаких обсерваторий. Но это его ничуть не смутило!
Впрочем, шеф тоже не знал, где я нахожусь. Иначе я сидел бы сейчас не в лодке, а в резиденции Фила Симонса и слушал бы не тишину, а брань репортера по поводу загубленных сыростью пленок.
Смеркалось.
Увидев большой остров, я причалил. Он порос пальмами, но вдоль берега тянулась неширокая каменистая полоса, и я вытащил лодку повыше, надежно укрыв ее за кустами. Теперь, если река выйдет из берегов, лодку не унесет. Сигареты у меня были, и был кофе. Я хотел открыть термос, но странные звуки - будто невдалеке проволокли по камням что-то металлическое - заставили меня привстать, осторожно выглянуть из-за кустов. Я не ошибся - на острове были люди. Они вышли из длинной деревянной баржи, причалившей чуть ниже того места, которое и я выбрал для высадки, и теперь разгружали явно тяжелые, плоские ящики.
С реки сверкнул фонарь. Раз, другой… Кто-то крикнул по-испански:
- Где Верфель?
- Еще не пришел,- ответили с берега.
Затаившись, я следил за людьми. Можно ли им открыться?… Ругаясь, один из них пошел берегом в мою сторону и сразу наткнулся на лодку.
Теперь можно было не прятаться. Я спустился по плоским камням и окликнул неожиданных гостей. Они повернулись ко мне и замерли, как перед Курупури.
Все пятеро были почти одного роста и в одинаковой форме - полосатые полотняные рубашки, шорты, тяжелые башмаки. Ближайший ко мне, рыжий, веснушчатый, с глазами, под которыми отчетливо набрякли мешки, сунул руку в карман, сплюнул, резко спросил:
- Что ты делаешь на острове?
- Ловлю рыбу.
Они переглянулись. Моя ложь была очевидна.
- Ты один?
- Жду товарищей.
- Не лги. Не будь виво!
Они принимали меня за проходимца - виво. Но это было лучше, чем снова попасть в обсерваторию со столь странным названием. А неизвестные вновь спрашивали меня:
- Чем ты ловишь рыбу? Ты кто? Твои товарищи - они тоже рыбаки? Их много? Или их совсем нет?
Один из них, нервничая, ткнул меня в бок кулаком.
Но на реке снова сверкнула мигалка, и они забыли обо мне. Да и я обо всем забыл, потому что по реке медленно двигалась… субмарина! Вот оно - начало легенд о боиуне, обманывающей индейцев и серингейро!
Медленно, с какой-то даже торжественностью субмарина миновала остров и вошла в широкую протоку. Я напрасно искал взглядом опознавательные знаки. Их не было.
А потом из протоки выскочил катер. Вслед за накатившим на берег валом он мягко ткнулся в песок, и с борта спрыгнул компадре - тот самый, что вывел меня из сельвы. И я услышал, как, указав в мою сторону рукой, он спросил:
- Кто это?
- Виво! - заявил рыжий.- Спроси, Отто, зачем он на острове?
Верфель, именно так звали прибывшего, подошел и холодными пальцами задрал вверх мой подбородок.
- Компадре…- он узнал меня.- Не думал увидеть тебя так быстро.- Последние слова он явно подчеркнул.
- Этот человек - виво! - повторил рыжий.
Верфель не ответил рыжему, поманил меня пальцем, отвел на берег, к катеру, и тут, пристально и холодно уставившись на меня, спросил:
- Что видел?
Я пожал плечами. Верфель говорил по-испански, но в речи его явственно слышался акцент.
- Вы иностранец? - спросил я.- Немец? Из латифундистов?
- Моя родина - «Сумерки»,- холодно заметил он.
Его тон меня возмутил:
- Я помню, что примерно так сказал в свое время химик Реппе, ставивший опыты на людях в стенах концерна «ИГ Фарбениндустри». Он скупал польских женщин по сорок марок за каждую и еще находил, что это дорого. А на допросе сказал: «Моя родина - «ИГ Фарбениндустри»…
Верфель холодно усмехнулся. Он не придал моим словам никакого значения. Отвернулся, раскурил сигарету, а потом ровным, бесцветным голосом заметил:
- Безопаснее всего спускаться по реке утром.
И вдруг мне показалось… Вдруг мне действительно показалось, что Верфель ждет… Что он ждет удара!.. И я, правда, мог ударить его, ударить, а потом угнать катер, и вряд ли меня смогли бы догнать.
Но ударить человека, стоящего ко мне спиной, я не мог. Я вообще не мог ударить человека. Это не было трусостью. Мне мешал целый комплекс весьма серьезных причин.
Время ушло.
- Бор! - крикнул Верфель.- Проводи виво!
И, повернувшись ко мне, презрительно процедил:
- Я не имел чести знать Реппе. Но в ответе его есть достоинство.
Недовольно ворча, рыжий спустился к катеру.
- Виво! - выругался он.- Безродный бродяга!
Катер медленно сносило течением. Верфель с берега взглянул на нас, но ничего не сказал. Дождался, когда заработает мотор, и поднялся к работающим наверху людям.
Недалеко ушел я от обсерватории - часа через два катер ткнулся носом в пирс.
- Иди, виво! - раздраженно выругался рыжий.
Он не собирался меня провожать. Мало того, тут же оттолкнул катер от пирса и исчез в темноте. Я остался один, и ничто тут за это время не изменилось - даже «джип» стоял там, где я его оставил. Минуту подумав, я шагнул к навесу, под которым хранились весла, но там, под навесом, вдруг проявилась неясная угрожающая тень… Что ж… Я влез в машину и дал газ.
Дежурный встретил меня у лифта.
- Меня просили проводить вас в музей,- добродушно, с тайным укором произнес он.- Ваша комната занята.
- Гости? - не без иронии спросил я.
Он не ответил. Улыбнулся. Он, кажется, действительно ничего не знал, ничего не подозревал. И предложи он мне билет до Манауса, я бы, наверное, растерялся.
Ах, да, билет!
Я вытащил билет из кармана и протянул дежурному. Он покачал головой.
- Думаете, пригодится? - спросил я.
- Разумеется.
В лифте дежурный был крайне предупредителен. В музей не вошел, но я слышал, что лифт ушел не сразу,
А потом в темном помещении, где я оказался, вспыхнул свет.
Я вздрогнул.
На стене, прямо передо мной, была начертана огромная свастика.
Музей
Будь свастика в другом месте, я принял бы ее за солярный знак. Но тут, пауком распластавшись на стене, она занимала слишком видное место, чтобы придавать ей столь невинный смысл. Другую стену занимали портреты и огромная карта полушарий. Больше в зале ничего не было. Даже стула.
Пока я медленно шел к портретам, в памяти одно за другим всплывали имена нацистских преступников, скрывшихся от суда после падения третьего рейха. Рудольф Хесс - комендант Освенцима. Арестован только весной 1946 года… Эрих Кох - рейхскомиссар Украины. Арестован только в 1950 году… Рихард Бер - преемник Хесса в Освенциме. Арестован только в 1960 году… Швамбергер - палач славян. Арестован в 1972 году… Клаус Барбье - начальник гестапо в Лионе. Арестован в 1973 году… Этим не повезло. Как не повезло и Менгеле, и Эйхману… Но процветал же после войны Гейнц Рейнефарт, скрылся же Борман!

Я вспомнил сенсационные шапки в газетах, оповестивших мир в 1972 году о том, что Мартин Борман, один из самых активных нацистских вождей, жив и ведет жизнь процветающего бизнесмена. Об этом заявил американский журналист и разведчик Л. Фараго, по версии которого Мартин Борман, бежавший из гитлеровского бункера незадолго до падения третьего рейха, добрался до Латинской Америки и канул в небытие лишь для широкой публики. Не случайно текст последней телеграммы Бормана, отправленной из рейхсканцелярии, гласил: «С предложенной передислокацией в заокеанский юг согласен. Борман». Об этом же заявил во Флоренции итальянский историк Д. Сусмель. Ссылаясь на сведения, полученные от бывшего агента германской секретной службы Хосе Антонио Ибарни, Д. Сусмель сообщил, что Борман сумел добраться до Испании, а оттуда, прихватив приличную сумму из фон-да нацистской партии, отбыл в Аргентину на испанской подводной лодке… Перес де Молино в Аргентине, Мануэль Каста Неда и Хуан Рильо в Чили, Альберто Риверс и Освальдо Сегаде в Бразилии - под всеми этими именами, по сведениям Д. Сусмеля, скрывался долгие годы один и тот же человек - Мартин Борман.
А 1959 год?
В центре кельнского проспекта Ганза-ринг стояла статуя, воздвигнутая в память немцев, расстрелянных нацистами в последние дни рейха. В ночь на 25 декабря 1959 года памятник был осквернен, и в ту же ночь на зданиях десятков городов Западной Германии - от Гамбурга до Мюнхена - невидимые руки начертали знак свастики. Мало того, нацистская волна прокатилась по Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании, Австрии… Стоило раздаться сигналу из Кельна, как он был подхвачен во многих странах, не только в европейских, но и в латиноамериканских… Впрочем, это не удивительно. Разве не звучит как заповедь одна из директив бывшего руководителя заграничных организаций НСДАП обергруппенфюрера СС Эрнста Вильгельма Боле своим ландесгруппенлейтерам: «Мы, национал-социалисты, считаем немцев, живущих за границей, не случайными немцами, а немцами по божественному закону. Подобно тому, как наши товарищи из рейха призваны участвовать в деле, руководимом Гитлером, точно так же и партайгеноссе, находящиеся за границей, должны участвовать в этом деле».
«Но,- беспомощно сказал я себе,- при чем тут я - Маркес, научный обозреватель «Газет бразиль»?» Да, по специфике своих занятий я знал, что в нашу страну стеклись сотни недобитых деятелей третьего рейха. Знал, что в 1959 году у нас в Бразилии был задержан Герберт Цукурс, диктатор Латвии. Знал, что в Сан-Пауло полиция наткнулась на Венделя - руководителя гитлеровских передач на Бразилию во время войны, а также арестовала некоего Максимилиана Шмидта, работавшего долгие годы на Геббельса… Да, я это знал, но Мне и в голову не приходило, что все эти события так реальны и что я могу неожиданно лицом к лицу с ними столкнуться… Слишком далеким казалось мне все, связанное с третьим рейхом…
Законсервированный фашизм… фашизм, затаившийся до лучших времен… Я привык думать, что если кто и слушает в наши дни «Баденвейлерский марш», исполнявшийся когда-то только в присутствии Гитлера, то это, несомненно, чудаки или идиоты. Всякие «Британские союзы» Освальда Мосли или «Движения гражданского единства» Тириара и Тейхмана походили, в моем понятии, на нелепую и, конечно, временную игру. Опасную, плоскую, но игру… А я… Я никогда не играл, да и не желал играть в эти игры! Я растолковывал своим читателям, что такое тепловая смерть, как ведется борьба с пустынями, угрожает ли нам новый ледниковый период, одиноки ли мы во Вселенной, выдумка ли «горные люди», а неофашизм или эксфашизм всегда оставались хлебом для других журналистов…
Свастика раздавила меня.
С тяжелым чувством я подошел к портретам, ожидая увидеть Геринга, Гесса, Гитлера. Но изображенные на портретах люди были мне незнакомы. И подписей под ними не было.
Сами портреты были выполнены превосходно. Узнать имя художника - уже сенсация не из последних. Внимательно всматриваясь в манеру письма, в технику исполнения, я все более и более убеждался, что это не просто портреты отдельных личностей. Если так можно сказать, это был портрет идеи, коллективное выражение того, что каждый из выставленных тут внес в какое-то им одним известное дело.
Было в портретах и что-то гнетущее. Сила, против которой бесполезно выступать. Что, в конце концов, может человек перед надвигающейся на него бурей, когда еще нет ни ветерка, но тишина уж сгустилась и дышит глухой угрозой?.. Потом, когда рванет вихрь, когда тучи песка взмоют в воздух и ударят громы, можно бежать или сопротивляться, но ожидание… Ожидание всегда ужасно!
Я повернулся к стене, занятой картой мира, и наугад ткнул пальцем в одну из клавиш расположенного под ней пульта.
Карта ожила.
Разноцветные линии, извиваясь, наползали друг на друга, гасли и вспыхивали вновь. Особенно четко эта возня прослеживалась в Европе.
Я ткнул следующую. Не знаю, чего ожидал. Может, опять непонятной игры света. И не ошибся. В самых разных местах начали появляться бледные световые пятна. Они ложились без всякого видимого порядка на Францию, на Россию, захватили Индию, Австралию и Китай. Как солнечные зайчики, они пятнали карту, пока наконец некоторые районы мира не осветились полностью. И, синхронно световой эскалации, вспыхивали и исчезали на боковом табло цифры.
Я нажал клавишу вновь.
Первые вспышки пришлись на 1967 год. Их было немного. Следующая серия - на 1972. А с 1981 года вспышки пошли сплошными поясами, и к 1989 году чистой осталась лишь Антарктика да некоторые районы… Бразилии и Аргентины.
Несколько раз подряд я включал таинственную установку. Я должен был понять ее смысл! Угон самолета, убийца с обсерватории, суета на острове, это табло - связано ли все это?

И я вспомнил…
Конечно, не смысл дат, но страшную картину сожженной сельвы. «Вот где они могли сгореть…»,- сказал Отто Верфель, приняв, по всей видимости, меня за одного из тех парней в шелковых куртках. Сказал, раздвигая ветки и указывая на исполинские стволы, высушенные неземным жаром… Мне приходилось видеть, и не раз, снимки вьетнамских территорий, обработанных дефолиантами, полностью стерилизующими землю. Снимки, на которых распростерлись мертвые леса, лишенные зелени, птиц, насекомых…
Но вид убитой сельвы не шел со всем этим ни в какое сравнение.
Я перелистал мысленно подшивки «Газет бразиль», и профессиональная память услужливо подсказала мне упоминания о неожиданных и страшных засухах в некоторых районах Европы, Азии, Австралии… Включив табло, я убедился, что даты’ совпадают, и это открытие испугало меня больше, чем любое другое.
«Не торопись,- сказал я себе.- Когда чего-то не понимаешь, нельзя торопиться… Позвать дежурного?»
Я вспомнил билет до Манауса и усмехнулся.
Поворачиваясь, увидел еще один портрет. Человека, изображенного на нем, я знал.
Не только я, многие, очень многие знали это удлиненное лицо с мясистым носом и благородно лысеющей головой. В свое время оно было широко известно по снимкам, помещенным в самых разных газетах мира.
Всмотрелся.
Цепкий и умный взгляд, густые, почти сросшиеся брови, высокие залысины…
Зная этого человека, нельзя было оставаться в бездействии.
Я подергал дверь. Она не открылась.
Вспомнив приемы лифтеров, я сунул руку в отверстие против замка и нащупал ролик блокатора. Дверь медленно отошла, и я увидел перед собой жерло шахты. Здание обсерватории, действительно, было огромным…
Разглядывая стоящий далеко внизу лифт, я услышал негромкие, приглушенные расстоянием голоса. Они доносились сверху. И, решившись, вцепился в решетку, осторожно вскарабкался на следующий этаж.
Голоса смолкли. Видимо, разговаривавшие отдалились. И уже более решительно я скользнул в неширокий коридор, выведший меня на галерею, огражденную барьером из полупрозрачного пластика.
Глянув за барьер, я увидел людей.
Мусорная корзина
Наверное, зал этот служил чем-то вроде вечернего клуба. Люди сидели за широкой стойкой, заставленной стаканами и бутылками. Я видел только спины. Троих. В рубашках, рукава которых были аккуратно закатаны. Вентиляторы бесшумно крутились под потолком, рассеивая синеватый дымок хороших сигар.
Я прислушался.
Собравшиеся обсуждали какую-то биологическую теорию, связанную с человеком. Горячась, один из споривших, длинноволосый и горластый,- все, что могу о нем сказать,- говорил о неблагоразумности людей, о том, наконец, что в природном механизме человека эволюцией был допущен некий конструктивный просчет, которому люди и обязаны в итоге параноидными тенденциями.
- Не забывайте о мусорной корзине! - повторял он, стуча кулаком по стойке.- Природа безжалостна! Она выбрасывает вон все не оправдавшие себя варианты живых существ, в том числе и варианты человеческих видов!
Еще он говорил о некоей слабости внутренних сил, противоборствующих внутривидовому убийству, о том, что в животном царстве эта особенность человека поистине удивительна… Но именно она, подчеркнул он, оправдывает войны! Что уж тут философствовать о разрыве между интеллектом и чувствами, между прогрессом техническим и отставанием этическим!
Собственно, до меня долетали обрывки фраз. Я сам строил общую схему разговора. И странно, чувствовал себя разочарованным, будто и впрямь ожидал столкнуться с эсэсовцами…
Нет, они не походили на эсэсовцев. Они походили на ученых, решивших вместе провести уик-энд. С такими, как они, я не раз встречался в Лондоне, в Рио, в Париже, таких, как они, видел в конференц-залах и клубах, с такими, как они, обсуждал проблемы биметаллизма или смотрел футбол…
- Язык! - сказал длинноволосый.- Вот что мы всегда недооценивали! Человек - животное, создающее символы. А наивысшая точка символотворчества - семантический язык. Являясь главной силой сцепления внутри этнических групп, он является в то же время труднопреодолимым барьером, действующим как сила отталкивания между разными группами. Те четыре тысячи языков, что существуют в мире, и нужно рассматривать как причину того, что среди человеческих видов всегда преобладали силы не сцепления, а раскола…
Долге слушать их я не мог - меня могли обнаружить. Но когда я собрался уйти, третий, тот, что еще не произнес ни слова, повернулся.
Я сразу узнал его.
Человек с портрета - вот кто он был! Человек не совсем обычной биографии. Человек, с которым мне не раз приходилось сталкиваться. А имя его - Норман Бестлер.
В конце двадцатых годов он много путешествовал По странам Ближнего Востока, приобретя репутацию убежденного сиониста. В начале тридцатых попал в Германию, где вступил в Коммунистическую партию, однако быстро разменял левые взгляды на крайний либерализм. Тем не менее, знание коммунистических теорий и цепкий ум не дали ему утонуть, и он сказал свое слово в годы гражданской войны в Испании, воздвигнув из своих жестоких статей и памфлетов причудливое профашистское сооружение, в котором злостная выдумка соседствовала с реальными, всем известными фактами. В годы мировой войны он, правда, затерялся, исчез, сидел в какой-то своей берлоге, присматривался и думал. Зато после войны появился на политической арене вновь, торгуя идеями и мрачными утопиями, которые, надо отдать ему должное, он умел преподнести блистательно.
Бестлер взял стакан и отвернулся. Теперь я опять видел только его спину. Но мне хватило увиденного. Там, где был Бестлер, ждать следовало только неприятностей. И весьма крупных.
По той же решетке я опустился на свой этаж.
На портрете зоркие глаза Бестлера были написаны особенно выразительно. Именно так, высокомерно и в тоже время снисходительно, смотрел на меня Бестлер при получении в Риме премии Рихтера за лучший роман года.
- Мне кажется,- сказал он тогда,- все эти награды нужны лишь затем, чтобы с приязнью думать о несчастных, не сумевших их заслужить.
В этих словах он был весь.
Я устал. Очень устал. Даже стук в дверь не вызвал во мне интереса. Дежурный - это был он - покачал головой:
- Я пришлю вам кофе.
- Могу я выходить из этого зала?
- В любое время! - удивился дежурный.- Вы - наш почетный гость. Через полчаса сюда доставят необходимую мебель. И скажу по секрету: вам повезло- музей далеко не худшее место обсерватории. По крайней мере, самое безопасное.
- Безопасное?
- Именно так!
- Чему же я обязан?..
Он не уловил иронии. Или не захотел ее уловить. Пояснил:
- Разумеется, вестям от нашего Хорхе. Мне искренне жаль, что ваше знакомство с ним состоялось в крайних обстоятельствах.
- Я не доставлял никаких вестей,
- Вы слышали последние слова Дерри!.. Это важно. Очень важно. Можете мне верить!
Дерри… Он говорил о кудрявом террористе, труп которого остался в болоте… Но о каких вестях шла речь?.. Ах, да! Та пресловутая фраза, заинтересовавшая и инспектора… «Революция потеряла превосходного парня»!.. Могли ли эти случайные слова служить паролем? И для кого?..
Еще раз извинившись, дежурный ушел. Он сказал мне важные вещи, над ними стоило поломать голову. А через полчаса два здоровенных парня в рабочих комбинезонах притащили диван, стол, два кресла и молча указали - как пройти в ванную. Я пытался задавать вопросы, но они были сдержанны, как Верфель… «Если я гость,- невольно подумал я,- то гость на особом положении…
Мусорная корзина… Не попал ли в нее и я, Маркес?» Было нелегко оценить иллюзорные преимущества, предоставленные мне невидимыми хозяевами обсерватории… Задумавшись, я остановился у портьеры и машинально потянул за конец длинного шнура. Портьера медленно разошлась, открывая стекла, и почти сразу я услышал:
- Не делайте этого!
Атмосфера ненадежна
Это опять был инспектор.
Помогая мне закрыть портьеру, он повторил:
- Ничего не делайте без совета людей знающих. Это закон для гостей нашей обсерватории. И поймите,- он вежливо улыбнулся,- я закрываю портьеру не затем, чтобы лишить вас, согласитесь, столь однообразного вида на сельву, а всего лишь для безопасности. Вашей.
- Что мне может грозить?
- Сельва,- сказал он серьезно. И, помолчав, сменил тему: - Держу пари, вы не догадываетесь, зачем я пришел.
Он помолчал опять, предвкушая эффект.
- Меня попросили ответить на ваши вопросы. На все вопросы без исключения. Уверен, значение многих уже увиденных вами вещей вам неясно, а непонятное, как правило, толкает человека к необдуманным поступкам… Мы хотим помочь вам. Спрашивайте.
Я не удержался от улыбки. Кивнул на портреты:
- Кто они?
- Правильный вопрос,- удовлетворенно заметил инспектор.- Каждый из этих людей стоит отдельного разговора.- Он задумчиво обвел портреты взглядом.- Если хотите, начнем с Вольфа. Вам ничего не говорит это имя? - и укоризненно покачал головой.- Ведь вы научный обозреватель!.. Так вот, Вольф был человек открытый, радушный, а работы его были изложены так, что и сейчас доставляют удовольствие
специалисту. Он - физик, и занимался исследованиями спектра озона. Сказать по правде, немногие из научных статей читают через десяток лет после их опубликования. К этому времени, если работа важна, детали разрабатываются и улучшаются, и перечитывать оригинал, кроме историков науки, никому в голову не приходит. А вот работы Вольфа перечитывают. Они просты, они остроумны, как был прост и остроумен их автор. Я слышал рассказ о том, как горничная, опоздав на звонок Вольфа, объяснила это тем, что горячо обсуждала на кухне вопрос с одной из своих приятельниц - происходим ли мы все от Дарвина!
А это Джебс Стокс. Он выяснил такие вещи, как возрастание содержания озона в атмосфере с географической широтой, а в тридцать третьем году с помощью Митхама разрушил корпускулярную теорию, дав начало новой - фотохимической. Вы ведь знаете, что на высоте примерно пятнадцати-тридцати километров в нашей атмосфере располагается слой озона. Ничтожный, на первый взгляд, слой, но именно он задерживает жесткое излучение Солнца и Космоса. И вот парадокс! Хотя слой озона и является для нас естественной и очень важной защитой, с точки зрения астрофизика, существование его - преступление против науки, ибо именно этот слой скрывает от нас, людей, внешний мир. Находясь на дне воздушного океана, мы смотрим на звезды, как сквозь мутные очки, потому что озоновый слой задерживает самые интересные части спектров. Конечно, для решения некоторых задач можно поднимать приборы на спутнике, но для фотографирования спектров звезд инструмент все же должен стоять на прочной опоре. Есть лишь один выход… проткнуть дыру в озоновом слое и через нее глянуть в космос. И это не невозможно! Стокс понял и принял идею первый. Вот почему его портрет здесь!
Закурив, инспектор продолжил:
- Для того, чтобы несколько экспедиций успели сделать ряд наблюдений, дыра должна быть не уже сорока километров. Это означает, что мы должны прорвать озоновый слой на площади в тысячу двести - тысячу триста квадратных километров. Только тогда свет звезд достигнет земной поверхности без всяких искажений и попадет, например, в кварцевые спектрографы. Выгоднее создавать такие «дыры» ближе к вечеру, потому что солнечный свет ведет реакции, порождающие озон… Конечно, ультрафиолетовая часть солнечного излучения может доставить немало неприятностей, и медики непременно выразят свой протест. Но ведь есть голые ледяные пространства Арктики и Антарктики, есть пустыни. И кроме того,- инспектор задумчиво уставился на портьеру,- от излучения можно спрятаться…
Я не перебивал инспектора, ожидая удобного момента. Даже его слова о том, что практически несложно создать некие газообразные вещества - дезозонаторы (например, смесь водорода и аммиака), меня не поразили. Такие лекции я слышал не раз…
Уловив момент, я указал на портрет Бестлера:
- Он тоже физик?
- Нет. Скорее социолог. Вождь. Лидер. Он первый заговорил о том, что история - не наука. О том, что заключения, сделанные, к примеру, на основании изучения средних веков, сколь бы тщательно они ни проводились, не могут оказаться полезными в наше время.
- Насколько я помню, загар на коже вызывается именно ультрафиолетовым облучением?
Инспектор кивнул.
- И ваша обсерватория занимается озоновым слоем?
- Как частной задачей,- поправил меня инспектор.-: Всего лишь частной задачей.
- Так при чем тут история? И что делает социолог в компании физиков?
Инспектор улыбнулся:
- Серьезный вопрос. Настолько серьезный, что ответит на него вам…
- …сам Норман Бестлер?
- Да. Остальной мир знает его именно под этим именем.
- О каком мире вы говорите?
- Из которого вы прибыли.
«Маньяк! - подумал я.- Неужели тут все такие?»
- А Репид и Дерри… Они тоже социологи? Или физики? Из какого мира они?
Инспектор не смутился:
- Они патриоты! Миры, Маркес,- он, оказывается, знал мое имя,- миры, Маркес, не могут не иметь промежуточных звеньев. Разве не так?.. Эти парни, о которых вы вспомнили, выполняли очень ответственное задание. Настолько ответственное, что даже вы, пусть и невольно, решили помочь им… Конечно,- улыбнулся он,- не всегда и не везде человек может довести до конца свою миссию. Нашему Хорхе это удалось.
Он поставил меня на место. Мог и не улыбаться, я понял… И, поняв, уловил наконец связь между угоном самолета и обсерваторией «Сумерки», между сожженной сельвой и дырой в атмосфере, даже между попыткой меня убить и попыткой сделать из меня сообщника в еще непонятном мне деле.
Ночью я думал именно об этом.
Несколько раз стены обсерватории вздрагивали, как от легкого землетрясения. Встав, я раскрыл портьеру. Сквозь плотную завесу листвы ударила яркая вспышка, похожая на близкую зарницу или… на запуск ракеты.
Где в эту ночь наступила моментальная засуха?

Гость
Казалось, обо мне забыли. Несколько томительных и тревожных дней я провел наедине с портретами. То, что теперь я знал имена изображенных на холстах людей, меня нисколько не успокоило. «Зачем,- думал я,- мне разрешили связаться с шефом? Чтобы где-то в том, в остальном, мире вдруг всплыло название мифической обсерватории? И зачем от меня так скоро решили избавиться, приставив ко мне любителя цапель эгрет? И почему все эти планы так быстро, и резко изменились? И, наконец, почему так странно вел себя на реке Отто Верфель? «По реке безопаснее всего спускаться под утро…» Неужели он думал, что я и впрямь сбегу?.. И от кого мне надо бежать, находясь на территории своей собственной страны?
Сумерки… Сумерки… Сумерки… Время нарушения некоего природного равновесия, время, когда человек перевозбужден, когда им владеет печаль, а то и тревога… Странное название для обсерватории. И не на название это похоже, а на код…»
Подняв портьеру, я посмотрел в широкое, закрытое необыкновенно толстым стеклом, окно. Зелень, пятна фуксий, чуть видимый край бетонной дорожки. Я никогда не видел на ней никого живого.
И вдруг увидел людей!
Они не торопились, и я невольно позавидовал их определенности и спокойствию.
Первым шел уже знакомый мне инспектор. Он казался очень официальным, очень прямым, хотя и не сменил своего штатского костюма. Рядом мерно печатал шаг длинноволосый, утверждавший в «клубе» генетическую предопределенность войн. Третьим был Норман Бестлер, на лице которого читалось крайнее удовлетворение. Я невольно подумал - кого и чем он удивляет сегодня?
Я вспомнил, как был раздосадован, даже взъярен Бестлер, когда однажды в Сан-Пауло в ночном дискуссионном клубе студенты стащили его с трибуны.
В тот вечер Бестлер чуть ли не впервые заговорил перед широкой публикой о новой нейрофизиологической гипотезе, которая, по его словам, сама собой, без всяких натяжек, вытекала из общеизвестной теории эмоций, предложенной в свое время Папецом и Мак-Линном и подтвержденной якобы многими годами тщательной экспериментальной проверки. Бестлер говорил о структурных и функциональных отличиях между филогенетически старыми и новыми участками человеческого мозга, которые если и не находятся между собой в состоянии постоянного острого конфликта, то уж, во всяком случае, влачат самое жалкое, самое тягостное сосуществование.
- Человек,- говорил Бестлер,- находится в несколько затруднительном положении. Природа, в сущности, наградила его тремя мозгами, которые, несмотря на полнейшее несходство строения, должны и вынуждены функционировать совместно. Древнейший из трех- мозг пресмыкающихся, второй унаследован от млекопитающих, и только третий относится к достижениям собственно высших млекопитающих. Именно он, этот третий мозг, и делает человека человеком. Выражаясь фигурально, когда психиатр предлагает пациенту лечь на кушетку, он тем самым укладывает рядом человека, лошадь и крокодила. Замените пациента всем человечеством, а больничную койку - ареной истории, и вы получите драматическую, но, по существу, верную картину… Именно мозг пресмыкающихся и мозг примитивных млекопитающих, образующие так называемую вегетативную нервную систему, можно назвать для простоты старым мозгом, в противовес неокортексу - чисто человеческому мыслительному аппарату, куда входят участки, ведающие речью, а также абстрактным и символическим мышлением. Неокортекс появился у человекообразных примерно полмиллиона лет назад и развился с быстротой взрыва, беспрецедентной в истории эволюции. Скоропалительность эта привела к тому, что новые участки мозга не сжились как следует со старыми, и накладка оказалась весьма чреватой последствиями: истоки неблагоразумия и эгоизма - вот что мы носим в самих себе, вот она, бомба, избавиться от которой мы не можем, вот он, изъян, допущенный в нас самой природой!..
Именно после этих слов студенты, недовольные тем, что Бестлер приравнял их мозги к мозгам лошади и крокодила, вместе взятых, стащили его с трибуны.
- Зачем вы дразните людей? - спросил я Бестлера на пресс-конференции, состоявшейся в тот же вечер. Но он мне не ответил. «Ноу коммент!» Только легкая насмешливая улыбка чуть приподняла уголки его красивых губ.
Сейчас Бестлер шел чуть в стороне от группы, но если бы даже он возглавил ее, центральной фигурой все-таки остался бы человек, явно не чужой в этих стенах.
Плотный, невысокий, он тяжело ставил ноги на бетон и высоко задирал круглую голову с крючковатым носом и большими залысинами на лбу. Губы его были плотно сжаты, я видел это даже на расстоянии. И, рассмотрев гостя обсерватории, я вдруг ощутил подлое чувство зависимости и страха, потому что мне показалось, что я узнал… Мартина Бормана!
Каждый из нас от кого-то и от чего-то зависит. От частных лиц и от государства… Связи эти взаимны, но в определенный момент одни из них подавляются другими. Именно тогда человек становится способным на поступки, классифицируемые как антисоциальные, поскольку узы дисциплины, долга, морали, этики оказываются вдруг порванными… Увидев человека, который давно стал страшным, злобным мифом Европы, я понял, что не Бестлер и не его окружение держали меня в музее со свастикой, а этот грузный нацист, никогда не слышавший о моем существовании.
Был ли это, действительно, Борман?
Поручиться не могу. Я видел его минуту, от силы - две, а потом вся группа исчезла в зарослях… Но кто бы ни был этот человек с залысинами на лбу и крючковатым носом, опасность исходила от него, и обсерватория наверняка не случайно носила свое сумрачное название…
Цель
Ночью за мной пришли.
Они даже не постучались. Подняли меня на ноги, заставили одеться и долго водили по лестницам и галереям, ни разу не воспользовавшись подъемником. По моим расчетам, вершина обсерватории обязательно должна была подниматься над сельвой, но когда мы оказались в полустеклянном куполе, все та же листва, те же ветки колотились в переплеты металлических рам.
В самом конце глухой крытой галереи меня втолкнули в резко растворившуюся дверь, и я оказался в огромном кабинете со стеллажами, заставленными бесчисленным количеством книг и скульптур. В центре этого интеллектуального рая, за круглым столом, символизирующим центр кабинета, а может, и Вселенной, сидел Норман Бестлер, с самым сердечным видом поднявшийся мне навстречу.
- Неожиданно? - спросил он меня, явно забавляясь эффектом.
Не ожидая приглашения и не отвечая, я сел. Это его ничуть не задело. Минуты две он с любопытством изучал меня, потом потряс сжатой в руке кипой газетных вырезок:
- Догадайтесь, что это?
- Я устал от догадок.
Он рассмеялся:
- Отдохнете! Успеете отдохнуть!.. Это ваши обзоры, Маркес! И знаете… Кое-что мз них запоминается! Немногое, правда, но это уже не ваша вина. Газета, как правило, живет один день, хотя и рассчитана на миллионы читателей. Миллионы! Возможно, это и есть компенсация всего одного дня жизни!
Он ни на секунду не спускал с меня цепкого взгляда.
- Мне не сразу сообщили о вашем появлении, Маркес. Отсюда и несчастный случай с водителем «джипа». Это был нечистоплотный человек, надеюсь, вы его не жалеете. Я рад, что присматривал за вами мой человек- Верфель. Он вовремя принял меры. На ваш взгляд, они, возможно, слишком жестоки, но иначе нельзя.
От добродушия Бестлера не осталось и следа. Он смотрел на меня в упор, и мохнатые брови медленно двигались над глазами.
- Нелегко, Маркес, определить судьбу человека. Такие люди, как вы, излишне экспансивны, чувствительны. Это плохо. Это требует контроля, особенно в местах, закрытых для людей из остального мира. Мне сразу посоветовали вас убрать.
- Убрать?! - не выдержал я.
- Да,- повторил Бестлер.- Убрать. Но я не согласился с этим мнением. Я хорошо помню наши встречи, ваши книги и интервью. Сам господь озаботился тем, чтобы свести нас снова. Обратного пути у вас нет. Волею обстоятельств вы доставили нам пароль от людей, работающих на нас в остальном мире. Час пришел! Не без вашей помощи, Маркес, мы приговариваем почти треть человечества к очищающему сожжению. Да, да, сожжению!.. Захотите ли вы, подумал я, вернуться в мир, который вы невольно предали? Да и что вам делать в каменных пещерах, среди людей, лишенных тени естественности? Вы сами по себе - лжец, убийца, потребитель. И если, Маркес, лучшие среди вас таковы, то что говорить о худших? Ваш мир, я называю его остальным миром, обречен! В самом ближайшем будущем он подвергнется очистительной операции. Но это будут не костры славянских раскольников, и не антисанитарная чистка инквизиции, и не то, чем занимались люди третьего рейха! - он торжествующе усмехнулся: - Далеко не то! Третий рейх и про-играл-то потому, что уничтожал противников вручную и непосредственно. А ничто так не отталкивает людей от идеи, как ручной труд. У нас, Маркес, будет иначе. У нас ножом станет Солнце. У нас умирающие будут покрываться красивым загаром, не понимая, что это и есть смерть. Только так, смертью, можно остановить человечество, обманувшее себя тем, что так долго называлось техническим прогрессом… Зачем, Маркес,- вкрадчиво спросил Бестлер,- поощрять развитие науки и техники, если они и так проникла во все области жизни? Человечеству необходим отдых! Человечество нуждается в неторопливом развитии, в естественном развитии, Маркес! Вы знаете, куда вас привела спешка. Даже пищу свою вы превратили в отраву. Вы так заразили землю, воду и воздух, что с белым хлебом глотаете перекись бензола, с маслом - пестициды, с яйцами- ртуть и линдан, с джемом - бензойную кислоту и пербораты. Я уж не говорю о маргарине с его антиоксидантами, о беконе и маринадах, начиненных полифосфатами и гексаметилентрамином. Согласитесь, Маркес, если мы хотим видеть внуков не идиотами, за дело браться нужно сейчас!
Довольно улыбнувшись произведенному эффекту, Бестлер продолжил:
- Подумав, я нашел вам место. У нас, в «Сумерках», найдется место любому достаточно талантливому и решительному человеку, а вы нам особенно нужны. Вы ведь знаете, люди органически не умеют прислушиваться к первым приказам. Их надо для начала ошеломить! В конце концов, даже мы не желаем излишних жертв. Вот почему, Маркес, я вернул вам свободу! Да! Да! - заметил он мой недоверчивый взгляд.- Через неделю-две, пройдя специальную обработку, вы вернетесь в остальной мир. Я .рад тому, что ваше имя в нем знают. Продолжайте свой труд и следите, что делается в мире. Время от времени будут рушиться правительства, время от времени будут гибнуть большие группы людей, может, целые народы. Пусть вас это не смущает и не сбивает с толку. Именно тогда вы нам и пригодитесь. Вы станете выступать перед людьми, давая им понять, что никто из тех, кто нам нужен, не будет брошен на произвол судьбы. Мы купим и отдадим вам все крупные газеты. У вас будут радиостанции и телецентры. Вы станете пастырем человечества,
Маркес, а обсерватория «Сумерки» - вашим бичом. По вашим рекомендациям мы будем вскрывать вены неба, уничтожая лишних, только лишних людей. Разве не настала пора вернуть миру его первозданную чистоту, а человечеству - истинную свободу?
- И вы можете принять такое решение самостоятельно?
- Не будьте наивны, Маркес! Один из парадоксов нашего времени в том и заключается, что самые ответственные решения принимает горстка людей. И тайно!.. Вам нужны примеры? А решение форсировать создание атомной бомбы, принятое Англией и Америкой в 1940 году? А решение использовать эту бомбу в 1945? А решение поставить на вооружение межконтинентальные ракеты?..
Я уже не слушал Бестлера. Передо мной будто открылась карта. Нет, не карта, глобус. И не глобус, а земной шар. И он показался мне бедным загнанным животным, защищенным лишь тонким плащом атмосферы, ненадежным тонким плащом. И я видел дыры в этом плаще, и чувствовал жесткое излучение, врывающееся в эти дыры. И мертвые города. Целые мертвые страны. И, наконец, общество, обреченное на «естественное развитие»…
Но мучило меня и еще что-то. Я не мог понять - что? Копался в себе, искал. И когда нашел, ужаснулся самому себе, ибо понял, что, несмотря на унизительность моего положения, несмотря на мой страх, где-то в самой глубине души, в темных недрах своего подсознания, я был польщен предложением Нормана Бестлера!
- Вы устали,- вдруг сказал он.
Я кивнул.
- Отдыхайте,- мягко и понимающе произнес Бестлер.- И пусть музей покажется вам уютным. Там вы в безопасности, так же, как и везде среди нас. И пусть эта мысль поможет вам в выборе.
Ночь
Я не спал. В мозгу моем рисовались вереницы звездных миров. Они пульсировали, как живые, извергая энергию бесконечно огромную, и жесткий звездный ветер мчался к Земле, к ее тонкой, к ее такой ненадеж-ной атмосфере, под которой Бестлер и Борман ожидали своего часа, чтобы проткнуть ее и впустить в мир красивую, покрытую нежным загаром, смерть… Да, им не нужны были табун, зарин, зоман, монурон, инкапаситанты, вызывающие кашель, ожоги, слезотечение, паралич, мигрень, сумасшествие, им не нужны были грохочущие, пропахшие бензином и смертью, танки, им не нужны были виселицы и ракеты. У них был свой нож - Солнце! И когда я подумал, что Бестлер, по непонятным причинам, выделил из многих именно меня, мне стало страшно.
Ковентризованный, всплыло в памяти… Ковентризованный город… Этот термин нацисты ввели после того, как в 1941 году массированным ударом их бомбардировщики стерли с лица земли английский город Ковентри… Ковентризованная планета… Ковентризованная душа… И это есть естественное развитие?!
Они вторглись даже в мечту, подумал я о Бестлере и его людях.
Но я вспомнил и друзей. Не тех, кто встречал меня на пресс-конференциях, надеясь, что имя их попадет на страницы газет, а тех настоящих, которых я мог пересчитать по пальцам. Друзей, к мнению которых я прислушивался. Друзей, слова и поступки которых много для меня значили. Они были умны, сильны, дружны - мои друзья, но как часто на их пути вставали косность, непонимание, эгоизм, начала которых терялись в неизвестности! И как часто они - мои друзья - терпели неудачи только потому, что дорогу им перебегали крысы. Коричневые, серые, черные крысы!
Вспомнив друзей, я не мог не подумать о мире. О мире, который всегда был моим домом и в котором уже давно завелись крысы. Крысы респектабельные, умеющие улыбаться, ценить шутку и музыку, понимать живопись. Со многими из этих крыс я встречался в кафе и в барах, брал у них интервью. Просто в голову мне не приходило, что они - крысы. Они умели так красиво улыбаться, так красиво есть, говорить, что не легко было понять суть их игры, увидеть то, что прячется за этой игрой - чуму…
Крысы! Сколько же их развелось!
Англия - «Британский союз» Освальда Мосли, «Национальный фронт» Эндрью Фонтэйна, «Лига защиты белых» Колина Джордэна…
Бельгия - «Фонд святого Мартина», «Бельгийское социальное движение», «Центр контрреволюционных исследований и организаций», «Движение гражданского единства» Тириара и Тейхмана…
Голландия - «Европейский молодежный союз», «Нидерландское молодежное объединение», ХИНАГ - объединение бывших голландских служащих войск СС, «Национально-европейское социалистское движением Пауля ван Тинена…
Франция - ОАС и ее филиалы, «Французское народное движение», «Революционная патриотическая партия», «Международный центр культурных связей», «Молодая нация», «Партия народа», пужадисты, «Бывшие борцы за Алжир», «Бывшие бойцы за Индокитай»…
Швейцария - «Новый европейский порядок» Гастона Армана Ги Амадруза, «Народная партия»…
Швеция - «Новое шведское движение» Пера Энгдаля, «Шведский национальный союз», «Северная имперская партия»…
Финляндия - «Финское социальное движение», «Финская национальная молодежь», «Вьеласапу» - объединение бывших эсэсовских служащих…
Сколько крыс!
А ведь это только часть мира. Есть еще ФРГ, Испания, Родезия, Парагвай, Аргентина, Чили, США!.. Сколько их, этих партий? И от кого, наконец, пришел пароль, который мне выпало несчастье услышать и доставить в обсерваторию?
Я не мог остаться в стороне. Не имел права оказаться в числе тех, кто был задушен, заколот, застрелен крысами. Я должен был выжить! Несмотря ни на что - выжить!
«Господи!-думал я.- Я не хочу быть бичом в руках Аттилы, Цезаря, Гитлера или Бестлера. Не они движут миром! Они - препятствие… Мир движем мы - я, мой отец, репортер Стивенс, мастер Нимайер, парни из Бельгии и Америки, не попавшиеся на чумную приманку…» Я перечислял имена, а потом стал думать о миллиардах цветных и белых, обреченных на гибель, пусть даже и столь необычную.
Но думать о миллиардах было трудно. Масштабы сбивали. И я стал делить миллиарды. Отдельно поставил человека, сказавшего, что я ему по душе. Отдельно тех, у кого я учился. Отдельно тех, кого любил и уважал. И таких набралось немало. И именно они, люди, знакомые мне до изумления, окрасили безымянные миллиарды, и теперь я каждого мог видеть, любить, спасать, потому что мне первому пришлось попасть в центр будущей боли.
Сердце мое разрывалось, но как бы в награду за это пришел сон, в котором гостями моими оказались мои друзья - народ противоречивый, но добрый. И сразу из одного сна я перешел в другой, такой же счастливый… А потом вдруг сон стал путаться, растекаться…
Я услышал стук в дверь и проснулся.
Тревожно, тоскливо вопила в ночи сирена.
Выбор
Сирена была слабая, видимо, ручная.
Протянув руку, я на ощупь нашел выключатель - света не было, чертыхнувшись, оделся, пошел к портьере, нащупал шнур, раздвигающий тяжелые складки, и замер.
Ногти на пальцах светились! Они, как крошечные фонарики, испускали голубоватый свет, похожий на тот, каким светится ночное море.
Удивленный, я приблизил пальцы к лицу, даже пошевелил ими, но свечение не исчезло.
Стук в дверь повторился. Я выругался, но не сдвинулся с места. Мои ногти, оказывается, не были исключением. Рамы портретов прямо на глазах наливались холодной, неживой синью. Я мог рассмотреть лица - краски, которой они были написаны, радужно искрились.
Открыв дверь, я сразу отступил в сторону.
- Компадре! - голос был негромок, тревожен.- Компадре!..
Это был Верфель.
- Я здесь,- откликнулся я.
Он повернулся, и зубы меж полуоткрытых губ сверкнули яркой, ровной полоской. Незаметный при дневном свете, но отчетливо проявившийся сейчас, сиял на щеке голубоватый шрам.
- Что происходит? - спросил я.
- Торопись! - сказал он все так же негромко и сунул в карман моей куртки тяжелый сверток.- У пирса стоит мой катер. Чем быстрей ты уйдешь, тем больше у тебя шансов.
- Вы предлагаете мне…
- Торопись!
- Уйдем вместе!
Я не вкладывал в свои слова никакого особого смысла, но Верфель не выдержал и сгреб меня за рукав:
- Уйти можешь только ты! И я не для того расстрелял Хенто, чтобы ты ломался и терял время. Или…- он вдруг замолчал, а потом притянул меня вплотную: - …или ты уже подцепил комплекс превосходства?
- Оставьте меня!
«Хенто… Он имел в виду убитого водителя?.. Ну, конечно! Об этом же говорил Бестлер…»
И это свечение!..
- Послушайте, Верфель! Вы сумели поднять ракету? Вы проткнули атмосферу над нами?
- Наконец до тебя дошло! - грубо, но с облегчением выдохнул Верфель.- Я проделал в небе такую дыру, что ее не залатает ни один Бестлер. Никто не успеет уйти, сегодня тут нет никакого транспорта - ни субмарины, ни самолетов. Только мой катер. Спеши! Рано или поздно сюда опять придут, после нашей смерти… Будет лучше, если придут твои друзья…
Тон Верфеля меня поразил. Он говорил так, будто долго искал единственно нужного человека, но наткнулся отнюдь не на лучшего.
«Он прав,- подумал я.- Я слишком многого боюсь».
И тогда Верфель меня ударил.
Удар был сильный. Я упал. Чуть ли не волоком Верфель дотащил меня до двери и втолкнул в лифт. Щелкнул замок. Лифт ухнул и провалился. Я даже не успел крикнуть Верфелю - «Кто вы?»
Застонав, поднялся с холодного пола, ощупал лицо. Кровь ярко и холодно светилась; теплая, но такая холодная на вид кровь. Верфель знал, что делает,- он заставил меня очнуться… И он не лгал - у входа в обсерваторию стоял знакомый мне «джип».
Никогда я еще так не гнал машину!
Страх пронизал меня, когда внизу, за пирсом, я не сразу увидел катер. Но он стоял на месте, и никого вокруг не было, и я сразу же прыгнул на его теплую металлическую палубу.
Облепленные светлячками скользили мимо островки. Прожектор я не включал - несмотря на слова Верфеля, боялся преследования… Вспомнив о тяжелом свертке, левой рукой извлек его из кармана. Пистолет… Преодолевая боль в разбитых губах, заставил себя усмехнуться… Но кто стоял за Верфелем? Был ли он одиночкой или представлял одну из многих международных организаций, охотящихся за недобитыми нацистами?.. Вряд ли я это мог теперь узнать… «Но как бы то ни было,- сказал я себе,- Верфель выбрал не худший путь. У Бестлера, по крайней мере, он выиграл!»
Впереди мелькнул огонь. Кто-то жег на острове костер, и я провел катер в протоку. Огонь исчез, только звезды нежно раскачивались на длинных, очень покатых волнах, и я вел катер прямо по этим раскачивающимся подо мной звездам.
Время от времени я посматривал на часы. Я представления не имел, что, собственно, должно случиться. Но ждал.
Минута… Две… Пять…
Ничего не случилось.
Ушел ли я из опасной зоны? Долго ли мне придется плыть?
Взглянул на пальцы и замер. Ногти светились гораздо сильней. Гораздо сильней!.. И пуговицы, и молния на застежке тоже. Я весь был охвачен странным мертвым сиянием, и такие же странные мертвые радуги вставали над манграми. Они переливались, кружились, распускались как цветы, трепетали, как огромные бабочки. Капля бензина, упавшая за борт, превратилась в безумное пятно, пышущее фиолетовыми молниями…
Катер вышел из протоки, и я увидел над собой небо. В той стороне, где, по моим предположениям, осталась обсерватория, несмотря на столь ранний час, занимался рассвет.
Не рассвет! Зарево!
Размытые столбы света поднимались и рушились, и вновь вставали над сельвой. Казалось, далекие уходящие корабли салютуют мне. И я невольно подумал - вот она, смерть боиуны. Страшной змеи, умеющей менять обличья.
Я подумал о Верфеле. Он выбрал смерть, а значит - я не должен его обмануть. Я непременно должен найти людей, прийти к людям, привести их в залы обсерватории, когда хозяева их уже будут сожжены дыханием Космоса.
На миг я закрыл глаза.
А когда открыл их, свечение над обсерваторией поднялось еще выше, видимо, светилась атмосферная пыль. Отблески желтоватыми бликами испещряли протоку.
Этот мир, подумал я, мир, в котором я всегда считал себя дома, этот великий радужный мир с его камнями, птицами, бабочками, деревьями, этот мир с его грозами, ливнями и ручьями не может не дождаться меня!
Я представил, как Верфель сидит на пороге музея и мертво скалит на свастику свои сияющие зубы, и сразу задрожал, хотя влажный воздух над рекой был пропитан тропическим жаром.
Нагнувшись к рукоятке, дал полный газ. Мотор взревел, но шума я уже не боялся. Я торопился, я думал об одном - успеть! Плыл в голубоватых отблесках, плыл, видя одну картину - убитую излучением сельву. Слетают с ветвей пересушенные листья и проявляются для всего мира голые ребра зданий обсерватории.
Я торопился.
Пистолет, вытащенный из кармана, лежал на сиденье. В редкие просветы листвы пробивался свет звезд. Сияние над «Сумерками» не меркло, напротив, оно разрасталось, охватывая весь горизонт. Я плыл в море огня. Но если на мне он только прибавлял загара, то там, вдали, над обсерваторией - убивал.
Машины Бестлера останутся целыми,- сказал я себе. Излучение убивает только органику. Важно прийти вовремя, важно не допустить того, чтобы в это логово вошли новые крысы.
Я спешил. Выжимал все, что мог выжать из рыдающего мотора.
И ногти уже перестали светиться, и настоящий рассвет уже начал просачиваться сквозь душные космы сельвы, а река продолжала один за другим открывать мне свои бесчисленные повороты…
1973

Прашкевич Геннадий








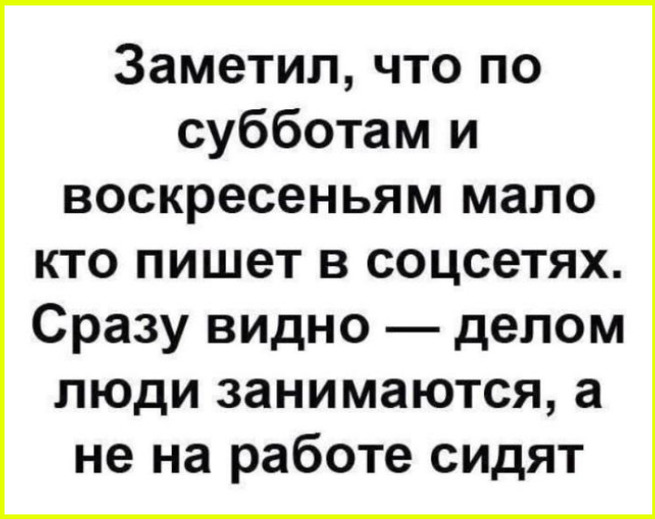


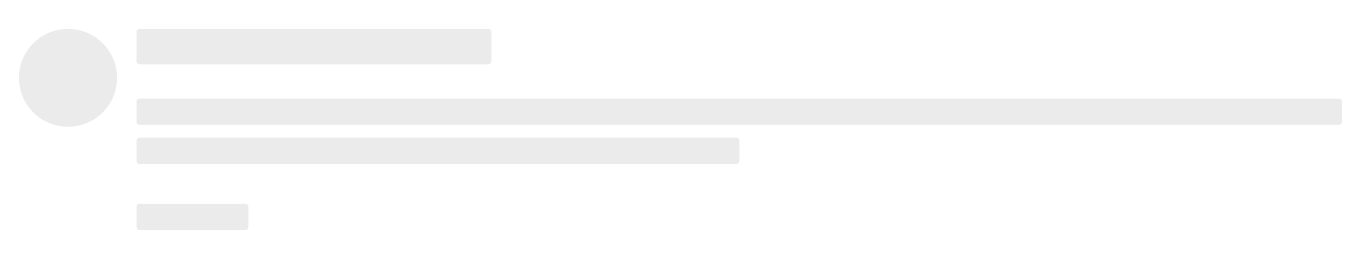



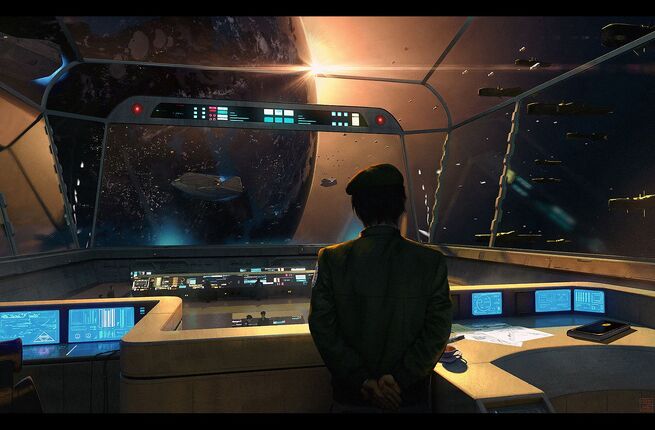




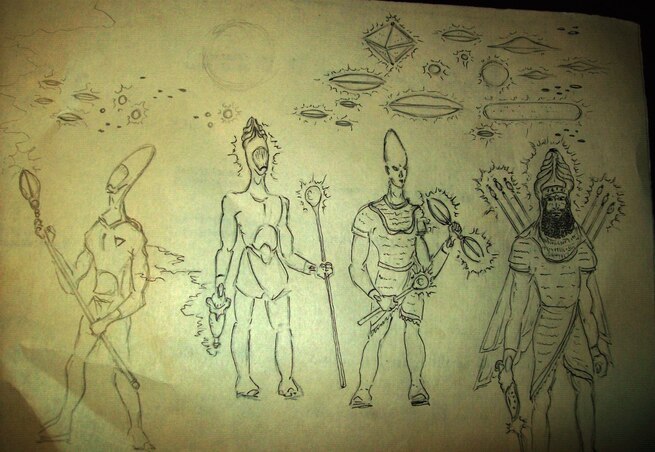













Оценили 15 человек
30 кармы