Занимая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, Россия вынуждена импортировать готовые изделия и компоненты, изготовленные с их применением
На пленарном заседании Форума будущих технологий Владимир Путин вновь напомнил о важности развития отрасли производства редких и редкоземельных металлов. Президент считает, что в стране необходимо построить полный цикл — от поиска и разработки месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Пока попытки организовать на своей территории полный цикл производства РЗМ не удаются: из-за отсутствия спроса приостановлен запуск разделительного производства в Подмосковье, на паузе находятся проект по строительству магнитного завода в Удмуртии и разработка Томторского месторождения в Якутии. Сегодня добытое в России редкоземельное сырье в основном отправляется в Китай, где из него делают, например, неодимовые магниты, которые используются, в числе прочего, при производстве беспилотников. И эти беспилотники затем импортируются не только в Россию.
Золотой ключик
«Редкие и редкоземельные металлы образуют фундамент технологической независимости промышленного суверенитета», — объяснил интерес к отрасли глава департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков. Благодаря высокой химической активности, а также магнитным, оптическим и электронным свойствам РЗМ способны улучшать свойства самых разных материалов. Их добавляют в металлические сплавы для улучшения их качеств, из РЗМ делаются магниты для электродвигателей, ветрогенераторов и жестких дисков. Без РЗМ сегодня не работает ни одна высокотехнологичная отрасль. «Это ключик к новым материалам и технологиям. И этот золотой ключик сегодня в руках у Китая», — заключил Марков, выступая на тематической сессии в рамках Форума будущих технологий.
В самом деле, контролирующий 72% рынка Китай сегодня имеет полную технологическую цепочку, которая включает в себя добычу и переработку руды, разделение ее на оксиды и индивидуальные РЗМ, изготовление материалов и сплавов, производство готовых изделий. Более того, с 2012 года Китай запустил масштабную программу поддержки этого сектора экономики. И доступ к редкоземельным металлам превратился в инструмент политической борьбы, который Китай широко использует, вводя лицензирование экспорта и субсидируя своих производителей.
Далеко не все игроки на рынке РЗМ, подобно Китаю, могут похвастаться полной цепочкой производства. Например, Австралия, имея лишь начальные переделы, без проблем отправляет свою продукцию на экспорт. У России ситуация самая сложная. СССР производил 8500 тонн редкоземельной продукции в год. Добыча велась в РСФСР, Киргизии и Казахстане, а переработка еще и на Украине и в Эстонии. После 1991 года большая часть этих мощностей оказалась за рубежом, производственные цепочки были разорваны, в последние годы к проблемам отрасли добавились многочисленные санкции.
Сегодня сырьевая база России представлена Ловозерским месторождением (ЛГОК), его лопаритовую руду перерабатывает Соликамский магниевый завод (СМЗ). Примерно половину полученного концентрата из 2500 тонн СМЗ экспортирует в Китай и на эстонский завод Silmet. Другую половину концентрата у СМЗ покупает подмосковное предприятие «Скайград», там его разделяют на оксиды и индивидуальные РЗМ, из которых делают, в частности, промышленные катализаторы. Но все это в незначительных объемах и с постоянными поисками каналов сбыта.
Без государства нет магнита
Все участники рынка сходятся во мнении, что без поддержки государства редкоземельщикам не обойтись. Развивать и масштабировать такую стратегическую отрасль, как редкоземельная, должны большие госкорпорации либо специально созданные на период восстановления государственные структуры (агентства). Рынок просто неспособен отрегулировать сбыт и восстановить потребительские цепочки, заявил «Моноклю» основатель и руководитель «Скайграда» Алексей Абрамов.
Проблемы индустрии обсуждались и на недавнем совещании комитета по экономической политике Совета Федерации.
По определению председателя Ассоциации РМ и РЗМ и гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова, нынешняя попытка поднять отрасль — «это уже третий подход к снаряду». Димухамедов имеет в виду неоднократные попытки ведомств наладить производственные цепочки и нормальное функционирование отрасли, однако воз и ныне там.
Росатом Недра Цена на китайские РЗМ почти в два раза ниже, чем себестоимость производства РЗМ в России
Росатом Недра
Так, принятая в 2013 году подпрограмма «Развитие промышленности РМ и РЗМ» включает в себя проекты с капитальными расходами (Capex) на 150 млрд рублей, но размер господдержки, в том числе на НИОКР, оценивается лишь в 8 млрд рублей. Амбициозную цель обеспечить отечественную промышленность РЗМ на 80% к 2024 году поставил в 2020 году Минпромторг в дорожной карте «Технологии новых материалов и веществ», общий Capex проектов в ней оценивается в 519 млрд рублей, но размер господдержки в виде займов ФРП едва дотягивает до 0,2% — 1 млрд рублей. И наконец, запущенный в прошлом году национальный проект по достижению технологического лидерства «Новые материалы и химия» предусматривает проекты с общими капитальными затратами более чем на 500 млрд рублей с субсидиями на 7,2 млрд рублей.
«Полтриллиона инвестиций планируем, но государственное финансирование — где один миллиард, где семь миллиардов рублей. Ну давайте себе честно признаемся: если у нас нет возможности сегодня финансировать редкоземельную отрасль, видимо, еще не настало время», — заключил Димухамедов. Глава ассоциации РЗМ перечислил меры поддержки, которые сейчас требуются. Это бюджетные инвестиции юридическим лицам на реализацию проектов, сниженные процентные ставки по кредитам и более длительный период льготного кредитования, а также снижение ставки НДПИ.
Замдиректора департамента металлургии Минпромторга Константин Федоров признал, что текущий спрос на редкие и редкоземельные столь низкий, что это влияет на окупаемость всех проектов. «В отличие, например, от КНР, где интенсивное употребление этих металлов организовано ровно, как и производство», — пояснил Федоров.
Основной проблемой редкоземельной отрасли в России является то, что мы по-прежнему оперируем советским опытом, когда РЗМ в основном использовались в металлургии для улучшения свойств стали, пояснил «Моноклю» Руслан Димухамедов. «Но в СССР просто не было сегодняшнего главного применения редкоземов, а именно магнитной системы неодим-железо-бор, которые пошли в серию только после распада Союза и теперь используются во всех высокотехнологичных отраслях, от электроники до ветрогенерации», — добавил он.
В России с 1960-х годов выпускаются самарий-кобальтовые магниты, которые широко используются в нефтяной промышленности. Благодаря отсутствию в составе железа самарий-кобальтовые магниты не ржавеют и способны выдерживать высокие температуры.
Однако для электромоторов и генераторов, значительный спрос на которые, в числе прочего, предъявляют производители электромобилей и ветрогенераторов, предпочтительнее использование неодимовых магнитов.
Поэтому критически важным для формирования внутреннего спроса является создание в России производства неодимовых магнитов. И, согласно дорожной карте Минпромторга, такой завод должен был быть построен и сдан в полном объеме к 2024 году. Проект этот реализует компания «Росатом МеталлТех».
На Форуме будущих технологий руководитель предприятия Андрей Андрианов представил новый план, по которому завод редкоземельных магнитов мощностью 1000 тонн будет построен к 2028 году. Впрочем, уверенности в его словах не было. «Скоро я, наверное, нарисую звездочку на графе “2028” по причине того, что отсутствует подтвержденный спрос. Не хотят люди покупать. Мне потребуется помощь Министерства промышленности и торговли, чтобы производители долокализовали электромобили и другие высокотехнологичные средства», — заявил Андрианов.
По словам источника в отрасли, у «Росатома» возникли проблемы с поставкой оборудования для производства магнитов на завод в Глазове, поскольку Китай в прошлом году запретил экспорт технологий. «Кроме того, основной потребитель неодимовых магнитов — электромобили. Для производства одного двигателя используется пять килограммов магнитов. А в России этого производства нет», — пояснил он.
Соликамский магниевый завод перешел под контроль «Росатома» в 2023 году
Для создания производства по разделению концентрата редкоземельных металлов на базе Соликамского магниевого завода есть и технологии, и оборудование, которое в состоянии сделать отечественные предприятия
У участников совещания в Совфеде нет надежды на то, что и большие госкорпорации смогут вытянуть экономику редкоземелья. «В “Росатом” еще в конце декабря поступила директива Центробанка, в которой было сказано, что мы боремся с перегревом экономики, поэтому на финансирование инвестиционных программ не рассчитывайте. Денег нет от слова “совсем”», — рассказал Димухамедов.
На официальный запрос, есть ли проблемы с реализацией проекта по созданию производства в Глазове, пресс-служба «Росатом МеталлТеха» сообщила, что «строительство завода по производству редкоземельных магнитов является стратегически важным для развития редкоземельной отрасли в нашей стране. В настоящее время приоритетная задача — решить вопросы, связанные с созданием необходимой инфраструктуры для будущего производства».
Для обеспечения конкурентоспособности отечественных проектов Руслан Димухамедов, помимо бюджетных инвестиций и льготных займов, предлагает формировать госрезерв из отечественных металлов и материалов. Он рассказал, что не так давно компания «ВСМПО-Ависма» не смогла выиграть тендер на поставку титановой губки в госрезерв, поскольку китайская оказалась дешевле.
«Китай субсидирует своих экспортеров. И конкурировать с китайской государственной программой поддержки невозможно. Мы считаем, что, если есть госпрограмма, она должна поддерживаться госзаказом. И если нам надо восстанавливать отрасль, необходима поддержка внутренних производителей. А пока мы кормим китайскую отрасль», — считает Абрамов.
Конкурировать с китайскими компаниями на коммерческих тендерах еще сложнее. Так, «Скайград» научился делать катализаторы синтеза каучука для «Сибура» (неодима неодеканоат или версатат), а также катализаторы осушения дизеля для «Газпром нефти». Будучи монополистами на рынке, ни «Сибур», ни «Газпром нефть» не торопятся подписывать со «Скайградом» длинные контракты. Поэтому ежегодно российская компания вынуждена конкурировать с превосходящими силами китайских производителей. «В результате один год мы побеждаем на конкурсе, китайцы идут за субсидией, получают ее и на следующий год выигрывают», — объясняет Алексей Абрамов.
И если в прошлом году «Скайград» поставлял РЗМ-растворы для «Газпром нефти», то в этом году тендер проиграл. «Доходит до смешного: на одном из конкурсов разница в цене китайских и российских катализаторных растворов составляла два рубля», — рассказал Абрамов.
Хотя существует 318-ФЗ об осуществлении закупок, по которому предпочтение должно отдаваться отечественным производителям по правилу «второй лишний» либо может быть предоставлен ценовой гандикап до 15%. Однако закон не работает.
В «Сибуре» не успели ответить на соответствующий запрос «Монокля» до момента сдачи статьи, в «Газпром нефти» ситуацию не прокомментировали.
В поисках ресурсов
Говоря о ресурсах, все привыкли думать, что в России их много. Руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов на совещании в Совете Федерации заявил, что разведанных и подготовленных к добыче запасов в России насчитывается 28,5 млн тонн при годовых потребностях в 2000 тонн. В частности, он упомянул Ловозерское месторождение, на котором ведет добычу СМЗ, и Томторское месторождение в Якутии.
Однако много не значит хорошо.
Как утверждает руководитель направления «Росатом Недра» Максим Куклов, российские запасы характеризуются меньшим содержанием металлов в рудах по сравнению с зарубежными: «Среднее содержание РЗМ на месторождениях в Китае, в Австралии, в Бразилии, в Америке варьируется от четырех до восьми процентов полезного компонента. В то время как на единственном в России руднике, отрабатываемом Ловозерским ГОКом, среднее содержание полезных компонентов варьируется от одного до полутора процентов».
По его словам, есть еще ряд причин того, что отрасль не развивается. «Большинство наших месторождений находится в отдаленных, зачастую малонаселенных районах Крайнего Севера. Необходимость строить дополнительную инфраструктуру в виде дорог, линий электропередачи, вахтовых поселков приводит к увеличению Capex еще на 60 процентов», — заключил Куклов.
Отметим, что он не упомянул Томторское месторождение, хотя из презентации главы «Росатом Недра» следовало, что руды Томтора не являются бедными и содержат почти 12% полезных компонентов.
Как рассказал один из участников рынка, тема Томторского месторождения «очень чувствительна и обсуждать ее никто не хочет». Еще в ноябре прошлого года Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым поручил обеспечить разработку Томторского месторождения. «Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», — заявил Путин.
Аукцион на право пользования одним участком (Буранным) недр Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов в 2014 году выиграло совместное предприятие «Ростеха» и входящей в группу ИСТ бизнесмена Александра Несиса компании «Триаркмайнинг». Через пять лет «Ростех» из совместного предприятия вышел. А «Триаркмайнинг» сменила учредителей. Сейчас держателем лицензии называется «дочка» «Триаркмайнинга» предприятие «Восток Инжиниринг». Бенефициарами проекта называются бывшие топ-менеджеры группы ИСТ Владислав Ресин и Алексей Алешин.
Мантуров пообещал исполнить поручение президента, однако делается ли что-то в этом направлении, доподлинно неизвестно. Представители первого вице-премьера, Минпромторга и группы ИСТ отказались комментировать «Моноклю» ситуацию.
За десять лет владения лицензией на отработку Буранного участка компания «Восток Инжиниринг» так и не начала добычу руды, рассказал «Моноклю» первооткрыватель Томторского месторождения, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии наук Республики Саха (Якутия) Александр Толстов. По его словам, это вызывает недовольство властей республики и может стать причиной возможной скорой смены собственника. «В позапрошлом году мне посчастливилось побывать на Томторе, и я не увидел там никаких движений по началу отработки на месторождении», — отметил Толстов.
По словам Алексея Абрамова, руда Томторского месторождения радиоактивна, ее нельзя перерабатывать на месте. «Ее придется куда-то везти, чтобы утилизировать отходы. Такая логистика просто убьет проект», — считает он.
Пока, согласно проекту, руду Томтора планируется доставлять на переработку на Краснокаменский гидрометаллургический комбинат в Забайкалье. «Там есть хвостохранилище урановых отходов на несколько десятков миллионов тонн. Из-за 150 тысяч тонн слабоактивных отходов Томтора проблем не возникнет», — возражает другой источник в отрасли.
Александр Толстов тоже считает радиоактивность надуманной проблемой, поскольку средняя активность руды — 100-300 микрорентген в час — не опасна: «Особенно если транспортировка руды будет обеспечена в герметичных контейнерах». Он также сообщил, что в Красноярске-26, куда существует прямой водный путь по Енисею и где в 1990-е намечалась переработка томторской руды, строилась опытная установка, там же находятся крупнейшие хранилища радиоактивных отходов, куда принимали на хранение и утилизацию радиоактивные отходы даже из-за рубежа, так что проблем с их утилизацией не будет.
По мнению Толстова, для переработки руды идеально подходит не Краснокаменск, а Красноярский горно-химический комбинат «Росатома» в Железногорске. Он также указал, что в московском Всероссийском институте минерального сырья (ВИМС) и красноярском Институте химии и химической технологии еще в 1990-е была разработана технология переработки томторской руды с извлечением на конкретных лабораторно-технологических пробах до 10 товарных продуктов. Сегодня в Красноярске технологию доработали до 20 компонентов: оксидов ниобия, иттрия, скандия лантана, церия, неодима, самария и других дефицитных редкоземельных металлов. На очереди новые стратегические металлы Томтора — марганец, титан, ванадий.
Трудности добычи руды на полюсе холода Александр Толстов считает сильно преувеличенными. «Вечная мерзлота для нас — это благо. Она помогает уверенно выполнять горные и транспортные работы с октября по апрель. При этом временные зимние дороги пригодны для транспорта, техника легко проходит по зимникам», — заключил он.
Томтор — уникальное месторождение по запасам и содержанию извлекаемых ценных компонентов (до 75%). «В одной тонне руды Томторского месторождения объем редкоземельных элементов оценивается выше стоимости алмазов в кимберлитовой руде. По содержанию РЗМ каждую тонну Томтора, учитывая высокую стоимость таких дефицитных элементов, как скандий, неодим, самарий, и их количество в руде, можно оценить выше 10 тысяч долларов. Поэтому любая технология и все проблемы с извлечением полезных компонентов из руды окупятся многократно», — уверен Толстов.
С последним утверждением Минпромторг, похоже, не согласен. «Увлечение определенными видами металлов — редкими, редкоземельными — привело к тому, что цены на эти металлы существенно снижаются и разработка этих месторождений становится нецелесообразной. Некоторые месторождения, откровенно говоря, еще не дождались своего десятилетия, в которое они будут разработаны», — заявил на Форуме будущих технологий глава ведомства Антон Алиханов.
Запасы под ногами
О неактуальности освоения Томтора говорит и руководитель «Скайграда» Алексей Абрамов. Он предлагает обратить внимание на промышленные отвалы фосфогипса, который образуется при производстве удобрений. Сейчас у «Скайграда» есть действующий завод в подмосковном Королеве, способный разделять до 200 тонн РЗМ. Он перерабатывает примерно 100 тонн концентрата Соликамского магниевого завода, разделяет его на оксиды и индивидуальные РЗМ, из которых производит, в частности, промышленные катализаторы.
Параллельно с этим компания разработала уникальную технологию переработки фосфогипса с выделением группового концентрата РЗМ. На выходе получаются очищенный от примесей гипс и карбонаты (оксиды) редкоземельных металлов.
Дело в том, что огромные отвалы фосфогипса разбросаны по всей России. Они расположены возле заводов по производству минеральных удобрений, например в подмосковном Воскресенске, Волхове (Ленинградская область), Балаково (Саратовская область), Череповце (Вологодская область). Общие запасы оцениваются примерно в 300 млн тонн, и еще до 10 млн тонн добавляется ежегодно.
Переработка отвалов фосфогипса позволит не только извлечь из них ценные редкоземельные металлы и получить не обходимый для строительной отрасли гипс, но и решит экологическую проблему
«Скайград» предложил перерабатывать эти отвалы. Благодаря новой технологии с тонны фосфогипса можно получить около 4 кг РЗМ. По грубым прикидкам, в каждой тонне содержится РЗМ примерно на 80 долларов и еще фосфогипса на 60, итого 140 долларов. «Это современная технология. Отстойники мы заменили центрифугами, сами делаем электролизеры, разработали собственные программы автоматизации», — рассказывает Абрамов. Переработки ежегодно складируемого в отвалы фосфогипса (по сути, промышленных отходов) хватит на то, чтобы увеличить выпуск РЗМ в России на порядок — до 30 тыс. тонн в год, а это 15‒20% мирового рынка разделенных РЗМ.
Под этот проект Фонд развития промышленности в 2022 году предоставил «Скайграду» заем в размере 865 млн рублей. На эти и собственные средства компания построила в Воскресенске завод по комплексной переработке до 130 тыс. тонн фосфогипса с выделением редкоземельного концентрата в объеме до 500 тонн. Однако с запуском нового производства из-за отсутствия сбыта «Скайград» не торопится.
До введения санкций оксиды редкоземельных металлов из Королева планировалось продавать в Японию, Южную Корею и Европу. К тому же в соответствии с дорожной картой Минпромторга к 2024 году в России должен был появиться завод по производству магнитов. Но сегодня внешние рынки закрыты, магнитный завод не построен, а внутреннего спроса попросту нет.
«Россия, к сожалению, не производит ничего технологичного, кроме “Росатома”, который для ТВЭЛ использует редкоземельные металлы диспрозий, европий и гадолиний», — говорит Абрамов.
Найти применение полученному при переработке фосфогипса гипсу в России несложно. Строительная отрасль ежегодно потребляет около 6 млн тонн этого материала, он используется для стен, пазогребневых плит, штукатурки и шпатлевки. «Но, как только мы начнем перерабатывать гипс в больших объемах, нам придется что-то делать с редкоземами. Возможно, нам придется частично запустить производство, чтобы продолжать платить заработную плату и не потерять людей», — не исключает Алексей Абрамов.
Неразделимые
На сегодня разделительными мощностями для РЗМ располагает только «Скайград». Между тем «Росатом», откладывая строительство завода по производству редкоземельных магнитов, приступил к проектированию разделительного комплекса на Соликамском заводе. Как говорится на сайте предприятия, технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами «Росатома», СМЗ, «Русредмета». Инвестиции в проект составят 7 млрд рублей. «Ввод разделительного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Объем производства — около 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год», — говорится в сообщении.
Складывается ощущение, что в этот проект «Росатом» тоже не сильно верит. По данным Максима Куклова, объем потребления редкоземов сегодня составляет порядка 1500 тонн. «В России РЗМ в основном применяются в производстве оптики, полировальных порошков, катализаторов для нефтепереработки. Мы четко понимаем, что данный объем не способен обеспечить загрузку крупнотоннажного разделительного производства, а следовательно, не способен обеспечить окупаемость новых инновационных проектов», — заявил он.
Только Китай имеет полный цикл серийного производства конечных изделий с применением РЗМ
Не все месторождения редкоземельных металлов в России стоит начинать разрабатывать прямо сейчас, так как за счет добычи на уже существующих предприятиях и вовлечения в переработку фосфогипса из отвалов можно закрыть потребность перерабатывающих мощностей в сырье
По мнению Алексея Абрамова, работы по проекту создания новых разделительных мощностей необходимо координировать, чтобы не допустить «провалов» в отраслевой технологической цепочке, считает глава «Скайграда». «На наш взгляд, разделительные мощности в России развивать нужно, но без дальнейших переделов заводы будут простаивать, поэтому крайне важно сейчас все силы бросить на строительство магнитного завода. И мы готовы и предоставить собственные мощности и поддержку, и развивать проект совместно с “Росатомом”», — сказал он.
Между тем объем мирового рынка редкоземельных элементов в 2023 году составил 3,39 млрд долларов, по прогнозам, он вырастет с 3,74 млрд долларов в 2024-м до 8,14 млрд долларов к 2032-му, подсчитала консалтинговая компания Fortune Business Insights.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерия Язева, к 2030 году в физическом выражении рынок дорастет до 700 тыс. тонн. «А мы останемся на своих двух тысячах тонн», — сетует Язев.
«У меня появилась надежда, когда 20 ноября Путин встретился с Мантуровым и публично сказал [о Томторском месторождении]. Политическая воля прозвучала в публичной сфере», — говорит Язев. «К сожалению, если отношение власти и государства в целом к отрасли не поменяется, будут две великие державы — США и Китай. А мы останемся где-то на задворках. Без комплексного подхода и финансового участия государства ничего не получится», — заключил он.
Не исключено, что в итоге Томторское месторождение отойдет «Росатому». Госкорпорация консолидировала почти все имеющиеся в России мощности по производству редкоземельных металлов, от добычи до выпуска готовой продукции. В 2023 году она получила контроль над магниевым заводом в Соликамске и Ловозерским ГОКом. Редкоземы используются при производстве ТВЭЛов. Дивизион «Росатом Возобновляемая энергия» создает сейчас парк из 120 ветроэлектроустановок в Дагестане. Госкорпорация, как уже было сказано, ответственна за производство неодимовых магнитов. Так что есть все шансы, что осваивать Томторское месторождение тоже придется ведомству Алексея Лихачева. Сам «Росатом», судя по докладам его менеджеров на Форуме высоких технологий, этому как будто не очень рад. И это неудивительно: у госкорпорации много других значимых задач: строительство десятков реакторов по всему миру, реализация проекта замкнутого ядерного цикла и ряда других, совокупные затраты на которые, по оценке Валерия Язева, составляют 16 трлн рублей.




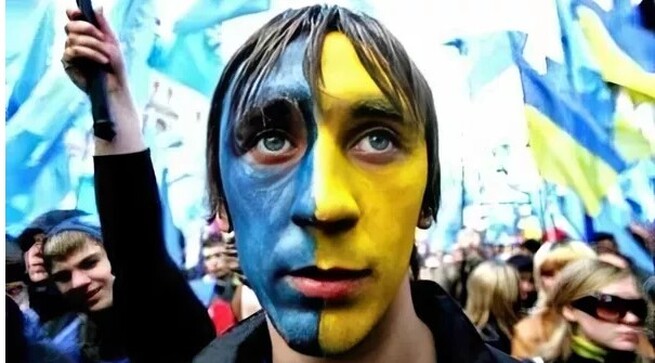
Оценили 0 человек
0 кармы