Вадим ненавидел эту фразу. Каждый раз, когда взгляд цеплялся за выцветшую табличку с потрескавшейся краской над стойкой — «Подставь вторую щёку» — его будто обдавало кипятком. В детстве, после того как отец разбился на грузовике, священник в чёрной рясе тыкал пальцем в Библию: «Прости, сынок, прими, и подставь вторую щёку Божьей воле». А десятилетний Вадим сжимал кулаки, глотая слёзы: «Какую ещё щёку, если он мёртвый?». С тех пор ненавидел — и священников, и пословицы.
Клиника Леры, где он работал администратором, пахла лекарственной тоской. Скрип стульев, гул холодильника с вакцинами, трещина на потолке, похожая на кривую улыбку. И эта проклятая табличка…
В то раннее зимнее утро дверь клиники распахнулась словно её выбили тараном. Дверь вздрогнула от удара, впустив женщину в чёрном пальто. Не человек — монолит: плечи квадратные, взгляд острый как скальпель. Она вошла, будто шторм, затягивая за собой девочку лет двенадцати. Ребёнок прижимал к груди розового зайца — один глаз игрушки свисал на нитке, словно слеза.
— Договор! Сейчас же! У меня нет времени!

«Опять…» — Вадим подавил вздох. Гости здесь были двух типов: тихие, как мыши, и такие — что рвут глотки, будто врачи вытащили у них печень.
— Бахилы не надену! — её голос звенел, как разбитое стекло. — Вы все тут воры! И так втридорога берёте!
— Мамочка, не надо… — девочка потянула мать за рукав, но та рванулась к стойке.
Вадим машинально протянул папку с документами. Вспомнил, как в четырнадцать, после школьной драки, мама вытирала ему кровь с лица: «Зачем лез? Мог промолчать». А он орал: «Промолчать, когда он про папу гадости говорил?!».
Лера выглянула из кабинета, кивнула девочке. Та юркнула за ней, прижимая зайца к груди. У стойки остались вдвоём — Вадим и эта женщина, чей голос резал воздух как ножовка.
— Добро пожаловать! Чай? — спросил он автоматически, указывая на чайник.
— Чай?! — женщина ударила ладонью по стойке. Стаканчик с карандашами подпрыгнул. — Вы вообще знаете, что такое боль?!
Тело Вадима напряглось — будто снова стоял на пороге морга, где лежал отец.
«Смотри, Вадь, — шептала тётя, — он будто спит».
Но отец не спал. Он был синий, с трещиной на лбу, как разбитая ваза.
Внезапно в сумочке затрезвонил телефон.
— Алло?.. — посетительница вдруг притихла, схватив его. Лицо женщины побелело, будто выбелили известью. — — Пап… Нет… Не могу… — голос сорвался в шёпот. — Опять эти трубки… эти аппараты…
Она замолчала. Пальцы, сжимавшие телефон, дрожали так, что казалось — вот-вот выронят его.
Вадим узнал этот голос. Тот самый тон, которым мама звонила родным после аварии: «Он… не… выдержал…».
— Послушайте… — он шагнул ближе, голос сделал тише, будто подкрадывался. — Я не знаю, что там у вас…
— Отстаньте! — она резко обернулась, но в глазах уже не было огня — только пепел.
— Просто… иногда надо дать себе право бояться.
Она замерла. Потом рухнула на стул, словно кто-то выдернул из-под неё опору. Слёзы текли по лицу, оставляя чёрные дорожки туши.
— Дочка одна… а он в реанимации… — телефон выпал из рук. — Три дня…
«Не лезь», — прошептал внутренний голос, тот самый, что заставлял отворачиваться в метро от пьяных скандалов. Но Вадим уже шагал к ней, будто старые раны толкали в спину.
— У меня… отец тоже ушёл резко, — слова выскочили сами. — Я тогда думал — мир рухнул. А потом… — он замялся, в горле застрял ком. — Потом мама сказала: «Иногда надо стать мягче, Вадь. Даже если больно».
Женщина подняла на него глаза — мокрые, как осенние лужи.
— Зачем вы… — начала она, но Вадим уже обнимал её, как когда-то мама обнимала его у гроба. Тело женщины задрожало мелкой дрожью, а он вспоминал, как сам бился в истерике, рвал на себе рубашку: «Не хочу вторую щёку! Хочу, чтобы он вернулся!».
— Всё пройдёт, всё будет хорошо, — прошептал он. Враньё. Но иногда ложь — единственное, что держит на плаву.
…Через две недели она пришла снова. Встала в дверях, смущённо теребя сумку.
— Муж… он выкарабкался, его выписывают, — губы дрогнули в улыбке. — Спасибо. За… тогда. Можно… я вас обниму?
— Чай? — Вадим уже наливал кипяток в кружку.
— С двумя ложками… нет, с тремя! — женщина рассмеялась, вытирая глаза.
Девочка, державшая в руках того же зайца, вдруг сунула Вадиму рисунок: алый рассвет над больницей.
— Это гранатовый, — серьёзно пояснила она. — Мама говорит, после тёмной ночи так бывает.
Лера, наблюдая со стороны, кивнула на табличку:
— Ну что, Вадь, всё ещё ненавидишь?
Он посмотрел на девочку, которая раскладывала на столе леденцы, на женщину, допивающую чай с тремя ложками сахара. Вспомнил отца — не синего в гробу, а живого: тот смеялся, подбрасывая его к потолку.
— Знаешь, — Вадим потрогал табличку, где буквы выцвели от времени. — Может, «щёка» — это не про терпение. А про то, чтобы… — он запнулся, подбирая слова.
— Чтобы ловить других, когда они падают? — сказала Лера.
- Это про то, чтобы подставить плечо, когда у другого нет сил держать голову.
За окном всходило солнце. Не гранатовое — обычное, жёлтое. Но Вадиму вдруг показалось, что трещина на потолке теперь похожа не на насмешливую улыбку, а на ветку дерева. Того самого, что пробивается сквозь асфальт.
Иногда стоит подставить щёку. Не для удара. Для того чтобы кто-то смог прислониться. Чтобы по ней стекали чужие слёзы, пока не высохнут.




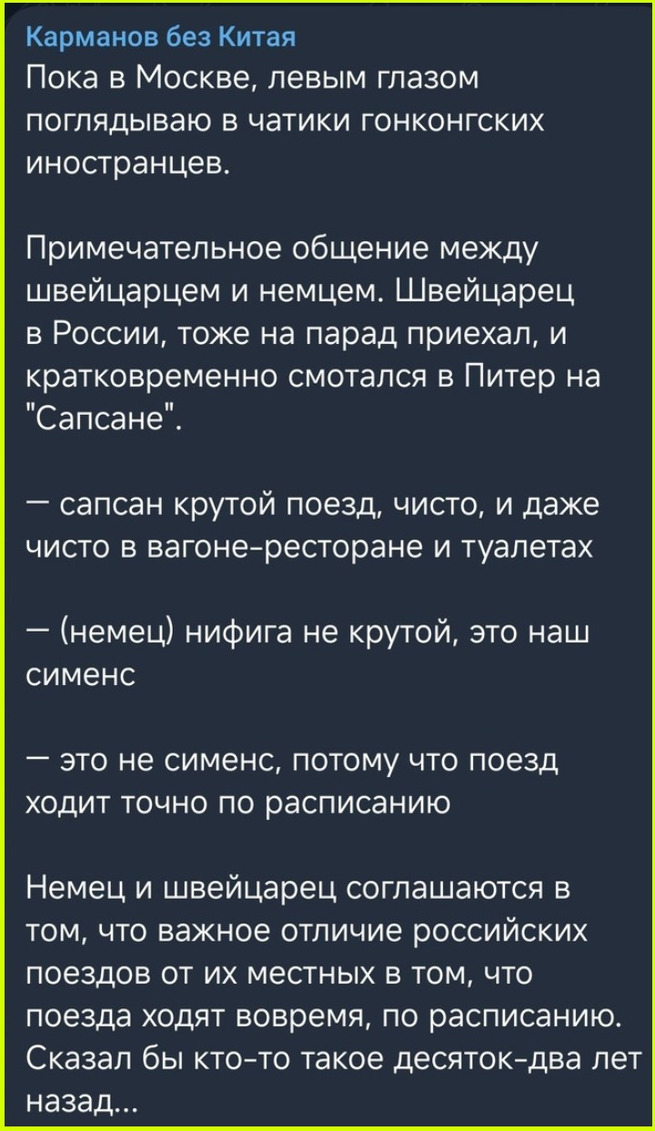
Оценил 1 человек
3 кармы