Выкладываю избранные главы из книги Бориса Кагарлицкого "Марксизм: не рекомендовано для обучения". Марксизм не изучают в университетах. Официальные "ученые" говорят о нем, как о чем-то прошлом. Его называют источником зла. И даже "левые" политики предпочитают ему православие и державность. Но именно сегодня марксизм переживает свой исторический ренессанс. Для тех, кто хочет знать как развивалась коммунистическая теория после Маркса, как отвечала она на вызовы XX и XXI века, эта книга - неоценимое подспорье.
продолжение. предыдущая статья цикла: Б.Кагарлицкий. Марксизм. 15. Отчуждение
В Советском Союзе не понимали массового увлечения западной молодежи Китаем, Мао Цзэдуном. А в западном молодежном движении 1960-х годов было две легенды: Председатель Мао и Эрнесто Че Гевара. В Советском Союзе Че Гевару признали: герой, партизан, сражался, погиб. Бунтарь-одиночка, но вооруженный марксистской теорией. Кстати, Мао специально осуждал образ «борца-одиночки». Он считал, что бунтарь-одиночка - это буржуазный миф, который препятствует формированию коллективного бунтаря.
И все же, почему так популярен Мао у западных молодых людей в 1960-е годы? Его воспринимали в советской интеллигенции как второе издание Сталина, китайское издание, с гораздо большим размахом, с еще большим числом жертв. Хотя, когда в Китае были массовые голодовки, в Европе об этом ничего не знали. Впрочем, не надо думать, будто голод был специально организован государством. Ни Мао, ни Сталин не ставили перед собой специальной задачи выморить какое-то количество людей в процессе коллективизации. Просто они не считались с жертвами. Много ли погибнет людей, мало ли, для них не имело значения. Они думали о других проблемах.
На самом деле Мао не был, конечно, вторым изданием товарища Сталина. В свое время Энгельс сказал про Кромвеля, что тот был одновременно и Робеспьером, и Наполеоном английской революции. Вот про Мао можно сказать, что он был одновременно и Лениным, и Сталиным китайской революции, а может быть, еще и Троцким. Во всяком случае это фигура, которая прошла все этапы революционного развития. В России на разных этапах революционного процесса востребованы разные фигуры. А Мао менялся сам но мере развития процесса. Был один Мао в период вооруженной борьбы, другой Мао был в период установления, потом у него был свой нэп, было время, когда «расцветали сто цветов». Потом был «Большой скачок» - первая, неудачная попытка форсированной индустриализации. Наконец, была культурная революция.
Мао менялся вместе с историческими задачами, как настоящий мудрый восточный политик. И всегда соответствовал своим задачам.
У Мао было две идеи, абсолютно перевернувшие классический марксизм. Первая идея состояла в том, что страны «третьего мира», крестьянские по составу населения, подвергаясь капиталистической эксплуатации извне, являются революционной силой.
Ленин говорил о союзе рабочих и крестьян. Мао идет дальше. В его теории крестьянство уже выступало не просто как отсталая масса, которую рабочие должны были за собой повести. Мао показывал, что китайское крестьянство имеет собственный организационный, идейный, культурный потенциал. Оно не может обойтись без рабочего класса, но именно оно сыграет решающую роль в революции. В годы народной войны Мао выдвинул лозунг: «Деревни окружают города!» После того как рабочее движение потерпело неудачу в городах Восточного побережья, коммунисты уходили в деревни и там находили свою новую социальную базу.
Произошла, если угодно, регрессия, или определенная теоретическая эволюция от классического марксизма в сторону русского народничества. Однако все не так просто. Например, Ленин, будучи принципиальным критиком народничества и идей крестьянского социализма, общинного уклада и т. д., на практике действовал совсем не так, как учил ортодоксальный марксизм по Каутскому и Плеханову. Другое дело, что Ленин упорно отрицал собственное теоретическое новаторство и представлял себя просто ортодоксальным марксистом, верным идеям своих предшественников. Маркс тоже не был особенно ортодоксальным марксистом. Его интересовало русское народничество, и он подчеркивал, что его идеи сформулированы на материале Западной Европы. Для того чтобы успешно применять их в других местах, надо переосмыслить марксизм, исходя из нового социального опыта. Чем, собственно, и занялся Мао.
С другой стороны, в 1960-е годы, когда становится очевиден срыв «Большого скачка», когда выясняется, что индустриализация Китая не может быть успешно реализована по советскому сценарию (страна слишком отсталая), Мао начинает, как положено, искать виноватых. И находит их в лице партийного аппарата. Культурная революция оказывается ответом на политический кризис, порожденный неудачами и догматическими подходами партии в предшествующее десятилетие.
Здесь обнаруживается важное различие между советскими «чистками» 1930-х годов, завершившимися массовыми репрессиями, и китайской культурной революцией. Отличие, которое не было понято советской интеллигенцией. Отличие абсолютно не в мере жестокости. В Китае жестокости было не меньше. Но методы политической борьбы были совершенно иные. Сталин опирался на репрессивный аппарат, на тайную полицию, на структуру, на ту же бюрократию. Одна часть бюрократии чистила другую, а потом, до известной степени, начала очищать себя. Руководители террора - Ежов и Берия - закончили свои дни точно так же, как и их жертвы. Работала бездушная полицейская машина, которая была определенным образом отлажена, определенным образом воспроизводилась.
Мао пошел по другому пути. Он сделал репрессии элементом демократии. Или сделал демократию репрессивной. Он просто провозгласил лозунг: «Огонь по штабам!» Он обратился к народу и дал ему свободу. Но свободу только в одном - выявлять и самостоятельно наказывать врагов революции.
И массы народа откликнулись. Также откликнулась молодежь, студенты первого, второго курсов. Такие же образованные люди в первом поколении, как и их сверстники на Западе. Им нужно было расчистить себе место, получить должности, рабочие места, перспективы в жизни. Они начали своими руками расправляться с теми, кто им мешал. Это было по-своему очень демократично.
Это только в либеральных трактатах демократия выглядит гладко и благостно. На самом деле демократия может быть крайне жесткой. В конце концов, именно демократический афинский народ тайным голосованием решил отравить Сократа.
Либеральные процедуры на протяжении XVIII-XIX веков систематически оттачивались для того, чтобы свести к минимуму эксцессы демократии, но одновременно выхолостить ее подрывное содержание, заложенный в ней потенциал плебейского бунта.
Мао сказал: «Огонь по штабам!» Он не стал, как Сталин, проводить политические чистки с помощью тайной полиции, а вызвал народ и призвал его самого разобраться. Легко догадаться, как относился народ к партийной бюрократии. В этом смысле маоизм действительно резко отличается от сталинизма: он решает проблемы не с помощью аппарата, а на основе стихийности.
В конце концов, суд Линча тоже порождение прямой народной демократии. Решили человека повесить и повесят - большинством голосов. Не нужен ни палач, ни полиция, люди все своими руками сделают, и бесплатно. Когда подобные методы применялись в Китае хунвейбинами во время культурной революции, сам товарищ Мао пришел в ужас и начал сворачивать их деятельность. Старые механизмы государственных репрессий, как выяснилось, отнюдь не были демонтированы. Их снова включили, задействовав не против старых бюрократов, а против разбушевавшихся молодых людей.
Из далекой Европы культурная революция выглядела взрывом бунтарской демократии масс.
Погромы, устроенные хунвейбинами, могли быть совершенно символическими. Но могли быть и крайне жестокими. Все зависело от настроения в массах.
Надо не забывать, что репрессии и в китайском, и в советском варианте сами по себе имели… демократическую составляющую. Они обеспечивали вертикальную мобильность, смену кадров. Более гуманного способа ротации кадров система выработать не смогла. Проштрафившихся чиновников надо было куда-то удалять (в тюрьму, в ссылку, на тот свет). Другое дело, что наказание могло последовать не только за провал, но и за успех. Ведь успех вызывает зависть, провоцирует соперничество. Что, впрочем, происходит и в демократической политике - только с менее кровавыми результатами.
На смену истреблявшимся кадрам приходила новая волна выходцев из низов - вертикальная мобильность, демократизация аппарата. Занятно, что потом советская интеллигенция с 1970-х годов себя отождествляла с жертвами репрессий. А большинство ее составляли семьи, которые подняться смогли как раз благодаря репрессиям. Было расчищено пространство для появления огромной массы «выдвиженцев», которые потом поднялись до различных высот, включая интеллектуальные, культурные, духовные и т. д.
Маоизм решал ту же проблему напрямую, давая народу возможность самостоятельно разобраться со «штабами». Это накладывалось на определенные представления о спонтанности, о стихийном движении, типичные для Запада. Достаточно вспомнить идеи Розы Люксембург, ее критику бюрократии, идеологию стихийного пролетарского протеста.
Че Гевара тоже многое взял у Мао. Прежде всего это идея «революционного очага». Че понимал очаг прежде всего в военном плане. Революция может начаться еще до того, как созрели все ее предпосылки. Точнее, предпосылки революции дозревают в процессе самой революции. Решающим фактором здесь становится политическая воля.
Это резко отличает Че и от советских теоретиков, и от ортодоксальных марксистов времен Каутского. Они учили, что нужен ряд объективных и субъективных предпосылок революции. Нужен определенный уровень общественного развития, нужна революционная ситуация, нужна правильная пролетарская партия с правильным руководством. Что делать, если одни предпосылки есть, а других - нет? Ничего не делать. Заниматься пропагандой теории…
Че Гевара не согласен. Он говорит, что революционная ситуация никогда не обернется революцией, если не придет группа людей, обладающая политической волей. А обладая революционной волей, они смогут развить ситуацию. В процессе борьбы создать то, чего не было до ее начала. Дозревание социальной и политической ситуации происходит не стихийно. Многое может зависеть от конкретных людей. Здесь можно находить параллели с русским народничеством,
Че Гевара стал символом личной ответственности, личного риска и самопожертвования. Не случайно, конечно, Че Гевара начинает ассоциироваться с образом Христа. На уровне символическом происходит контаминация символов марксистских и христианских (особенно в католической Латинской Америке). Неудивительно, что фотография с мертвым Че Геварой, погибшим в Боливии, воспринималась как современная версия «Снятия с креста».
Смерть Че становится своего рода искуплением, вершиной его революционной карьеры. С другой стороны, Че символизирует прямое индивидуальное действие, готовность к личной ответственности. Это сильно отличало идеи Че, формально принадлежавшего к коммунистическому движению, от культуры, господствовавшей в следовавших за Советским Союзом партиях. Неудивительно, что Че сразу стал иконой «новых левых».
Итак, в движении «новых левых» 1960-х годов мы видим синтез целого ряда идейных традиций, влияние маоизма, Че Гевары. Заметны и следы анархистской идеологии. Но все же наиболее заметным было влияние Франкфуртской школы, фрейдомарксистов.
Представителей Франкфуртской школы назвать учениками Фрейда можно лишь условно. Они не учились никогда у самого Фрейда. Например, Карл Юнг, который создал более консервативную версию постфрейдизма, непосредственно работал с Фрейдом. Надо сказать, что Фрейду одновременно повезло и не повезло с учениками. С одной стороны, повезло, ибо у него были такие замечательные ученики, как Юнг, а с другой стороны, первым делом все его ученики начинали с критики Фрейда. Они брали у Фрейда понятие бессознательного, но в отличие от учителя полагали, что сексуальность не является единственным источником бессознательного. Юнг уверен, что существуют разные типы личности с разными формами бессознательного. Для кого-то доминирующим фактором оказывается воля к власти, для другого - сексуальность, либидо. Для Франкфуртской школы принципиален не вопрос о том, что приходит из подсознания в сознание, а о том, что вытесняется из сознания в подсознание. Именно то, что вытесняется в подсознание, начинает потом исподтишка управлять личностью. Но и личность, и ее комплексы развиваются в обществе. Психические патологии личности в буржуазном обществе отражают социальные и культурные патологии самой капиталистической системы.
Основоположником Франкфуртской школы считается Теодор Адорно. Автор, очень трудно понимаемый и очень трудно переводимый. Влияние гегелевской философии на его стиль в сочетании с элементами фрейдистского жаргона делает многие тексты Адорно труднодоступными даже для того, у кого немецкий язык родной. Более молодой Герберт Маркузе тоже пережил сильное влияние Гегеля, особенно в ранних работах. Но Маркузе все же не безразлично, понимает его читатель или нет. Гегельянство Маркузе - это скорее проявление влияния Адорно. По мере того как Маркузе освобождается от влияния старшего товарища, он все меньше внимания уделяет Гегелю и все больше - Марксу.
Рядом с Адорно стоит Макс Хоркхаймер. За ними следует молодое поколение - Герберт Маркузе и Эрих Фромм. Наконец, третье поколение - это Юрген Хабермас и Оскар Негт. Старшее поколение пишет по-немецки, среднее - по-английски. Младшее поколение - опять на немецком. Политическая эволюция школы тоже интересна. Для старшего поколения свойственно скорее трагическое сознание. В революцию они не слишком верят. Среднее поколение возлагает надежды на революционное изменение мира, а младшие «франкфуртцы» становятся социал-демократами.
На первых порах Маркузе воспринимался главным образом как ученик Адорно. Правда, Адорно пишет очень темно, а Маркузе доступно, внятно, по-человечески. Естественно, вместо того чтобы копаться в Адорно и разбираться, что этот профессор хотел им сказать, люди брали с полки книгу Маркузе и все понимали. Маркузе писал о культе потребления, об отчуждении и революции, которая должна разрушить коррумпированное потребительское общество. Но вот вопрос: кто будет могильщиком системы? Маркузе, в отличие от Маркса, не возлагает больших надежд на западный рабочий класс. Потребительское общество развратило всех, включая пролетариев. Оно негуманно, оно унижает и деформирует всех, но в то же время никто не готов восстать против этого порядка. Все в цепях, но цепи - золотые. Или, во всяком случае, позолоченные.
Пролетарий вроде бы заинтересован защищать свои права от капитала. Но он не способен к революционному разрыву с ним.
Эти воззрения Маркузе часто противопоставляют классическому марксизму. Однако давайте вспомним работу Ленина «Что делать?». В ней Ленин пишет про то, что у рабочего класса может быть две политики - социалистическая и буржуазная. Экономическая борьба сводится к буржуазной политике рабочего класса - к заботе о лучшем положении для себя в рамках сложившейся системы. И тот же Ленин говорит, что без помощи революционной интеллигенции рабочие выше «буржуазной политики» самостоятельно не поднимутся. Подобные рассуждения Ленина современники активно критиковали. В частности, Плеханов обвинил его в недооценке рабочего класса. Однако в данном случае для нас важно не то, кто был прав - Ленин или Плеханов. Важно, что идеи раннего Ленина парадоксальным образом близки к взглядам Маркузе. Различие лишь в том, что Ленин видит выход из этой ситуации в деятельности революционной партии, которую создает интеллигенция. А Маркузе уверен, что весь рабочий класс вместе со своими политическими партиями - даже теми из них, что называют себя социалистическими и коммунистическими, - полностью находится в плену у буржуазной политики. Он настолько коррумпирован системой, что действовать в качестве революционной силы не может. Потому идея революции у Маркузе теряет черты классовой эмансипации.
Маркузе пишет книгу «Одномерный человек». В истории, рассказываемой философом, нет положительных героев. Все коррумпированы. Но также - все жертвы. Никто не виноват, всеми манипулируют, никто не имеет собственной воли. А у того, у кого нет воли, - нет и вины. Круг замкнулся.
Надо сказать, что одномерный человек, по Маркузе, существует в двух ипостасях. В одной ипостаси он существует на Западе, когда им манипулируют через потребление, рекламу, навязанные потребности. И с другой стороны, есть иные формы отчуждения, характерные для советского общества. Там идеология сама по себе выступает непосредственным фактором управления. Что нехарактерно для западного общества, где предлагают более тонкие манипуляции. Любопытно, что в советском марксизме Маркузе обнаружил и своеобразный освободительный шанс, совершенно четко заложенный в самом идеологическом механизме. Ведь интенсивность идеологического контроля и принуждения ослабевает по мере движения к периферии системы. Центром системы является вопрос о политической власти, чем дальше мы находимся от темы политической власти, тем менее интенсивен контроль (что отнюдь не обязательно при капитализме с его более тонкими методами). Это заставляет всех недовольных уходить из сферы политической идеологии в сферу культуры. Иными словами, чем больше людей начинают загонять на партсобрания, заставляют голосовать по указке, осуждать врагов, тем больше люди начинают интересоваться стихами, покупать томики Ахматовой, читать поэзию Серебряного века, ходить в театры. Именно здесь, по Маркузе, скрыт секрет беспрецедентного расцвета культуры и искусства в СССР, несмотря на жесткую репрессивную среду.
Система в качестве защитной реакции провоцирует у людей массовую потребность в культуре. Понятно, что идеологи осознают это, они начинают вмешиваться в сферу искусства, эстетики, культуры, пытаются там тоже установить свои нормы. Возникает цензура в сфере искусства. В том числе не только на выражения политического инакомыслия, но и на художественные формы (абстракционизм, нетрадиционная музыка и др.). Но здесь система все равно не может достичь той интенсивности контроля, которой она обладала в чисто политических вопросах. Применение таких мер контроля к эстетическим образам заведомо неадекватно. Художественный образ не может быть, на самом деле, подцензурен, он не сводится к чисто логическим, артикулируемым формулировкам, которые могут быть скорректированы. Речь даже не идет о скрытом протесте. Писатели сочиняют про Древний Рим, а у читателя возникают ассоциации с Политбюро. Иногда даже незапланированные. В знаменитой пьесе Леонида Зорина «Дион» кто-то из римского начальства призывал вызвать в столицу варваров «временно, вплоть до стабилизации ситуации». Это было написано еще до советского вторжения в Чехословакию. А когда вторжение случилось, официальные лица использовали ровно те же слова, что вложил драматург в уста римского начальника!
Искусство работает не на уровне конкретно артикулируемой реплики, оно работает на уровне сюжета, на уровне восприятия образа, ощущения, настроения и т. д. Поэтому, если вы вырезали реплику, вы испортили текст, но настроение все равно осталось. Возникает парадокс. Искусство занимается «прекрасным». Но «прекрасное» становится политическим, потому что сфера эстетического становится сферой протеста, сферой ухода. Тот самый уход, который для Маркузе, в западном варианте, представляет собой отказ от потребления. В советском варианте, оказывается, отказ не нужен. Люди уходят в сферу искусства, в сферу прекрасного и здесь находят свою защитную среду. Получалось, что «Советский марксизм» давал читателю более оптимистичный взгляд на жизнь, чем «Одномерный человек». Это написано, прежде всего, про западного человека. Книга про одномерного человека была запрещена в Советском Союзе: она вызывала нежелательные ассоциации. Но одномерный человек советского образца был загнан в свою одномерность формальными ограничениями. Его пустили по коридору, коридор узкий. А западный одномерный человек сам бежит туда, куда нужно, не пытаясь сворачивать. Он сам одномерное существо, потому и движется по прямой. Сфера западного искусства тоже достаточно поражена вирусом коммерции. Маркузе оказался куда более снисходителен к советскому человеку.
Капиталистическая система на Западе, считает Маркузе, плоха не потому, что приводит - по Марксу - к обнищанию пролетариата, абсолютному или относительному, а потому, что ведет к деградации личности. В этом смысле положение буржуа не лучше, чем положение пролетария. Ключевым моментом является духовное обнищание, а не материальное. Потому бунт, провозглашаемый Маркузе, - это бунт в том числе и против потребления.
Революционным принципом становится отказ. Не просто отказ от избыточного, навязанного системой потребления, но от всей системы потребительских ценностей. Маркузе не призывает людей выбрасывать в окна холодильники и телевизоры. Он говорит о философии потребления, хотя предполагает и определенные сдвиги в поведении. Кстати говоря, идея отказа, по Маркузе, сразу находит отклик у молодежи. Ведь молодежи гораздо легче, нежели старшему поколению, дается нонконформизм. В двадцать лет человек может отказаться от благ цивилизации и стать, например, хиппи. После сорока такой подход к жизни гораздо более проблематичен - появляются связи, дети, обязательства. Потому идеи Маркузе прежде всего были восприняты молодежной средой.
Но с другой стороны, если революцию не совершает рабочий класс, как учили Маркс и Ленин, то кто? Молодежь становится сама по себе революционной силой? Маркузе надеется на студентов и разного рода маргиналов, не вписанных в систему потребительского общества. Студент, например, еще не включен ни в систему производства, ни в систему потребления (эти две системы в условиях позднего капитализма тесно взаимосвязаны). Он еще не до конца социализирован. Он социализирован как личность, но не как субъект производства, не как объект управления. Его участие в управленческих иерархиях минимально. Ему не дают прямых указаний, его участие в системе ограничивается нормами посещения занятий, которые тоже постоянно и безнаказанно нарушаются (французских и американских студентов, в отличие от их советских сверстников, не посылали копать картошку).
Книга Маркузе «Эссе об освобождении» становится крайне популярна среди радикальной молодежи 1960-х. Однако сам ее автор в конце жизни начинает сомневаться в своей правоте. Может быть, он недооценил рабочий класс? Смогут ли студенты самостоятельно совершить социальный переворот? Революция 1968 года показала, что не смогут.
Поздний Маркузе серьезно занимается самокритикой. В одних случаях он публично корректирует свои взгляды, в других заявляет, что был неверно понят. Появляется книга «Контрреволюция и бунт». Маркузе, анализируя поражение революции 1968 года, возвращается к более традиционной стратегии, весьма близкой к ленинской. Он не отказывается от поддержки студенческого движения, но видит в нем лишь детонатор - малый мотор молодежного протеста, который должен запустить большой мотор рабочей революции. Студенты должны пробудить в рабочих классовое сознание. Тем самым философ 1960-х годов возвращается к идеям раннего Ленина, только в другой, уже западной культурной интерпретации. Поздний Маркузе, в сущности, подвергает свои собственные взгляды достаточно фундаментальной ревизии, возвращаясь в большей степени к традиционному марксизму, но по весьма странной траектории.
В 1968 году в Париже студенческие волнения действительно спровоцировали забастовки рабочих. Но рабочие боролись отдельно, а студенты отдельно. Это были два параллельных процесса. Впрочем, Маркузе приходит к заключению, что революция студенчества потерпела неудачу не только в силу ограниченности своей социальной базы. Он делает еще один вывод, который крайне важен для дальнейшего развития марксистской политологии. Он говорит о превентивной контрреволюции. Иными словами, контрреволюция начинается уже не только как ответ на революционные действия (так было в XIX веке). А в XX веке правящие элиты, понимая возможность революционного взрыва, могут начать контрреволюцию превентивно, еще до того как началась революция. Че Гевара пишет, что революция может начаться еще до того, как созрели все ее предпосылки. Но Маркузе замечает, что и контрреволюция разворачивается раньше, чем возник революционный кризис. Что, кстати говоря, и произошло с Че Геварой в Боливии, где он попытался на практике реализовать свою идею стимулирования революции и спровоцировал превентивную контрреволюцию, жертвой которой сам и стал.
В изменившемся обществе политическая воля и сознание играют возрастающую роль. Однако Маркузе, в отличие от Че, не возлагает чрезмерных надежд на политическую волю. Ключом к победе является расширение социальной базы движения. Это единственный ответ на превентивную контрреволюцию. Более того, как показывает последующий опыт, неправильно проведенная превентивная контрреволюция сама по себе может толкнуть новые силы в революционный лагерь, ускорить его консолидацию. Путинщина в России годов - типичный пример превентивной контрреволюции. Правящая элита боится социального взрыва, боится негативных последствий собственной политики и начинает завинчивать гайки. А в итоге - недовольство либеральной буржуазии, рост политической конфликтности в обществе и возникновение предреволюционной ситуации.
продолжение Б.Кагарлицкий. Марксизм. 17. Марксизм и психоанализ





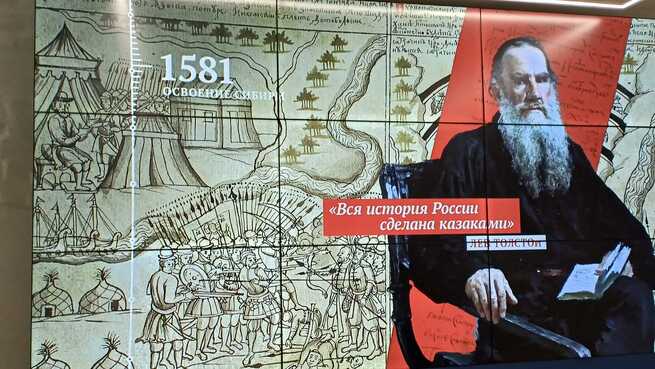



Оценили 6 человек
15 кармы