Глава 1. Рядом с Лехой
— Слушай, Федь, у тебя полсотни баксов не найдется до понедельника? — спросил Леша, поворачивая к нему голову.
Леша — ловкий парень, рост выше среднего, плечи крепкие, манеры американские, он даже ногу на стул ставит, как американец. Обхватит стул за спинку, повернет его к себе сидением, водрузит на это сидение свою ногу в сверкающем ботинке и беседует с тобой. И все этот жест уважают. В этом жесте есть что-то полезное для корпоративного имиджа всего банка. Народ это чувствует и не возмущается. А может, не возмущается потому, что именно так делал один из европейских боссов, когда приезжал инструктировать банк.
— Не проблема, — солидно сказал Федор, — ты подожди, у меня в шкафу пальто, а в нем бумажник, — и пошел к шкафу. Он откопал свое пальто, вполне приличное даже для такого заведения, в котором он теперь работал, достал бумажник и с удивлением обнаружил, что этих самых баксов у него вообще нет! Разменял вчера сотню, дал что-то жене на продукты, сводил детей вечером в «Макдональдс», потом доехал на такси, и надо же, вот как бывает: думал, при деньгах, а теперь, оказывается, пара сотен рублей это все, что было в его распоряжении. По идее, следовало вернуться и сказать: «Извини, денег нет». Наверное, Леха в такой ситуации ничуть бы не смутился и сказал что-нибудь типа: «Ну, мужик, извиняй, одни только отечественные, и тех на хороший обед не хватит. Видимо, погулял вчера хорошо».
Нет, Леха почти всегда при деньгах. Он бы дал небрежно, с достоинством и сказал бы при этом: «Мужчина без денег — это не мужчина, это самец». Когда только Федя пришел в банк и познакомился с Лехой, у него появилось чувство, которое, наверно, испытывают новобранцы перед «дедом». «Дед» не остроумнее, а шуткам его все смеются. Парадокс! У Лехи было много шуток и, может быть, поэтому всегда хорошее настроение. Чаще других он повторял такую: «Не бери в голову — бери в рот: легче выплюнуть». Услышишь такое напутствие и никак не поймешь — то ли тебя обхамили, то ли, наоборот, приободрили. При таком специфическом наборе острот у Лехи был потрясающий американский английский и под стать ему ботинки.
Короче, возвращаться к рабочему месту без денег было неловко. Не дай бог, решат, что передумал. Достал бумажник, пощупал свою денежку и передумал. Фу ты, какая гадость! А может быть, сбегать на второй этаж, занять у кого-нибудь до завтра? И чтобы не увеличивать паузу, Федор побежал на второй этаж. В валютном отделе работала Зинаида Григорьевна, милейшая женщина. Она была намного старше Федора. Отношения у них завязались сами собой. Федя как-то по привычке пропустил вперед женщину. Она отметила его галантность. Федору это польстило. Он стал подчеркнуто обходителен с дамой. Она отвечала тем же. Обоим такое общение приносило удовольствие. Так каждый начинал играть выбранную роль все более последовательно и определенно. Ведь с каждым формируется свой стиль общения. И вот уже Федор знал, что есть человек, который его поддержит. Чувствовал, что Зинаида не откажет в услуге, одолжит с удовольствием денег. А такая сумма у нее, скорее всего, найдется. Но Зинаиды Григорьевны в отделе не оказалось. За стеклом сидели женщины, каждая за своей ширмочкой-перегородкой. «Тот же конвейер», — подумал Федор, задержавшись у стекла. Федор не собирался просить у малознакомых женщин денег и все равно оглядывал сейчас их лица, отмечая про себя: у этой, скорее всего, денег нет, у этой деньги, может быть, и есть, но она будет говорить: «Вы знаете, недавно только купили машину, отдаем долги, да вот еще...» Не стоит ставить ее в дурацкое положение. А вон та скажет что-нибудь типа: «Сама не занимаю и другим не даю». Короче, подходящей кандидатуры не было.
Помнится, в советские времена, когда занимали деньги, то всегда говорили: «Дай до аванса или до зарплаты», а теперь убеждают: «Слушай, нужно перекрутиться, вот-вот деньги на счет придут» или: «Как раз завтра должна пройти одна сделка». Казалось бы, куда более обнадеживающе, а на поверку как раз и нет. Можно так сказать: «Жить стали менее упорядоченно и деньги отдавать менее порядочно». Нет, в своем коллективе отдать долг — это святое. Тебе этим людям каждый день в глаза смотреть! И то бывают исключения. Не то чтобы взял и не отдал, а чаще так — занял, а с отдачей задержался. Ну, брал, например, для знакомых, а они не успели прокрутить. Или на друзей понадеялся, а те подвели. Кто-то там обещал, а его самого кинули, отдали в рублях, а курс скакнул. Да мало ли что. И вот из-за всех этих обидных нестыковок просить денег у людей малознакомых было неловко. Тонко чувствуя все это как банковский работник, Федор осмотрел лица представительниц слабого пола и хотел уже идти назад, как вдруг, как нельзя кстати, появилась Зинаида Григорьевна. Она увидела Федора и расплылась в улыбке:
— Феденька, как хорошо, что вы пришли. Мы вас только недавно вспоминали!
Манеры у нее были немного старомодными и оттого еще более милыми на фоне современной простоты. Федору было неловко, что причина его визита столь прозаична. Но деньги Зинаида дала с такой радостью, так долго уверяла, что это ее совсем не стеснит, и так искренне сияла при этом улыбкой, что Федор перестал смущаться и с приятным чувством, которое всегда бывает от общения с человеком, если он к тебе явно благоволит, пошел на свой этаж. «Ну надо же, — рассуждал он по дороге, — один вот так просияет, когда получит денежки, другой — когда, наоборот, отдаст». Федор поднялся к себе в отдел, вручил деньги Лехе. Так совершенно неожиданно, по причине Лехиных ночных гуляний, сложных душевных переживаний Федора и отзывчивости Зинаиды Григорьевны, денежки из аккуратненькой сумочки перекочевали в Лехин бумажник, совсем недолго пролежав в кармане у Федора. Федор закончил свое денежное дело и теперь сидел и вбивал в электронную таблицу осточертевшие ему сверх всякой меры экономические показатели.
Расположение столов в банке было сделано на западный манер: каждый сидит за маленькой перегородочкой — нагнулся и вроде ты в норке. Перед глазами у тебя даже карточка с женой и детками, пупсик на ниточке, подаренный клиентами, но стоит начальнику встать во весь рост, каждый у него как на ладони. Все это чувствуют нутром, а тот, кто на работе не горит и рад бы сачкануть, — особенно. И в Интернете поэтому ходят на те страницы, где публикуются финансовые новости, и не ходят туда, где девушки предлагают свои фото, знакомства, переписку для романтических отношений и любовь за спонсорство. Федор в Интернет на сайты знакомств не ходил, он погружался в свои мысли. Давил на кнопки и думал, как же так все обернулось, что он сидит в этой конуре, смотрит в эти ненавистные цифры и так будет еще три дня, потом наступит пятница, а потом опять то же самое с понедельника.
Перешел он в банк почти семь лет назад, из института, где был самым молодым преподавателем (раньше всех в аспирантуре защитил диссертацию, получил ассистента). Казалось, только началась его научная карьера, а он уже почувствовал, что та кафедра, где он учился, учился и еще раз учился (с аспирантурой — около десяти лет), скоро загнется, потому что ветер уже явно дул не туда. Кафедральная наука загибалась, студенты, продавая цветы по ресторанам, за день могли заработать больше, чем он за неделю. Федор махнул на все рукой и ведь верно угадал момент — в самом начале девяностых годов перешел в банк и сразу, как ему показалось, стал на голову выше всех своих сослуживцев по институту. Бывшие коллеги по-прежнему ходили на работу в дешевеньких пиджачках, пили чай из почерневших от заварки кружек, курили в подвале, паяли микросхемы будущих устройств по тем бредовым проектам, которые так часто рождаются в головах аспирантов при отсутствии научного руководства. А Федор видел: все, здесь ни науки, ни денег не будет! Другое дело он сам. Его радовала необходимость надевать каждый день белую рубашку, тщательно завязывать галстук. Нравилось ездить к солидным клиентам, переводить иностранные факсы, а главное — получать несколько стодолларовых банкнот, менять их на толстые пачки рублевых купюр, покупать детям тогда еще диковинные йогурты и удивляться, как далеко его могут увезти на такси всего за один доллар. Все это было так ново для советского человека, давало ощущение солидности и даже элитарности. Нередко он сопровождал в разные страны важных клиентов. Удобные гостиницы в зарубежных командировках так выгодно отличались от студенческих домов отдыха с обшарпанной мебелью. В дорогих номерах по утрам горничная приходила будить и ставила на стол свежий букет роз. Когда-то Федор слышал шутку-во¬прос насчет того, когда в Америке появляется первая клубника. Правильный ответ был — в полшестого утра. Оказывается, даже раньше. Однажды, проснувшись ночью в зарубежном отеле, он набрался наглости и попросил принести ему в постель фруктовый салат. Казалось, вот она — вершина человеческого блаженства! Официант в смокинге принес в три часа ночи и поставил на тумбочку огромное серебряное блюдо, на котором громоздились ломтики дыни, персики и та самая первая клубника.
Время шло, и Федор привык тратить деньги по-другому: выпить бутылочку пивка, съесть бутерброд с икрой — и постепенно вошел во вкус. Он все больше понимал пустоту этого внешнего лоска, и все труднее ему было от него отказаться. В то же время он чувствовал, что все его новые привычки даются не бесплатно, что за все надо платить своим временем, часами, днями, неделями — лучшими годами жизни! Засиживаться допоздна с отчетами, ходить с клиентами в ресторан, с людьми приятными и не очень, отдавать себя делу, которое ему не нравилось да и не могло нравиться, потому что он не обладал специальными знаниями, не стремился сделать карьеру на этом поприще. Он вообще не любил ничего в этом бизнесе, кроме, может быть, зарплаты. Да еще той самой бутылочки пива, приличного костюма для себя, для жены, для детей, ручки с золотым пером, коробочки конфет... Он уже не рвался, как говорится, вперед и вверх, нашел свою нишу. И, как ни обидно признать, стал клерком — неплохим клерком в богатой организации, где от него требовалась исполнительность, корректность, грамотная речь, знание иностранного языка, владение программами Microsoft Office. И впрямь, на заре перестройки таких «менеджеров» не хватало. Но это было почти десять лет назад. Уже через пять лет его зарплата стала не такой заметной. В стране развивался капитализм — появлялись богатые люди и очень богатые, а вместе с ними и очень бедные. Он же получал ровно столько же, сколько подобные ему клерки в малоразвитых странах. И дело даже не в том, что за стенами его банка шел передел богатейшей страны, а скорее в том, что он тратил свое время на что-то непонятное, вязкое и неинтересное.
Многие из его нынешних коллег давно обошли его по зарплате. Тот же Леха, кстати. Леха находился рядом, а время для него неслось сплошным потоком, без нудных пауз и мучительных раздумий. Леха был на своем месте в свое время. Сейчас он сидел с кружкой кофе в руке, отъехав от стола на кресле с колесиками, разместив на пачке буклетов свои молодые ноги в стодолларовых ботинках, и беседовал по телефону.
— Ну что, Палыч, все сосешь и ничего не высосешь, как я понимаю? — говорил он с очередным начальником, как всегда по-приятельски. — Да ты мне эту сказку уже второй год рассказываешь! Когда там вас «Газпром» облагодетельствует? — почти кричал в трубку Леха, употребляя те выражения, которые считал нужным, и как будто давал понять: «Это я тут бизнес делаю, а вы все — дармоеды кругом, поэтому как с клиентом надо разговаривать — это мне решать, а не нравится — заткните уши». На самом деле Леха ничего подобного никогда не говорил. Просто так понимал его Федор.
— Давай в среду заезжай, сходим по пиву, я тебе историю расскажу. Есть о чем подумать, — продолжал немного тише Леха. — Я их там уже пару месяцев окучиваю. Ну это не по телефону! — Леха закончил разговор, а спустя несколько минут у него следующий лучший друг на проводе, теперь уже из Бостона, кажется. Ему Леха кричит: «Hi, Sam! How’s your fucking business?»1. Хамство Лехино было признаком расположения, а вовсе не наоборот. Так сказать, язык для друзей. А врагов у него вроде бы и не было. Обругать теми же словами — кого за срыв бизнеса, как говорится, по злобе` — такого за ним не водилось. Наоборот, тут он говорил корректно, сдержанно. Максимум мог себе позволить фразу: «Ну давай, мужик. Когда надо будет — обращайся», — намекая на то, что мир-то тесен. Сам, мол, придешь, вот тогда и поквитаемся. Но такое с Лехой случалось редко. Федор так привык к Лехиным громким разговорам, что они его почти не отвлекали. Он даже любовался Лехой как человеком, который делает свое дело споро и с удовольствием. Федор давил на клавиши и с тоской вспоминал, как он просиживал когда-то ночи в вычислительном центре над расчетами. Какое это было счастье — найти в программе последнюю ошибку и получить работающую модель! Выйти в три часа ночи из ВЦ, шагать по Москве, смотреть на редкие ночные машины, у которых длина свободного пробега прямо как у молекулы в безвоздушном пространстве, и предвкушать, как столбики цифр на тоннах его распечаток будут превращаться в графики на бледно-оранжевой миллиметровке. Он любил весь процесс: развернуть непослушную миллиметровку, расправить, приколоть ее аккуратно кнопками к чертежной доске, взять в руки большой мягкий ластик...
За те семь лет, что он просидел в банке, их лабораторию в институте разогнали, оборудование вынесли прямо во двор, и оно ржавело под дождем, продать его было некуда, да и некому. Кто-то пошутил: «Таких уникальных установок в России только две. И обе у нас на помойке!». Со временем на территории лаборатории сделали винно-водочный магазин, и через полгода стоимость оборудования окупилась. Из его институт¬ского начальства многие перестроились, сдавали в аренду помещения. Несколько раз по телевизору мелькали лица его бывших комсомольских боссов. Почти все они успели что-то приватизировать и руководили теперь уже не государственным, а частным хозяйством. Да дело, видимо, не в зависти к этим боссам: денег Федору хватало на жизнь, но не было удовлетворения, что ли. А может быть, дело было в том, что он привык быть первым: самый высокий балл на потоке, первый в отборочном туре для поездки на стажировку в Европу, самый молодой кандидат наук, первым ушел в бизнес в престижный банк. И вот теперь жизнь неожиданно сбавила темп. «Нет, это не тупик, — думал Федор, — это скорее замкнутый круг».
— Распишись в получении, — рядом с его столом появилась секретарша Ира, бросила на стол циркуляр, на котором надо было поставить в графе Received1 дату и подпись. В конце листа стояло напоминание: Please, Rotate2 ! То есть дальше документ по офису должен был передать уже сам Федор. Как хорошо продумано — взгляни на этот сопроводительный листок и видно: кто задержал документ дольше положенного, а кто прочитал и передал следующему вовремя. Дальше бери данные, штрафуй одних, премируй других. И не нужны никакие строгие выговоры, выговоры с занесением, прорабатывание на профкоме. Все логично, просто. Не нужно человека позорить перед коллективом, а грамоту он себе и сам купить может. Так или не совсем?
Когда-то Федору нравилось в банке. Хотелось быть частью этой прогрессивной логичной структуры, и поэтому он читал и читал циркуляры и сводки до полного одурения. Длилось это, правда, не долго. Со временем пришло ощущение тупости этого занятия. Он даже нашел уничижительное сравнение — представлял себе ученицу электротехнического ПТУ, которой во что бы то ни стало хочется сдать экзамен.
От Лехи бумажки улетали с завидной скоростью, и главное, он в них для себя находил массу полезного, был в курсе всех событий, коэффициентов, биржевых показателей. У Федора же вечно документы залеживались, и когда срок задержки переваливал за критический, он их тайно уничтожал и тогда уже стоял насмерть, уверяя, что в глаза такого циркуляра не помнит. Вся переписка в российском филиале велась на английском языке даже между российскими сотрудниками. Так было проще. Говорили на смеси русского с английским. А как еще назовешь все эти вещи, которые в «прошлой жизни» и не существовали. Все эти Customer Entertainment1, Daily Allowance2, Office Expenses3. Дел в офисе хватало, даже если вообще ничего не делать. Кроме чтения бесконечных циркуляров, нужно было слушать голосовую почту. Каждое третье сообщение приходилось переслать другим сотрудникам с комментариями, затем просмотреть электронные письма, потом хоть как-то на некоторые ответить, принять участие в телеконференции. А еще говорят, что в западных компаниях нет бюрократии. Со временем Федор научился слушать голосовую почту и продолжать думать о своем. Многие «месседжи»4 отсылались сразу всем филиалам и не были адресованы персонально ему. Их он слушал вполуха и только вздрагивал, когда сквозь забытье прорезалась его фамилия. Тут он спохватывался, пытался въехать в сообщение. Некоторое время переживал, потом отпускало.
Нет, совсем не быть в курсе, не знать, что происходит во¬круг, нельзя — пропадешь. Но и из почты всего не узнаешь: живое человеческое общение — вот что необходимо. Как сказал Экзюпери: «Нет большей роскоши, чем роскошь человеческого общения». Так, кажется. А где оно происходит, это самое общение? В офисе оно проходило в курилке, в командировке — в ресторане. Вот почему для бизнеса нужно хорошее здоровье, а в России особенно. Курилка у них была отдельная, с мягкими креслами, с огромным телевизором Barco1. Курить он так и не пристрастился, сигарету держал неумело, почти так же плохо, как и бутылку, поэтому настоящий бизнес ему и не поручали. В курилке сидели Леха, Игорь и Женя (зам начальника отдела). Он как раз рассказывал о своей поездке куда-то в Сибирь. Из официальных источников Федя знал, что Женя привез важный контракт и в банк скоро придут крупные суммы, а подробности можно было узнать только здесь, и, наверное, нигде больше. А главное, облечь пустые цифры в живую оболочку человеческих рассказов и пикантных подробностей. Начала рассказа Федор не застал, но сразу сориентировался, что к чему. Женя подходил к развязке, когда после двух дней переговоров с экономистами, уже накануне подписания договора, его пригласили в ресторан, а потом, как водится, в баню.
— В баню приехали уже тепленькие, — рассказывал Женя, показывая прокуренные длинные зубы. — Там все, конечно, в лучших традициях. Баня, видать, строилась по проекту хозяина: вся резная, в русском стиле, с легким влиянием позднего барокко. Стол, конечно, накрыт по полной программе, хотя в рот уже ничего не лезет. В предбаннике массажист и его помощник стоят, ждут, не понадобится ли их услуги. За столом девки в простынях сидят. Мы вошли. Все ждут, кого себе Сергей Палыч присмотрит. (Сергей Палыч, видимо, и был тот самый, от которого контракт зависел, — понял Федор.) А он, — входил во вкус повествования Женя, — Сергей Палыч этот самый, лыка почти не вяжет. Ко мне обращается и достаточно громко говорит: «Девки, конечно, дрянь! Вот при входе только одна стоящая». А на входе и впрямь была какая-то — то ли заведующая, то ли администратор — статная женщина, и в теле. Тут его экономист под руку лезет: «Что вы, — говорит, — Сергей Палыч! Это же новый администратор. Вы разве ее не помните: она же у нас в обкоме работала». Сергей Палыч насупился, ну прямо туча, а у меня договор в портфеле, — улыбался, набивая цену своему «охотничьему рассказу» Женя.
— Я как раз момент выжидал, а тут такой прокол. Ну, я к его барбосам. Говорю, мужики, не обижу — так, мол, и так. Как уж они там ее уламывали, не знаю, только Сергей Палыч из парилки вылез довольный, подмахнул бумагу, даже не взглянул на цифры. Вышли из бани, сел за руль, улыбается и по-отечески так говорит: «Поедем мои владения смотреть». И меня рядом с собой спереди сажает. Ему этот очкастый опять под руку (видать, специалист, раз он такого зануду терпит): «Сергей Павлович, как же вы поедете? Вы же выпивши». Это, видать, шефа и завело. Всех баб в свой «мерс» посадил и говорит: «Девочки, вы слыхали, кто такой Шумахер?» Вышел на трассу, мигалку поставил. Ну, в общем, как говорится: «Какой же русский не любит быстрой езды!» Я на спидометр посмотрел, а там под двести, гаишники только честь отдают. Короче, я, мужики, жизнью рисковал за общее дело, — закончил свое повествование Женя, посмотрел на всех, оценил, какое произвел впечатление, затушил свой бычок и пошел по делам.
— Приврал, конечно, — сказал Игорь.
— Может, и приврал, — швырнул свой окурок в урну, как в баскетбольную корзину, Леха, — но штук пятнадцать зеленых он в этой бане заработал. Причем как всегда вовремя подставил чужую задницу — талант. А ты заметил, какие у нас люди в обкоме работали? Сколько лет прошло, а они с возрастом только крепчают. Видимо, воспитание сказывается. Как там говорили: «Если партия скажет: есть контакт! — будут есть контакт». Да! Кабы не та баба, Женьке бы туго пришлось в этой бане, — в своей обычной манере острил Леха.
Федор посетил информационный брифинг и пошел сортировать почту.
Глава 2. Телевизор
Пять лет назад Федору казалось, что он заработает денег и сможет сменить эту работу на что-то более творческое, близкое ему и приятное. Нет, он не сидел сложа руки в своем банке. В самом начале думал о карьере, лез из кожи вон, пытался приносить деньги в банк, делать бизнес, как Леха, но вскоре почувствовал, что бизнесменом он не родился и что скоро, если бизнес его и дальше будет столь же «успешен», его просто выгонят. Тогда он и нашел себе более спокойное исполнительское амплуа, с которым худо-бедно справлялся. Первые годы экономил, вкладывал отложенные деньги в разного рода «МММ», частные и государственные, пока не понял, что как только деньги выходят из-под личного контроля, они исчезают тем или иным способом. Потом был период, когда он пытался раскрутить собственное предприятие: собрал программистов, сидел с ними ночами, рисовал, участвовал в разработке софта1. Банк, правда, при этом не бросал как единственный источник дохода. Создать программный продукт оказалось не так сложно, а дальше выяснилось, что нужно организовывать продажи, платить налоги и даже разговаривать с бандитами. Круг опять замкнулся — творчеству места не оставалось. Рынок не создавал таких условий, как когда-то на кафедре в институте, где можно было взять хозрасчетную тему, «напридумывать науки», причем не халтуря, а работая добросовестно, с упоением и восторгом (в этом-то и была прелесть), получить от завода липовое внедрение и думать: «Что бы еще такое обсчитать?» Где-то он услышал фразу: «На современном рынке труда не так ценится творчество, как способность идти на унижение». В самом деле, в магазинах появились продавцы, которые улыбаются, подавляя естественное желание нахамить, в гостиницах — молодые швейцары в ливреях с золотыми галунами и в дурацких цилиндрах, и даже — мужчины-стриптизеры. И в то же время людям таких уважаемых профессий, как врач, преподаватель вуза, ученый НИИ, людям, от которых так много зависит, от которых так много требуется знаний, людям, которых всегда называли по имени-отчеству, именно им денег и не платят! — Неужели это компенсация? — думал Федор. — Государство как бы говорит: «Тебя и так уважают, величают по отчеству, ну и получай свои копейки, раз ты такой умный и гордый».
Вспомнилось Федору, как лет пятнадцать назад в поселковом магазине продавщица жаловалась на соседа-профессора: «Да он уже на пенсию вышел и чисто из удовольствия опять все свои крючки рисует. Ему же за это еще и деньги платят! А я жду не дождусь, когда пенсия подойдет, да все эти ОБХСС сниться перестанут, и покупателей можно будет послать к такой-то Фене».
— Вот, видимо, теперь все по справедливости, — усмехался своим воспоминаниям Федор. А он сам! Разве ему не приходится улыбаться, встречая очередного клиента в Шереметьево в воскресенье, а потом везти его на своей машине в ресторан или торчать в казино, пока этот жлоб не напьется и не подцепит на остаток ночи какую-нибудь девицу, которая сменит его, Федора, и будет развлекать клиента дальше. Можно себе, конечно, говорить, что ты являешься напарником бизнесмена, а не проститутки, но Федор почему-то все больше видел себя именно компаньоном девушки из казино.
И главное, что он имеет взамен? Что это ему все дает? То, что он может купить баночку пепси-колы, лишние джинсы, съездить на неделю в Египет, а не в Крым на месяц, как раньше? Что хорошего в том, что теперь он не поедет в дом отдыха, если там нет отдельного номера с душем? Теперь у него в отпуске номер с душем, и в этот номер ему могут в любой момент послать факс, который портье сунет под дверь, и надо будет звонить в офис, говорить, где, в какой директории у него лежит отчет за такой-то квартал... По всему миру, как на привязи, и все это за тысячу долларов.
А сколько людей за эту тысячу долларов готовы удавиться! И почему? Может быть, он просто не пробовал получать зар¬плату современного преподавателя и кормить на эти деньги троих детей? Говорить им, что пепси-кола — вредный напиток, что гораздо полезнее пить воду из-под крана? Впрочем, разве не так? А если так, то почему унизительно?
Вот Ландышев, приятель его, в институте не блистал, да и все его считали не таким перспективным, как Федора. А удержался в науке, что-то пишет и с женой себя правильно поставил. Как денег хватать не стало, пошел по вечерам дворником подрабатывать. В следующий раз на жалобы жены ответил коротко: «Успокойся, я математик, а не продавец. Нужно было раньше думать, за кого замуж выходишь!» Интересно, дети его в школе хуже всех одеты или нет? А, может, наоборот, в семье все правильно поставлено: ничего лишнего, никаких видиков, папа перед сном «Войну и мир» читает или про Миклухо-Маклая рассказывает. Младшие донашивают то, в чем ходили старшие. Или такое только раньше было, а теперь парень, чтобы купить себе шмотки модные, скорее воровать пойдет, чем старье донашивать — времена не те? И разве не унизительно говорить ребенку, что я не могу тебе купить такую одежду, как у подружки в классе? Видеть, что жена на лекарствах экономит, что к столу сок купить не на что?
А если, не дай бог, понадобится детям операция и хороший хирург — это вопрос денег? Да пусть не операция — разве ему самому в тринадцать лет не хотелось надеть эти самые джинсы на школьный вечер? Казалось, только в них и можно почувствовать себя человеком.
Нет, Федор «от зарплаты до зарплаты» жить не пробовал. И не пробовал именно потому, что не хотел этого пробовать, иначе чего бы он унижался перед начальством, скакал на эту работу, когда нужно и не нужно, к девяти часам, чтобы вовремя попасть на глаза кому следует. Это незаменимые, такие, как Леха, которые в банк деньги приносят, могут позволить себе опаздывать. А он теперь кто? Таких, как он, каждый год наши коммерческие вузы пачками выпускают, и каждый на его место норовит. И, видимо, поэтому, как ни плевался Федор, а за место свое держался. Да к тому же в банке все время что-то перепадало: то левая обналичка, то льготный кредит, то шикарные новогодние подарки (коллекционное шампанское, конфеты в изысканных упаковках). А то и как сегодня — шефу в кабинет привезли новый телевизор, старый хотели продать сотрудникам по дешевке, а начальник передумал, вызвал Федора и сказал: «Федь, там телевизор лишний нарисовался. Если нужен — забирай».
В том, что начальник дарил ему старый телевизор, было что-то доверительно-благосклонное и в то же время оскорбительное.
— А может быть, в этом ничего плохого и нет. Может быть, это мои комплексы, — размышлял Федор. — Вот подарили бы телевизор Лехе. Леха бы сказал: «Во, блин, у меня в гараже телика нет!» И никак это за хамство не посчитал бы. И все бы поверили, что во всех других местах у Лехи уже есть по телевизору. И ведь я бы еще переживал, что Лехе в гараж телик дают, а у меня даже в комнате такого нет. А теперь дали мне — так опять не здорово. К тому же отказаться — означало показать начальнику, что такой подарок его обижает, надо было пускаться в неприятные объяснения. Да и в чем, собственно, обида? А что было бы, если такой телевизор решили бы отдать сотрудникам на их нищей кафедре? Да народ бы передрался, жребий бы тянули, и каждый бы шептал про себя: «Господи, ну сделай так, чтобы этот телевизор...» Да и откуда на кафедре мог взяться такой телевизор? — путался в своих рассуждениях Федор. — Почему же у меня такое впечатление, что я продаюсь за всю эту мишуру, а Леха нет? Почему? Почему Леха с бизнесменом в казино девочку вместе снимают, а я себя с этой девочкой равняю? Почему Леха здесь как рыба в воде, а я до сих пор комплексую? Ведь я же не глупее! В чем-то тут другом дело, но в чем?
Деньги для Федора все больше теряли свою прелесть: «Чем больше я зарабатываю, тем больше к этому привыкают домашние, тем меньше ценят, тем сам я их меньше ценю, а нищим себя ощущаю все больше. Что это — зависть?» Нет, завистливым он не был. И даже создать свое капиталистическое предприятие уже не хотел, не хотел копить денег, чтобы купить себе новенький «опель», мыть его по утрам теплой водой с мылом и получать от этого эстетическое удовольствие. Все это было так малоинтересно, что не стоило и напрягаться.
— При чем здесь «опель»! — вернулся на землю Федор. Послало ему провидение на этот раз не «опель», а телевизор, большой, красивый, но все-таки не новый.
Можно, конечно, дома и не говорить, что телевизор ему дали, потому что его деть было некуда. Можно обыграть это как-нибудь с воспитательным эффектом, сказать детям: «Вашего папу наградили большим телевизором за отличную работу. Учитесь хорошо, и вас тоже будут ценить!» Впрочем, телевизор, по-видимому, особой радости не вызовет. Жена, скорее всего, скажет, что, мол, мало нам этой заразы в одной комнате, так теперь еще во второй появится. Хоть из дома беги! Придется обижаться, настаивать, говорить: «Как тебе не стыдно, телевизор совсем новый, пятого поколения». А дети начнут кричать: «Мама, мама, как здорово! Пусть телевизор у нас в комнате постоит». — Господи, — негодовал Федор, — ну почему они у нее спрашивают?! Телевизор-то я принес. Телевизором-то меня наградили. Где благодарность, где справедливость, в конце концов? Впрочем, жена права: ставить к детям в комнату телевизор нельзя. Они и так мыслят фразами из рекламы: «Вовочка», «Кальве», «Наш начальник — такой душка!» А тут вообще черт те что начнется. Даже удивительно, почему по телевизору передают столько мусора?
Вот раньше бывало: по одной программе рассказывают о том, как пионеры должны старушек через улицу переводить, по другой — «Мир глазами Сенкевича», по третьей — урок по высшей математике с интегралами. Включил ребенку телевизор, и пусть он его переключает! Куда ни крути — везде воспитательный эффект. Нет, всем надоело: осудили, перестроились. Теперь дети изучают права сексуальных меньшинств, смотрят чернуху, которую нам показывают, а в лучшем случае — «Санту-Барбару» и бесконечную рекламу.
И вот что интересно: если раньше какую-нибудь рок-группу или фильм с альковными сценами можно было только ночью посмотреть, то теперь все наоборот — хорошие фильмы транслируют после двенадцати, а дрянь всякую, чуть ли не порнографию, что называется, «пока все дома». И считается, что у нас свобода выбора — вон сколько программ настроить можно. Но скажите мне, какой дурак будет смотреть «В мире животных», когда на соседнем канале стриптиз?! Да и какая там свобода, когда детям с утра до вечера вбивают в голову: как себя ведет тот, «кто вправду крут», что «новое поколение выбирает пепси», что «ночь твоя — добавь огня». Вот они и канючат с пятилетнего возраста: «Хочу в “Макдональдс”», а у самих потом гастрит. А нам вроде эти гамбургеры и в рот не лезут, и биг-маки уже в печенках сидят — ан нет! Туда же идем следом за чадом — красиво, чисто, думать не надо, что приготовить. Потому что реклама делается не так примитивно, как коммунистические лозунги. Маркетинг — это тоже наука, но только люди за нее большие деньги получают и поэтому выкладываются. А то, что это своего рода пропаганда, оболванивание молодежи — этого у нас не понимают.
Ну, надо же, куда меня понесло, можно самому выступать по телевидению. Не было печали — свалился на голову этот телевизор. Может, его на дачу отвезти? Да нет, там печка. В печку полезнее смотреть, чем на экран, мысли появляются свои, а может быть, даже и размышления. Телевизор был не новый, коробки от него не сохранилось. Это добавляло еще одну проблему.
— Мужики, где бы раздобыть пакет какой-нибудь или коробку? — обратился Федор ко всем и ни к кому конкретно.
— На третьем этаже недавно компьютеры завозили, — крикнула из своего угла Лена. Федор опять бросил свой отчет и поплелся на третий этаж. Прошелся по отделу, знакомых никого не было. В дальнем углу сидела Маша Селезнева, не то чтобы знакомая — просто в банке личность известная: все ее знали, все здоровались. Федор подошел и вежливо стал ждать, когда она договорит по телефону. Когда Маша заканчивала разговор по городскому, зазвонил сотовый. Маша горела на работе, и это горение поднимало ей самооценку. Про нее рассказывали, что она, когда родила, только две недели на работе отсутствовала, а потом вышла и опять пашет с того момента. Двужильная? А может, виду не показывает. Начальником отдела стала, на хорошем счету, водит собственный «фольксваген». Интересно, есть ли у нее время остановиться, посидеть возле реки, с детьми в жмурки поиграть, летом на даче пожить так, чтобы подумать: «Какой же все-таки длинный день на даче!», попить на веранде чай с соседями?
Наконец, и сотовый был отставлен, и Федор, пока не зазвонил пейджер, заторопился.
— Маш, привет. Я слышал, тут к вам мониторы завозили, а мне нужна коробка такая большая. — Он показал руками, какая ему нужна коробка, искренне надеясь на участие со стороны Маши.
— Ты не в курсе, может у вас их еще не выкинули, а? — На минуту она задумалась, и Федор терпеливо ждал. Маша полезла в стол, что-то искала, наконец нашла и сунула ему прямо под нос свою визитку. И странным тоном заговорила, как-то неестественно отрывисто:
— Вот посмотри, пожалуйста, что там написано: не завхоз, не дворник, а директор по связям с общественностью! Возьми себе на память и впредь с подобной ерундой ко мне не подходи. Еще вопросы будут?
Больше вопросов не было и быть не могло. Федор отошел, добрался до лестницы и только тут убрал в карман полученную визитку. «Что это было? — задал он себе вопрос и сам же на него ответил: — Директор по связям с общественностью». Получив такой отпор, Федор даже расстраиваться не стал. Это все равно, что проиграть боксеру другой весовой категории. Почему-то в голову пришел старый советский анекдот. В ответ на телефонный вопрос робкого посетителя: «Извините, это химчистка?» — бодрый женский голос отвечает: «Ты куда, козел, звонишь? Это министерство культуры». Да... Возвращаться, чтобы нахамить в ответ, — поздно, искать дальше коробку — глупо, уходить — обидно. Вот так всегда! У Федора был приятель, имеющий замечательный дар вовремя отвечать на хамство, а Федора этим даром природа не наградила. Однажды, еще в студенческие годы, был такой случай. Шли они в метро вместе с этим самым его другом, навстречу компания подвыпивших парней, один из которых, проходя мимо, здорово саданул друга плечом. Тот, не успев сообразить, что случилось, в ту же секунду врезал обидчику в челюсть. Федор тут же подбежал на помощь — сунулся для выяснения сути происходящего и получил ответный удар. Стороны обменялись «любезностями» и разошлись.
К подобным ситуациям Федор привык. Был ли он трусом? На этот вопрос точного ответа он и сам не знал. Но отпор если и давал, то, скорее всего, именно для того, чтобы не считать себя трусом, а потому как-то не вовремя и вымученно, что ли. Как-то он пришел к приятелю в гости и стал играть с трехлетней девочкой. Девочка спрашивает:
— Тебя как зовут?
— Федя.
— Ты не Федя, — заявляет девочка, — ты дуб, гриб соленый.
Федор в гости с подругой пришел и передал ей этот диалог с некоторой обидой. А подруга возмущается:
— С тобой вечно так! Ну и ответил бы ей: «Я дуб, а ты дерьмо!»
— Да неловко как-то, — поразился такому совету Федор. — И родители рядом.
— А родителям сказал бы, что ребенка надо воспитывать.
— Да нет, ну что ты!
— Ну если нет, то зачем ты мне это рассказываешь? Если тебе нравится — значит, все правильно.
Интересно, неужели нельзя научиться вовремя давать отпор, как его товарищ? Ведь воспитывают в себе люди силу воли, в конце концов. Чуть что, сразу «в морду». Нет, так только комплекс неполноценности в себе разовьешь. Будешь без конца мучиться, решая, то ли это он слишком неуважительно ответил, то ли это я на пустяки обижаюсь. Федор окончательно разозлился на себя и, не зная, что делать со злополучным телевизором, оттащил его в свой угол, запихнул подальше под стол, сел в кресло и вернулся к отчету. Ноги слегка упирались в телевизор, и это мешало сосредоточиться, как иногда страшно мешает капанье воды на кухне или легкая музыка за соседским компьютером. На отчет времени оставалось все меньше, а тут еще вдруг объявили совещание. Все пошли в конференц-зал. Пришлось идти со всеми. Шеф рассказал о своей поездке на рабочее совещание в Англию: как добрался, какой подавали на приеме суп, как пришлось остановиться в каком-то средневековом замке, где надо было самому топить камин и спать на жесткой доисторической кровати. Потом обсуждали текущие дела. В частности, шеф разбирал итоги испытательного срока двух новых сотрудников. Одного из них, Пенкина, он хвалил: Пенкин привлек новых клиентов и поэтому улыбался, внимал похвалам и взирал на постоянных сотрудников как на равных. Затем шеф ругал Треногова, а тот горбился, вбирал голову в плечи и косился на Пенкина.
Наконец директор сказал:
— Нет, ты объясни нам, почему Пенкин смог людей привести в банк, а ты не можешь?
— Может, у него обаяние особое, — робко предположил Треногов.
Пенкин расценил это как провокацию, вскочил и закричал:
— Ты что несешь?! — давая понять, что все трудом, старанием, преданностью, а не каким-нибудь обаянием.
Комедия! Дальше ничего интересного не было, поговорили и разошлись.
Федор вернулся к отчету и дотюкал его до 18:00. Посмотрел на часы, а там, как приятно, 18 часов 02 минуты, и молвил про себя: «Черт с ним, завтра докуем», или, иными словами, прощай, отчет, увидимся завтра. Он уже хотел сложить вещи, достать детективчик, который почитает в метро, и вдруг услышал свое имя.
— Федор Павлович (тон и употребление полного имени не предвещало ничего хорошего), я бы хотела получить свою дискету. Мне сказали, что вы вчера убирали вещи, когда закончилась выставка. — Над ним стояла Танечка Смирнова и мило скалила зубки.
— Знаете, — с самым доброжелательным видом сказал Федор, — вчера я поздно уходил: отнес компьютеры, а свою мелочь сгреб и отвез домой. Боюсь, что и вашу дискету прихватил по ошибке. Завтра верну, если так.
— Нет, вы мне объясните, я, видимо, чего-то не понимаю, как это так? Вы мою вещь отнесли к себе домой?! На каком основании?
— Да, господи, случайно. Собрал свои дискеты и вместе со своей вашу прихватил.
— Прихватили мою? Лихо это у вас выходит. Вы случайно больше ничего моего не прихватили?
Федор чувствовал, что ему как-то становится дурно от нелепости и безысходности разговора. Он бы рад был извиниться и закончить его, но не знал как. В конце концов, он сказал:
— Зачем вам эта дискета так срочно?
— Ах, зачем мне нужна дискета? — обрадовалась Смирнова. — Вы, видимо, думаете, что я этой дискетой забиваю гвозди? Так надо понимать? Чтобы вы впредь знали, дискета мне нужна для работы, а если конкретнее, то для помещения туда информации.
«Что за день сегодня такой? Озверели они все, что ли? Может быть, сказать ей, чтобы пошла в жопу. Только тихо, чтобы никто не слышал, — пронеслось у Федора в голове. — Нет, не стоит. Эта со света сживет, расцарапает лицо или отравит чем-нибудь. Ну почему отравит? — говорил Федор сам с собой. — Как отравит? Что за бред? Как-как, вот тогда и узнаешь».
Нелепые мысли лезли в голову, и Федор уже совсем плохо понимал, что говорит Смирнова. Он только видел, как шевелятся ее губы и в уголках рта белой пенки становится все больше. И она дергается, прилипая к верхней губе.
Смирнова была девушкой тридцати трех лет, которую ни¬кто не любил. Федор ее тоже не любил, особенно когда она вот так пришпиливала его к стенке. А иногда, как ни странно, наоборот, жалел. Например, когда их начальница отдела кадров (так повелось, что именно она всех поздравляла от лица фирмы и вручала новогодние подарки) говорила: «А вам, Танечка, от души желаю успехов в личной жизни». И та самая Танечка, которая так легко могла вылить на голову Федора целое ведро помоев, краснела, брала подарок и шла на свое место. Видимо, не зря говорят, что по-настоящему понять женщину может только другая женщина.
День кончился, но последняя беседа со Смирновой все-таки исчерпала запас его душевного пофигизма. Торопиться в метро с детективом расхотелось, захотелось, чтобы кто-то пожалел и сказал что-нибудь ободряющее, как Зинаида сегодня днем: «Феденька, а мы вас только сегодня вспоминали!» Захотелось позвонить домой. Федор потянулся к телефону, набрал номер, представил, где стоит аппарат в его квартире, как он надтреснуто тренькает, как наперегонки к телефону бегут его дети, как через несколько секунд жена интересуется, кто звонит, и, шлепая тапочками, подходит и берет трубку. На этот раз жена подошла сразу.
— Ну что, как у вас там дела? — спросил Федор.
— У тебя дело какое? А то у меня на плите ужин твой стоит.
— Да нет, просто хотел с тобой поговорить.
— Ну говори, если хотел.
Воцарилась пауза. И Федор задумался: а что же он, собственно, хотел сказать и зачем позвонил? Может быть, потому, что хотелось поддержки, захотелось, чтобы, наконец, появился рядом человек, который, как говорится, плывет с тобой в одной лодке и потому тебя понимает. И вот теперь надежда на это не оправдывалась. Сквозь паузу в трубке Федор чувствовал головную боль жены, ее раздраженность, усталость от детей, нереализованность в работе, желание обидеться, обидеть и не признаваться во всем этом одновременно. Показать такое состояние можно, конечно, не всем. Начальнику нельзя, чужому человеку — тоже, а ему, получается, можно. А может быть, сменить обстановку, пригласить жену в кафе — тысячу лет ведь нигде не были. Федор чувствовал, что затевать разговор насчет кафе не стоило. Опыт подсказывал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но мысль о том, что он сегодня целый день идет у всех на поводу, подстегнула его, и он еще ласково, но уже с затаенной агрессией, предчувствуя получить в ответ отказ вместе с тирадой, задал свой вопрос:
— Слушай, а может быть, поужинаем сегодня где-нибудь? Надоело все, надо же когда-нибудь отдохнуть. В кафе какое-нибудь сходим, а?
— В кафе? А откуда деньги? Ты же говорил, что у нас опять нет денег.
— Ну для такого случая найдутся.
— А если для такого случая найдутся, то почему наши дети ходят черт знает в чем? Я уже не говорю, что себе ничего приличного последние десять лет купить не могу, что в квартире до сих пор мебели нет нормальной. Федор слушал, слушал, а потом взял и отстранил от уха трубку. Голос жены стал тоненьким, ничего не разберешь. А Федор как бы приобретал над голосом жены власть, он мог делать его тише или громче, более грозным или едва слышным.
Федор держал трубку и смотрел, как возле кофейного столика разговаривают Ирина, их секретарша, и Валя, операционистка. О чем они говорили, было не слышно.
Электрический чайник выпускал пар, и Федор заметил, как в том самом месте, куда била струйка пара, отходит, надувшись пузырем, краска. Термическое коробление, остаточная деформация. «Коэффициент линейного расширения, видимо, большой», — выплыла откуда-то бесполезная информация. Федор попрощался с женой, положил трубку и стал слушать, о чем говорят девушки.
— Даже не знаю, Валь, у кого из них какие намерения? Не пойму! У Толика и машина поприличнее, и работа серьезная, а подарил мне тут недавно часы на день рождения. И вроде навороченные такие, и фирма престижная, но не золотые. Я потом посмотрела по каталогу: они, представляешь, меньше сотни баксов тянут! Даже если бы он мне просто мобильник, как Сережка, купил, и то дороже вышло.
Федор перестал прислушиваться. Меркантильные девушки ему никогда не нравились. Ему нравились девушки добрые, легкие и даже немного легкомысленные. Вернее, не легкомысленные, а скорее — романтичные и легкие на подъем. Поговорил пять минут, а кажется, всю жизнь знакомы. С такой хорошо гулять по весне в подмосковном лесу. Идешь вдоль загородной платформы, чувствуешь, где-то уже мусор жгут, слушаешь нарастающий гул электрички — и в душе какая-то прыть, какое-то мальчишество поднимается. И вдруг ни с того ни с сего говоришь: «Эй, смотри, вон электричка остановилась. Успеем?» И она бежит, бежит со всех ног, торопится, потому что ей очень успеть хочется. Вскочили в поезд, он тронулся, и тут она спрашивает: «Что это за электричка. Куда она нас привезет?» А ты отвечаешь: «Да разве важно куда? Важно — с кем». Она проникается смыслом: «Ну надо же! Как здорово ты сказал. Действительно, какая разница — куда!»
Нет, женщина, наверное, не должна быть авантюристкой. Та, что бежит за поездом, небось совсем без царя в голове. У такой и в комнате беспорядок, и в мыслях суета.
Жена Федора не была ни авантюристкой, ни слишком меркантильной, но и легкой на подъем не была. Она всегда хотела знать, куда они идут, почему и, главное, нет ли другого более короткого пути! А если они ехали в метро, то она обычно говорила: «Мы едем на такую-то станцию, у нас будет два перехода, и нам лучше пройти к головному вагону!»
Федор пасовал, шел к головному вагону. Можно конечно упереться и сказать: «Стой, где стоишь!» — но дело-то ведь не в том, кто кого ведет, дело в чем-то другом. Или именно в этом? Вот с другом они как-то раз ехали на дачу. Сели в метро. Так заговорились: один раз в одну сторону остановку свою проехали, вернулись, и в другую — так же точно. Плюнули и пошли в кабак. А вспоминается с удовольствием. Впрочем, если оба, и муж и жена, проезжают свою станцию, куда они в конце концов приедут?
Федор крутанулся на своем кресле, взял посылку, которую ему положили на стол еще с утра. Разорвав фирменный конверт DHL, он обнаружил еще одну упаковку с надутыми пипочками. В детстве Федор любил такие щелкать. Надавишь двумя пальцами на шарик, а он — щелк! И лопается в руках. Здорово! Сколько было раньше приятных развлечений с обертками, фантиками, а теперь? Федор отложил пупырчатый полиэтилен, стал разбираться дальше. Внутри оказался еще один пакетик. Этот, наоборот, был с дырочками, а уже в нем — видео- и аудиокассеты с записями выступлений на конференции. Для чего столько пакетиков? А для того, чтобы не помялись кассеты и чтобы человек, отсидев девять часов на работе, по дороге домой ткнул в свою магнитолу эту кассету и, пока крутит баранку, слушал, о чем там говорили на очередном бизнес-митинге. Потом пришел бы, посмотрел еще раз то же самое на видео. А назавтра прокрутил аудиозапись по дороге на работу и вконец проникся идеями компании.
Черта с два! Кассеты эти с выломанными заглушками (чтобы с них ничего не стерли или не записали) Федор заклеивал скотчем и записывал на них любимые песни «Queen». Слушал и радовался, что хоть в чем-то сопротивляется навалившемуся со всех сторон бизнесу.
— Федя, тебе пакетик не нужен? — спросил, проходя мимо и поднимая пакет с круглыми дырочками, Женя.
— Да нет. Бери, если надо, — Федор всегда был рад оказать любезность. (Пакета с пипочками было бы немного жаль, а с дырочками... Кому он нужен?) — А тебе зачем?
— Да ты знаешь, в нем морковку хорошо держать. Я ее в холодильнике в таких пакетиках храню. Лежит долго, потому что дышит.
— Ну надо же, — подумал про себя Федор, — и ты еще считаешь себя чуть ли не идеальным мужем! Тебе бы пришло когда-нибудь в голову, заработав накануне пятнадцать тысяч баксов, везти домой пакетик с дырочками, чтобы положить туда морковку так, чтобы она дышала в холодильнике? А вот рядом с тобой трудится человек, который думает, как снабдить свое семейство не просто морковкой, но и пакетиком для нее. Да-а-а, нет предела совершенству!
Глава 3. Зеркало
Чем ближе Федор подходил к дому, тем больше думал о том, как встретит его жена. Как-то приятель его спросил:
— Тебя жена-то любит?
— Не знаю, — задумчиво ответил Федор, — а почему ты спросил?
— Да ты знаешь, каждая женщина из моих знакомых все что-то терпит ради того, чтобы быть рядом со своим мужиком. Мишкина жена пьянство его терпит, Кузина баба вообще терпит и пьянство, и хамство, а ты весь такой положительный: пьяным не являешься, деньги в семью несешь. Вот я и не пойму: любит она тебя или нет? Или ей просто так удобнее?
— По-моему, ей иногда без меня удобнее — вот что обидно.
Когда-то они спали в одной узенькой постели. Это было так давно — еще до свадьбы. Он приходил к ней в квартиру, вернее, к ее родителям. Сидели на кухне допоздна, говорили, говорили... Когда родители затихали, она делала вид, что проводила его, хлопала входной дверью, а потом вела его к себе в комнату, забирала ботинки из коридора, ставила к себе под кровать. Спать особенно было некогда, приходилось убраться, пока не проснулся отец. Потом, после женитьбы, они купили широкую кровать и спали под разными одеялами — это оказалось удобнее. Через несколько лет обнаружили, что еще удобнее спать в разных кроватях, потом — в разных комнатах. Но подросли дети, заняли часть пространства, и ночевать приходилось в одной комнате. Федору не спалось, он ворочался, диван скрипел, и опасения побеспокоить жену мешали заснуть. Нет, это не было заботой о любимом человеке, боязнью потревожить его сон. Ему чудилось: жена проснулась и злится, что Федор ее опять разбудил, что он ей мешает, что она опять не выспится, что ей завтра рано вставать, а он не хочет с этим считаться, и теперь она из-за него встанет разбитой, сорвется на детях, и весь день у нее пойдет наперекосяк! В таких воспоминаниях Федор неожиданно дошел до дома.
В лифте кнопку его этажа кто-то залепил жвачкой. «Захочешь нажать на свой этаж — вляпаешься», — логично рассуждал чей-то смекалистый сыночек. Никуда не денешься, ехать надо — жми кнопку. Кто же из великих сказал, что злорадство — самая бескорыстная форма радости? Потрясающее наблюдение! «И впрямь, какая польза этому обладателю какого-нибудь наскучившего «джуси-фрута» от того, что я приеду домой, испачкавшись в жвачке? — удивлялся Федор. — Казалось бы, ни горячо ни холодно. Ан нет! Ему от этого приятно, радостно!» В другой бы раз Федор счистил грязь какой-нибудь бумажкой. А тут надавил со всей силы, растянул противную массу с каким-то даже мерзким удовольствием и ощутил приторно сладкий запах «бубль-гума». Жена слышала, что он открыл своим ключом и вошел, но не торопилась к двери, говорила в трубку до обидного бодрым и даже немного кокетливым голосом. На грудь Федору все это время прыгала собака, подчеркивая своей нечеловеческой радостью равнодушие человеческое. Раздражение росло, под грязными ботинками таяла лужа.
Наконец из комнаты послышалось: «Ну ладно, пока!» Без имени. Разобрать, с кем говорит жена, определить собеседника Федор так и не смог. Спрашивать не хотелось. Жена вошла в коридор, взглянула на пол.
— Господи, сколько раз говорила: неужели трудно за порогом ботинки вытереть?
«Ну надо же, как меняется у человека голос, — подумал Федор. — С кем она, интересно, только что разговаривала?»
— У нас домработницы нет пока, — нетелефонным голосом продолжала жена. — Ну почему такое пренебрежение?! Ходишь, целый день за вами подбираешь. Мне что, больше делать нечего?! — Федор уже хотел пройти в кухню, нарочно оставить жирные следы, начать скандал и выплеснуть наконец накопившееся за день. Но тут собака лизнула в руку. Она думала, что хозяин ее сейчас поведет во двор, где можно нырнуть мордой в снег, помчаться со всех ног, поваляться, понюхать углы «ракушек», полаять — ощутить жизнь всем своим собачьим сердцем. Но делить собачьи радости на полпути до скандала Федор не мог. В дверь просунулась голова дочки. Момент был упущен. Скандал не добрал двух десятых балла и повис в воздухе. Федор махнул рукой (только внутренне, жеста как такового не было), шагнул обратно за порог, снял на коврике перед дверью ботинки, вернулся в дом и даже подошел к жене и, желая как-то жить дальше, чмокнул ее в щеку, давая понять, что был не прав, что труд ее очень ценит, что понимает, как она сильно устает, и что другая бы на ее месте давно озверела. Таков приблизительно был смысл его поцелуя.
Мир был зыбким и отвратительным. В какой-то книге Федор прочитал, что идеальные отношения между супругами устанавливаются, когда количество скандалов примерно равно количеству занятий сексом. Если энергия чаще разрежается через скандалы — брак страдает от недостатка секса, если только через секс, то не хватает выплеска негативных эмоций. У них в отношениях не хватало ни того ни другого — энергия шла на скрытые обиды, невысказанные претензии и на демонстрации их друг другу. Как-то Федор сострил, заявив, что «их интимные отношения свелись к духовной близости в извращенной форме». И, неизвестно почему, порадовался своей шутке.
Жена вошла в коридор, стала вытирать зеркало, на котором фломастером порисовали дети. В зеркало Федор видел лицо жены, глаза ее смотрели мимо и не мешали наблюдению. Похудела, и синяки под глазами. Или свет у нас темный в коридоре. Лампочку бы надо сменить.
— Как себя чувствуешь? — спросил Федор. Жаль человека, когда у него внутри столько всего! Федор любил, когда в доме был Дом, а это зависело от того, как она себя чувствует.
— Хорошо! — сказала жена, и в этом ответе слышалось: «Господи, неужели не видишь, как я себя чувствую?!» Федор понял, что лучше разойтись по-хорошему. Возможно, все бы и рассосалось, но тут в комнату ворвалась теща. И с порога за¬кричала на него, Федора, что, надо признать, случалось с ней крайне редко. Теща вообще была не злым и не вспыльчивым человеком. Существовало всего два или три повода, которые приводили ее в бешенство, и самый первый — это когда кто-то брал ее ключи. Сейчас она влетела и закричала, даже не поздоровавшись:
— Сколько раз говорить, чтобы вы не трогали мои ключи! Сколько раз! — Теща выговорила все, что думала, хлопнула дверью и понесла куда-то дальше свое крупное ловкое тело. Этой ярости как раз не хватало Федору, как электрону не хватает энергии активации для перехода в возбужденное состояние. Он, ничего не говоря, ощущая приятное щемление в груди, подошел к стене, снял круглое зеркало и шарахнул его об пол. Стекло с грохотом разбилось на множество мелких осколков, преимущественно треугольников. Половина треугольников легла зеркальцами вверх, половина — черными изнанками.
— Ну, надо же, пятьдесят на пятьдесят почти! — подумал Федор. — Интересно, можно ли сказать, что вероятность каждого события равна 0,5.
Жена тут же выскочила в коридор, чувствуя, что и она может, наконец, довести вечер до логического завершения.
— Что же ты творишь такое! — закричала она. — Подумал хотя бы о детях! Что за эгоизм такой! — Дальше Федор не разбирал, ему в душу как-то запало слово «эгоизм». Неужели он эгоист? Неужели правда? Ведь мог же он сдержаться, пройти на цыпочках в коридор, тихо покурить, думая о детях, и с мыслями о них лечь спать. А впрочем, чушь какая! Почему он с ней живет? Любит? Почему тогда злится? Нуждается? Нуждается в чем? Федор молча оделся, взял из дипломата пару сотен долларов из НЗ (отложенных на покупку автомобиля денег), запихал их как попало по карманам, натянул куртку и вышел вон. Оглядел уже без злобы налепленную поверх кнопок жвачку, прочитал надписи фломастером про то, что «Светка из 345 квартиры — потоскуха». Буквы были детские, неровные. Ну надо же, с какого возраста начинаются эти самые противоречия между полами!
«Как я обо всем этом размышляю легко. Похоже, и злоба прошла», — пытался разобраться в своих ощущениях Федор. Да, злобы не было. Ткнул дверь с выломанным домофоном и вышел на улицу. Вдохнул свежего воздуха и проговорил про себя: «А все-таки как скверно!» Потом прислушался к скрипу снега под ногами, остановился. Скверно или не очень? Или вообще не скверно? Да нет, не так уж и скверно. Он шел от дома, сам толком не зная куда. В этом было что-то необычное, как в походе: идешь куда-то, а куда придешь — сам еще толком не знаешь.
Вспомнил, как однажды брел по ночному городу, расставшись с девушкой, которую, как ему казалось, любил больше всех на свете. На душе было так ужасно, что он не знал, как заглушить в себе эту боль. «Почему же мне так плохо? — задавал он себе вопрос в тот поздний вечер. — Почему так тяжело на душе? Как же я буду жить дальше? — И сам себе отвечал: — Дальше будешь жить точно так же, а сейчас — ладно бы перед кем другим — перед собой красуешься, упиваешься своим горем». И вроде слезы душат, а какой-то голос внутри говорит: надо же, идешь куда глаза глядят! В этом есть что-то новенькое, раз такие неприятности можно себе позволить: идти куда глаза глядят. Можно что-нибудь учудить даже. Броситься в реку, например. Только чтоб не высоко было и чтобы потом сразу растереться и надеть свитер.
В этот раз прыгать в реку он не собирался — зима на дворе. Боли не чувствовал, да и ощущения, что в жизни должно произойти что-то важное, не было. Так, эпизод!
Глава 4. Встреча
Шел Федор на автопилоте, а потому неудивительно, что пришел именно в метро. В метро входишь, кругом люди, все бегут, спешат. Раньше метро было транспортным средством, а теперь стало предприятием комплексного обслуживания. При подходе — пенсионеры с газетками, чуть дальше у входа — бабки с воблой, сигаретами, еще чуть дальше на ступеньках — зона цветочников. Тут же тебе лимоны по три штуки на десятку. Спустился в переход, и там уже всего понемножку: и колготки, и очки, и заколки, и, конечно же, литература — рецепты от всех бед в одном сборнике, советы по очищению с промываниями и без, руководства по снятию сглаза, а также — как этот сглаз наслать на мужа, чтобы он не смотрел на сторону. Книжечки карманного формата для дам со звучными названиями типа «Жар любви» или «В едином порыве». Журналы разные и «только для мужчин». Раньше глаз так и цеплялся за обложки этих журналов с изображением голой девицы или некоторой ее части, а потом все как-то привыкли и стали реагировать только изредка — по настроению. Даже старики, и те возмущаться перестали, а молодежь так с этим выросла.
Федор как-то сидел смотрел вечером телевизор, когда в комнату неожиданно вошел десятилетний сын. Сцена на экране явно была не для ребенка. Времени, чтобы вскочить и выключить телевизор, не было, а сын мазнул взглядом по экрану и отвернулся по своим делам.
— Ну надо же! — удивился Федор. — Может, это для них норма. Или так и нужно: не запрещено — значит, и не так интересно. Мы-то в свое время как дикари себя вели. Смешно сказать: говорят, бывали случаи, когда советские профессора, что вырывались в Европу на научные симпозиумы, вместо поездки в Лувр искали, где бы порно посмотреть. А теперь дошел до метро и — пожалуйста. Это — с одной стороны, с другой стороны — как ни крути, а чем больше этого мусора продается, тем больше его читают. До книжного магазина еще доехать надо, а «Спид-инфо» везде лежит.
Может быть, здесь все так же, как и с другими рынками? Рынок ведь сформировать надо, а потом он сам развиваться будет. Объяснить людям, что читать «Спид-инфо» в метро — это нормально. Дать рекламу, приучить людей, и дело пойдет! Кто-то уже знает, с чем эту газету сравнить можно, а кто-то, кроме нее, и не читал ничего...
Иначе почему все так озаботились белой и черной магией, астрологией? Ну хорошо, предположим даже, что астрология — тоже наука. Но почему она стала самой популярной? А журналы типа того же «Спид-инфо»? Раньше мамаша такой журнал от детей под матрац бы прятала и в жизни бы не призналась, что сама его купила, а теперь сидит в метро, читает. И ведь всему вагону ясно, о чем она читает. Нет, не стыдно, все в норме.
Наконец, прошла зона коммерции. Остались только люди. Если Федор не был занят, обычно смотрел на людей. И, конечно, прежде всего на женщин. Видимо, все мужики такие, а может быть, он такой неуравновешенный. Лет тридцать назад Федя стоял однажды, прислонившись к двери с надписью «Не прислоняться», и глядел, как проносятся за стеклом фонари и кабели тоннеля. И вдруг неожиданно обнаружил, что гораздо интереснее смотреть на отражения сидящих напротив женщин. У кого какие коленки, у кого юбка длинная, а у кого короткая, кто колени плотно сжимает, а кто не совсем. Стоит себе маленький мальчик, и все уверены, что он глядит сквозь стекло. И волнует его, что там вдали в тоннеле. А он, оказывается, следит за отражением в стекле. И волнует его, что там вдали между коленками. С тех давних пор в туннель Федор, пожалуй, так и не заглядывал, а на женщин все еще смотрел: на ноги, на одежду, на лицо. Как все-таки много может сказать лицо! Успе¬ваешь прочесть его за секунду, а сколько там информации: и пол, и возраст, и ум, и капризность, и стервозность. Если все описать словами — несколько страниц понадобится. Вот, кстати, к вопросу о сжатии информации. Если не бежал по делам, Федор обычно вставал на платформе рядом с той девушкой, чье лицо его могло заинтересовать. Тогда при входе в вагон можно было случайно оказаться рядом с ней, поднять глаза и выяснить, что же она из себя представляет. Красивая или нет, умная или глупая, если рука без перчатки — замужем или нет. Наверное, раньше это являлось естественным процессом для юноши, выбирающего себе пару. А потом? Потом, видимо, вошло в привычку и так и не отстало. Однажды на платформе он встретил настолько красивую женщину, что следовал за ней по пятам и зашел в ее вагон. Попутчица оказалась столь эффектной, что было неловко сразу пялиться на нее. Поэтому Федор вошел, не обращая ни на кого внимания, но место занял внутри так, чтобы позднее можно было перевести на женщину взгляд. В вагоне народу было немного. Почти все сидели, стояло пять-семь человек и в том числе она — красавица. Про таких раньше говорили: посмотрит — рублем одарит. Хороша! То, что женщина понравилась не только ему, явствовало из поведения мужчин. Они нервничали, откладывали чтиво, смотрели в ее сторону и тут же оглядывались вокруг с вопросом: не смотрит ли кто-то на них. Нет, все оставалось в рамках приличия, и не участвующему в этом сложном обмене взглядами было вообще невдомек, в чем, собственно, проблема. Заговорить с такой женщиной или уступить ей место, видимо, хотел каждый, но никто не решался. И тут вдруг один мужичок лет сорока пяти, потрепанный, видать работяга, слегка подвыпивший, встал из дальнего угла вагона и направился к ней. Все заинтересовались. А он подошел, приложил к сердцу руку и, сбиваясь, сказал: «Садитесь, голубушка, на мое место». Она не повернулась, не изменила позы, не скосила на него глаз. Стояла, не принимая его за человека. Все смотрели на сцену, вернее, на неказистого мужичка, который полез не в свои сани и получил сполна. А он балансировал на шатком полу. Разводил руками и сам понять не мог, что же такое произошло, как он очутился посреди вагона, прямо как без штанов. Постоял-постоял да и поплелся на свое место. Федору стало жалко мужика, а интерес к красотке пропал. Такая посмотрит — не то что подарит, а все дочиста заберет...
И все-таки, наверное, в метро лучше всего знакомиться с девушками. Ведь есть же среди них добрые, хорошие. И там их очень много. Как говорится, кого хочешь — выбирай. К тому же метро — это не улица, где надо забегать вперед и заглядывать девушке в лицо, прежде чем понять, что у нее на лице написано. В метро люди ближе друг другу, стоят в вагоне, разглядывают друг друга, никуда не торопятся. Если на улице они чужие, а в одном загородном поезде — попутчики, то в метро что-то среднее. Вот так Федор стоял-стоял, смотрел на милую девушку и вышел за ней на остановке, шел по переходу и все высматривал в толпе впереди ее шапочку с помпоном. Вон, кажется, пропала совсем из вида. Нет, опять мелькнула. Одно дело — смотреть на девушек в метро (так он всю жизнь делал), а чтобы преследовать — таких приключений с ним уже лет двадцать не было. Но ничего, опыт, полученный в юности, не пропал даром: он быстро нагнал девицу и вошел вслед за ней в вагон. «Вот что называется идти куда глаза глядят», — подумал Федя. Девушка ехала из центра, куда-то далеко. Прошло уже минут двадцать, но подходящей минутки, чтобы заговорить с дамой, все не было. Вдруг поезд вынырнул из-под земли и поехал прямо как подмосковная электричка. Оказалось, что на улице идет снег, и Федор поймал себя на мысли, что он ждет, когда войдет контролер и высадит его за безбилетный проезд, а девушка уедет дальше, и он с ней так никогда и не заговорит. Поезд опять нырнул под землю и стал поездом метро. Народ меньше садился, больше выходил. Место рядом с его избранницей освободилось, и Федя, все еще не выказывая ей никаких знаков внимания, уселся рядом.
«Заговорить или нет? — думал Федор. — А чего же тогда полчаса ехал за ней? Народу в вагоне уже не так много». И прямо как двадцать лет назад, повернулся к девчонке и спросил:
— Извините за нескромность, можно вам составить компанию?
— Пожалуйста, — вежливо сказала она. Несколько секунд длилась пауза. И девушка неожиданно сама первая ее нарушила.
— А вы куда едете? — спросила она.
— Честно говоря, и сам не знаю. Видимо, вас провожаю.
— Кого, меня? Вы что, домой не торопитесь? — она называла его на вы.
— Абсолютно не тороплюсь. У меня тот редкий случай, когда я совершенно свободен.
— Ну кошмар! — сказала она не пошло, а как-то особенно: то ли по-детски, то ли все-таки по-деревенски. Целую минуту они проехали молча. Федор и впрямь не понимал, куда и зачем он едет.
— А вы кто по профессии? — неожиданно поинтересовалась попутчица.
— Художник, — почему-то сказал Федор. Ну не банковский же он работник — это же не призвание и не профессия, это способ существования в этой сложной жизни. А впрочем, кто он такой, если серьезно? В детстве любил рисовать, но пошел в технический вуз по стопам отца. Учился математике, физике, а работать устроился в итоге туда, где больше платили! Говорили, что есть таланты — так ни один не реализовался. А почему? Потому что не было времени, или таланты оказались слабоваты, или не было понимания, что их развивать надо? Или одним талантом сыт не будешь, может быть, так? Почему он сказал «художник»? Потому что хотел себя видеть художником, или считал эту профессию достойной, или думал, что художники должны нравится таким девушкам? Почему?
— А что вы рисуете? — поинтересовалась девушка, и в ее тоне не было ни шутки, ни кокетства, скорее некоторое любопытство.
— Да так, что придется.
— Здорово, — оценила она, как будто Федор сказал что-то информативное или даже показал ей свои художественные полотна. — А мы с подружкой в шахматный клуб ходить начали, — вдруг почему-то сообщила она и прыснула от такой глупости в ладошку.
«Господи, сколько ей лет? — подумал Федор. — Похоже, еще и восемнадцати нет». — Почему-то он не первый раз ловил себя на мысли, что красивые девушки часто казались ему сверстницами, и только лишь когда рядом с такой девицей он замечал прыщавого парня с волосками на подбородке, закрученными в спираль, понимал, что девушка не в его возрастной категории. И вот теперь все явственнее проступало, что соседке он больше подходит в наставники, чем в кавалеры.
Девушка отсмеялась и пояснила:
— У нас в районе спортивное общество одно есть, если в секцию записаться, можно ходить бесплатно на дискотеку. Ну а шахматы — самое простое, не в греблю же нам записываться.
— В греблю — это было бы слишком, — согласился Федор. Хотя он бы, скорее всего, записался именно в греблю. По реке солнышко блестит. Руку в воду опустишь, и вода ее теребит, ласкает. А какие у гребцов плечи? Впрочем, плечи это не главное. А что главное? Может быть, возраст, лишние двадцать лет?
— Вы дискотеки любите? — прервала его рассуждения спутница.
— Кто же их не любит? — ответил он вопросом на вопрос.
— А шахматы?
— А шахматы терпеть не могу, — признался Федор.
— Вот и я то же самое, — обрадовалась девушка, удивляясь, как они легко понимают друг друга. — Вы только не подумайте, что я легкомысленная.
— Боже упаси, — сказал Федор. — Стал бы я с легкомысленной откровенничать. А почему такие мрачные мысли?
— Ну, там, люблю дискотеки и не люблю шахматы. Зато я, кстати, рисовать тоже люблю. Я в детстве много рисовала. Все больше цветы. Такие красивые. И с натуры, и по памяти. Мама на стенку вешала. У нее в комнате до сих пор мои рисунки висят. А тут, вы знаете, долго болела ангиной, нарисовала розы, которые на снегу лежат, и представляете, сестрица младшая взяла их и вырезала ножницами, чтобы красивее было. И рисунок пропал. Впрочем, я не обижаюсь, хотя всегда хотела старшую сестру, а получила младшую.
Тут вдруг поезд начал тормозить, не доехав до станции, громко звякнула какая-то железка, что-то стукнуло в пол, зашумел стравливаемый воздух. И, хотя ничего не случилось, Федору в голову начали лезть странные мысли. Почему-то представилось, как врезается в них идущий следом поезд, как падает на пол битое стекло, скручиваются трубки, за которые только что держались пассажиры.
— Вы не боитесь, когда поезд в шахте застревает? — прочитала его мысли девушка.
— Я?.. Нет, я не боюсь, — ответил Федор что-то совсем не оригинальное и не совсем честное.
— У меня мама очень боится. А я, даже когда маленькая была, не боялась и, очень смешно спрашивала: «Мам, если здесь поезд остановится и двери откроет, как узнать, в какую сторону платформа ближе и куда идти: вперед или назад?» Кстати, еще я спрашивала в детстве, почему не рисуют в тоннеле картинки. Их бы так интересно было рассматривать, а когда поезд поедет, они бы в мультик превращались. А то в тоннель смотришь — и ничего интересного: провода, кабели да изредка фонари красные.
«Ну надо же, — подумал Федор, — видимо, все в тоннель в детстве смотрели».
— Вы такой интересный собеседник. Я бы тоже хотела встретить такого интересного человека.
О чем она говорила, Федор так и не понял и, при всем своем красноречии, не знал, как прокомментировать это трогательное желание.
Федор проговорил с девчонкой до самой последней станции, потом посадил ее в автобус, помахал ей вслед... Она ему тоже махала в окошко, радуясь, что он ее видит. Автобус скрылся за поворотом, и Федор поплелся обратно к метро.
«Приятно встретить хорошего человека, — думал он, — такого человека встречаешь — хочешь ему что-то доброе сказать, сделать и, видимо, сам в этот момент лучше становишься». В столь романтичном настрое Федор спускался по мокрой лестнице обратно в теплый подвал метро и увидел жилистую бабку лет семидесяти. На спине у нее лежал огромный холщовый мешок с какой-то поклажей, а другой такой же мешок она поставила на мокрый грязный пол, привалила к стене и отдыхала, выжидая момент, чтобы взвалить второй мешок тоже на спину и рвануть вверх по этой лестнице. Перенести мешки по очереди она почему-то не решалась. Федор подошел к старушке. Он никуда не спешил, а потому скомандовал, как ему казалось, немного по-деревенски. Именно так, как могло ей понравится:
— Ну что, мать, тижало? Давай сюда свой мешочек...
— Иди отсюда, скотина такая! — завопила бабка и замахнулась свободной рукой. — Умник нашелся: дай ему мешок! Помощник, язви тебя в качель.
Федор отпрянул и только тут понял, что бабка-то его боится. Боится за свой мешок. Господи, кем же надо быть, чтобы у такой старухи отнять мешок картошки или что у нее там, капуста? Неужели такие попадаются? А кем надо быть, чтобы с такой бабки деньги брать за место у метро? Да если б этого всего не было, так что ж она такая загнанная-то, что ж она такая шальная? А как не быть шальной, когда надо эту капусту купить, где подешевле, да на своем горбу донести, потом такой мешок капусты нашинковать руками, которые не слушаются, засолить, расфасовать по пакетикам, заплатить за место возле метро и стоять на морозе по семь часов да еще бегать от милиции с ящиками и сумками то вниз по лестнице, то вверх? Нет, они жизнь изучили, знают правила. Знают, как надо держаться за свой мешок с капустой. Потому что капуста — это хлеб, это способ выживания. Федор прошел в метро и поехал обратно. Куда ехал, зачем? Домой возвращаться не хотелось, куда податься, не знал. Ехал в центр, доехал до «Пушкинской». Это вроде и есть самый центр. Вышел на платформу, поднялся по путаным переходам наверх и оказался на центральной улице города, на Тверской.
Глава 5. Княжна Тараканова
Пожалуй, с институтских времен он не шатался вот так по улице, не глазел от безделья на рекламу. Как все изменилось! Вот здесь было кафе «Марс», туда они бегали, когда прогуливали физхимию. Последний раз он тут расхаживал еще в те времена, когда улица называлась улицей Горького. С чем ассоциировалось название «улица Горького»? С праздником, с демонстрациями. А с чем ассоциируется «поедем на Тверскую»? Известно с чем.
На глаза попадались стайки девушек определенных занятий. Он обращал на них внимание и раньше. Девицы эти вот так открыто демонстрировали себя уже не первый год. И писали про них, и фильмы показывали. Но для Федора все это было неактуально, как истории из чужой жизни, из другого мира, с которым он никак не пересекался. В его молодости проститутки так себя не рекламировали, а когда они появились, он уже был сознательным, положительным, женатым. А что сегодня? Да и сегодня не то чтобы разведенный, нет — просто появилось чувство, что можно позволить себе плюнуть на все и идти куда глаза глядят. И куда же они глядят? Глядят они куда-то не туда... И мысль еще не оформилась, а где-то уже что-то екнуло, заторопилось, и он начал гнать от себя дурацкую мысль: «Как же так: я, дожив до седин, ни разу не попробовал, что это такое». Как назло, в двух шагах стояла очередная машина, а в ней, как сельди в бочке, сидели девицы: светлые, темные, голубоглазые, кареглазые. Впрочем, когда бы он столько глаз разглядеть успел? Видимо, это начало работать воображение. Адреналин поступал в кровь, мысли путались, но он все-таки уносил себя подальше от злополучной машины. Ему так и казалось, что все на него смотрят, осуждают его мысли, а девочки потешаются над его робостью.
Вспомнилась история, которую рассказывал знакомый профессор о том, как тот еще в далекие советские времена оказался в Германии в компании сравнительно молодых мужчин возле немецкого борделя, где на балкончике стояли хорошенькие фрейлейн. Пройти такое место было непросто. Мужчины топтались на месте, пока их замешательство не стало очевидным. И тут одна из девушек помахала им рукой и закричала: «Эй, рус, заходи!» Откуда у нее были такие познания в языке и как она распознала советских ученых — неизвестно. Это сейчас русские по всему миру разъезжают, а тогда советский человек возле их борделя — событие. Так вот, услышав такой призыв, советские ученые исчезли как класс, испарились.
Федор шел и вспоминал, вспоминал, как когда-то он уже испытывал похожее чувство робости перед девушками, которые видели в нем невинного мальчика. Было это лет двадцать назад. Ему позвонила тогда Ирка и нахальным пьяным голосом сказала: «Приезжай, у нас выпивка кончилась», — назвала адрес и даже ждать согласия не стала, видимо, чувствовала, что он никуда не денется. Прибежит как миленький. А он и впрямь засуетился: выгреб у родителей из подзеркальника двадцать рублей денег. Слава богу, они там оказались. О том, что брать без спроса нехорошо, и не думал. Какое там! Побежал в магазин, стоял в очереди и про себя повторял: «Только бы дали вино, только бы не спросили, есть ли восемнадцать». Купить надо было что-нибудь стоящее. Так все и вышло: он купил две красивые бутылки, спрятал их понадежнее и побежал бегом. Сел в автобус и, пока ехал, вспоминал, как он познакомился с Иркой. Было это еще в детскому саду. Зима. Все в шубках и с санками. Ирка подошла к нему и говорит:
— А ты санки можешь облизать?
Федя знал, что санки на морозе облизывать нельзя — язык прилипнет. Воспитательница говорила, что тому кто будет лизать санки, язык ножницами отрежут. Федя все это вспомнил тут же и сказал:
— Что ж я, дурак, что ли? Ты что, хочешь, чтобы у меня язык прилип, что ли?
— Струсил, — проговорила Ирка, оглядываясь на воспитательницу. Поставила санки стоймя и быстренько полизала металл своим маленьким язычком, и язык у нее никуда не прилип.
— Ну что, съел?
— Подумаешь, — сказал Федя, — так быстренько я тоже могу. — Он взял и полизал, на всякий случай, — именно в том же самом месте, где не прилип язык у Ирки.
— Все равно ты трус, — заключила почему-то Ирка.
— Ну и не лезь ко мне, — сказал, обидевшись, Федя. Помолчали...
— Хочешь, подеремся? — вдруг оживилась Ирка.
— Чего? — удивился Федя.
— Чего-чего, — передразнила она.
— Я с девочками не дерусь, — насупился Федя.
— Ну и дурак, — закончила их первое общение Ирка.
Вечером Федю и Ирку забрали из сада вместе, и они везли свои санки рядом, а мамы их шли впереди и разговаривали. Феде было интересно с Иркой, и он радовался, что им по пути, что их мамы подружились и что-то обсуждают. Значит, им еще можно вместе идти как минимум до конца улицы. Ирка шла-шла, а потом подбежала к карнизу, оглянулась, не смотрит ли мать, сорвала самую толстую сосульку и сунула ее в рот. Ирка шла, облизывала сосульку, вынимала изо рта, поднимала вверх и смотрела сквозь лед на фонари. Федору видно было, что конец у сосульки становится все тоньше и острее. Он принял важный вид и сказал:
— В сосульке, между прочим, самая грязь! — Где-то он явно слышал эту фразу, и она ему казалась взрослой и значительной.
— Много ты понимаешь, — сказала Ирка и сорвала другую.
— А кто у тебя отец? — вдруг неожиданно спросила Ирка.
— Профессор, — гордо ответил Федя. — А твой кто?
— А мой — старый развратник, — сказала Ирка.
Федя точно не знал значения этого слова, но сразу догадался, что это что-то очень плохое, и сильно удивился. Как-то с детства слово «отец» было для него почти священным. Самый хороший и умный — Ленин, ну а потом — папа! И вдруг такой ответ. Ирка его слегка испугала, но еще больше заинтересовала. Мамы вышли на перекресток, и у Феди замерло сердце. Он подумал, что Иркина мама повернет в другую сторону и они разойдутся по разным улицам. Так и случилось. Потом Федя видел Ирку много раз в школе, но, правда, общаться почти не удавалось. Уж больно она была независимая и нахальная. Хотя наблюдать за ней он любил, особенно на школьных вечерах, а несколько раз даже танцевал с ней. Впрочем, не часто. «Плясать под диско» Ирка считала занятием ниже своего достоинства, когда начинались медленные танцы, демонстративно уходила. Появлялась она, только если ставили что-нибудь настоящее — не менее ста двадцати ударов в минуту, а может быть, и все двести. Если кто и рисковал выйти под такой аккомпанемент, так реагировал только на каждый четвертый или даже восьмой такт (точно неизвестно), но то, что она попадала в каждый удар барабана, ни у кого не вызывало сомнений. Мало того, она еще особенно отмечала этот самый четвертый или восьмой такт, в который успевали все остальные. Мелкие такты заставляли ее вибрировать, а крупные — извиваться. И в этих двух измерениях она еще двигалась по полупустому залу.
В основном народ смотрел на нее. Большинство мальчишек с восхищением, учителя по-разному: кто с удивлением, а кто и с завистью. Мало кому не завидно, когда все смотрят с восхищением на кого-то, а не на тебя. Передать, что она выделывала и как выделывалась, трудно. И ведь понимала, зараза, что творит! Вид у нее такой неприступный был, будто она всем язык готова показать — хоть завучу, хоть директору. Иногда она, правда, все-таки оставалась на медленные танцы, но и тут вела себя совсем не так, как все другие девочки: с каким-то вывертом, с вызовом. Вдавливалась в мальчиков плоской грудью, отчаянно материлась на ухо, и в этом ее поведении проявлялась полная неприступность. А какие у нее были духи! Где она их брала? Федя еще неделю не давал маме стирать рубашку. Когда думал об Ирке по ночам, вставал потихонечку, приот¬крывал шкаф, втягивал в себя носом воздух и бежал опять в постель. Мог ли он не поехать к ней, когда у нее кончилась выпивка?
Ирка открыла сама, хотя находилась в гостях у подруги. Подруга занимала приятеля в дальней комнате. Мальчик был совсем взрослый (из десятого класса). Ирка то ли правда опья¬нела, то ли кривлялась, изображала, что еле стоит на ногах, вешалась Федору на шею. Было в ее манерах что-то наглое, развратное и очень волнующее.
— Федюк, ну ты молодец, — говорила она, разглядывая красивые бутылки. — Дай я тебя поцелую. — Он подошел, а она взяла и лизнула его в губы. Коротко, прямо, как когда-то санки. Дальше Федя помнил все как-то смутно. Вроде Ирка потащила его почему-то в ванну, велела отвернуться, пустила воду и полезла плескаться, а он стоял, не поворачивался и только слушал, как капает в ванну вода. И готов был простоять так, кажется, всю ночь. Потом Ирка скомандовала, чтобы он вышел из ванны и поискал для нее халат. Федя делал все как в тумане, стучался к хозяйке квартиры в темную комнату и с чувством смущения, гордости и восторга просил халат. Потом Ирка надела халат и повела его танцевать. Ноги у нее заплетались, халат разъезжался, и Федя видел ее тонкое плечо, которое, осмелев, пытался поцеловать. А потом Ирка вдруг сказала: «Ну нет, так не пойдет, пьяный трезвому не товарищ», — взяла бутылку и потащила его в пустую комнату. Какое все-таки это изобретение — вино! Все стало лучше, проще, веселей. Федя залез с ногами на диван, на какие-то скользкие журналы и пил прямо из горлышка. Ирка примостилась рядом и стала слизывать капли вина, которые текли у него по шее прямо под рубашку. И Федя понял: весь вечер он страшно боялся, что эта минута так и не настанет, что сломается автобус, на котором он ехал, упадет на голову кирпич или он попадет под колеса. Нет, он совсем не боялся умереть, он боялся, что не доедет до Ирки, которая вот так будет целовать его в губы и что-то неразборчиво-пьяное жарко шептать ему в лицо. Потом они сидели на балконе и курили. Швыряли в темноту королевские бычки, и снопы искр рассыпались в темноте, когда окурки разбивались о ветки дерева. Потом захотелось пить, и они, близкие и обожающие друг друга не меньше, чем истинные собутыльники, поползли на кухню. Федор помнил, как он поставил на кухонный пол два хрустальных бокала, встал на четвереньки и пытался налить в них воды из тяжелого чайника. Чайник не слушался, струя болталась, вода плескала на линолеум, Ирка ржала как ненормальная, и он, кажется, был абсолютно счастлив. Потом они пили еще какой-то дорогой коньяк, и, наконец, Федя понял, что пора кого-нибудь позвать, кто сможет увести его домой. Он набрал номер друга и продиктовал ему адрес.
На улице было лето. Воздух остывал, а нагретый за день асфальт отдавал тепло и бензинные испарения. Друг вел его через дорогу, Федор старался удержаться на ногах и вдруг с хохотом полетел вниз, навстречу этому теплому асфальту, прижался к нему щекой и увидел, что асфальт не абсолютно гладкий, а, если присмотреться, весь он состоит из отдельных песчинок и крошечек. Над головой шуршали шины, но машин не было видно. В ухо кричал друг, и Федору было весело, тепло и удивительно безопасно на этом островке асфальта посреди мостовой широкого, как река, Садового кольца, по которому мчались автомобили.
Неужели с тех пор прошло двадцать лет, а его до сих пор интересуют пьяные женщины с накрашенными губами и развязными манерами? Чего еще он про это не знает, чего не видел? А если видел, то зачем ему это? А может быть, что-то оставалось, что-то еще, чего нет в супружеском сексе. Что-то такое, в чем самому признаться неловко. Что-то такое, что придерживают тормоза.
— Почему же вы к нам так давно не заглядывали? — обратилась к нему женщина лет тридцати пяти.
— Вы меня с кем-то путаете, — вздрогнув, обернулся Федор.
— Может быть, но у нас много новеньких. Очень хорошенькие. Так что предлагаю вам просто посмотреть: не понравится — не возьмете.
«Да за кого вы меня принимаете!» — хотел сказать Федор, но женщина его уже почему-то не слушала, а повернулась и, не оборачиваясь, пошла в подворотню, показывая ему путь. Федор секунду колебался и двинулся за ней следом. Они миновали арку, пересекли двор, вышли к следующей подворотне, где в ряд выстроились девочки. Неподалеку стояла машина, которая светила фарами в подворотню, и Федору было видно, как вдоль строя ходит мужчина лет сорока в дорогом пальто и выбирает товар. Федор остановился и дальше идти не мог. Это, видимо, и есть «отстойник», а на «точке» его встретила и проводила сюда «мамочка». «Отстойник», «точка», «мамочка» — оказывается, все эти слова он уже встречал раньше, но они были где-то там, по ту сторону экрана, в милицейских сводках, на страницах журнала. И они все это время сидели в подкорке, о чем Федор и не подозревал. Как же он тут оказался? Федор стоял, его никто не торопил, ни к чему не принуждал, не приставал — бежать было глупо.
Мужчина ходил вдоль строя и все никак не мог выбрать себе девицу. Федор вспомнил, как он стоял так же когда-то в строю в армии, как так же бесцеремонно и самодовольно ходил комвзвода и проверял подворотнички и пряжки. Подойдя к Гвоздеву, над которым было принято издеваться, он сказал, работая на публику:
— А ну открой рот! Хочу проверить, как ты чистил зубы.
И Гвоздев открывал рот, стоял как школьник на приеме у дантиста. В строю кто-то ухмылялся, кто-то радовался тому, что это не он попал в козлы отпущения, кто-то смущался, а кто-то, видимо, думал: «Ну, падла, попадешься ты мне на гражданке». А что думают эти? Интересно, ненавидят ли они того щеголя в пальто? Что они думают обо мне? Может, они, наоборот, ждут, когда их заберут с холода, из этой продуваемой подворотни в тепло квартиры, где нальют вина, вкусно покормят (если повезет), уложат в постель.
Федор стоял и мял в кармане стодолларовую банкноту. «Каждое унижение стоит определенных денег!» — повторил он фразу, которую совсем недавно вспоминал на работе. А может быть, эта банкнота и есть воплощение унижения, которое будет испытывать одна из девиц, стоящих в этом строю? Интересная мысль: «Деньги как мера унижения бедных людей богатыми, бедных организаций богатыми, бедных стран богатыми». В самые неподходящие моменты Федор вдруг начинал разрабатывать свои экономико-этические теории. А может быть, все не так. И в случае с девочкой все зависит от ее отношения к этому. Ведь иная еще и удовольствие получит, как Леха от своей работы, когда нужно клиента в казино вести, где можно поиграть, выпить на халяву. Так и девочка: выпьет, ляжет в чужую постель и не только кайф получит, но еще и сумму, которую профессор зарабатывает за двадцать пять лекций. Мужчина в модном пальто наконец сделал свой выбор, взял девицу за руку, посадил в автомобиль и захлопнул дверь. Куда он ее повез? Где ее искать, куда звонить?.. Мужчина уехал, и тут Федор понял, что он стоял в очереди и теперь все взоры направлены именно на него. Такое же чувство он испытывал, когда подходила его очередь в детской поликлинике на приеме у зубного врача. Все стоят и смотрят: что он, пойдет твердыми шагами или будет оглядываться и искать провожающую его маму. Федор еще раз проверил в кармане деньги и шагнул в подворотню, не поднимая взора выше пояса. Чем-то это напоминало игру в ручеек — выбрал девушку за руку и повел за собой. Так и вышло. Свет фар выхватил приятное лицо. Девчонка смотрела него беззлобно. Федор обрадовался, схватил ее за руку и почувствовал облегчение. Выйдя на улицу, он хотел тормознуть такси, но машина была наготове, и стоять под взорами свидетелей не пришлось.
— Куда едем? — спросил водила.
«А действительно, куда?» — спохватился Федор. Видя заминку, девушка тут же сориентировалась: «Можно ко мне. Лишних двадцать долларов вас устроит? Заедем купить что-нибудь к чаю, если вы не против», — бойко декламировала она заученную роль. Он был не против. Не экономить же теперь, раз такое дело. Да и держаться надо солидно. Волнение почти прошло. Девушка была самой обычной. Впрочем, не просто обычной — симпатичной. Да и таксист интеллигентный. Федор ни за что бы не сказал, что эти люди из того странного двора, в котором он стоял пять минут назад, переминаясь с ноги на ногу. Заехали в супермаркет, взяли бутылку шампанского, торт, что-то еще. Водитель ждал. Через пять минут въехали в какой-то старенький двор, который, по контрасту с сияющей Тверской, казался еще более темным. «Вот здесь меня и ограбят», — подумал Федор, входя в темный подъезд с гниловатым запахом. Из-под ног выбежала кошка. Поднялись на третий этаж, девушка нажала на звонок. Вышла бабулька и очень по-домашнему протянула: «А-а, это ты, Вера. Проходи». И они вошли, как будто в гости к Вериной бабушке, попить чайку с тортиком. Прошли в комнату, присели. Надо было что-то говорить.
— Слушай, — опробовал новую роль Федор, — и как это я так быстро самую красивую выбрал?
— Ой, да это я тебя выбрала, а не ты меня! — легко вступала в диалог девица. — Я как смотрю — парень симпатичный, так в свет фар и шагнула, чисто чтобы ты меня увидел.
— Ну надо же! А я-то дурак думал, что чисто сам тебя подцепил, — передразнил ее Федор, понемногу осваиваясь в незнакомом жилище и успокаиваясь, что вполне потянет беседу с Верой. Вид у комнаты был самый обычный: типичное старушечье обиталище. Вещи куплены лет тридцать назад, видимо, в те далекие времена, когда еще были деньги, чтобы их покупать. Так, некоторые детали были странно знакомы. Точно такие же, как в старой квартире его родителей, двери, плинтусы, дверные ручки. А впрочем, что удивительного: покупались они в одной стране примерно в одно время. Особо Федя отметил вытертый коврик рядом с кроватью. На коврике изображены лиса и журавль из русской сказки. Именно такой коврик висел в квартире его товарища, с которым они дружили в детстве.
— А это что, не твоя квартира? — спросил Федор, оглядываясь по сторонам.
— Если бы это моя квартира была, я бы здесь перемыла все, окна бы отдраила, занавески другие повесила, — сказала Вера и стала по-хозяйски ловко собирать на стол. Принесла бутылку шампанского, приличные бокалы, тарелку с аккуратно нарезанной колбасой и сыром.
— Торт в холодильнике пока пусть постоит, принесу позднее, — предупредила девица, видимо, давая понять, что торт тоже не зажмет — поделится.
Налили, чокнулись.
— Со свиданьицем, — произнесла его новая знакомая и выпила одним махом. Чем-то она ему напоминала детей в гостях, которые спешат выпить весь лимонад, а колбасу есть не торопятся.
— Может, познакомимся? — спросила девица и отрекомендовалась: — Вера.
— Да я уж понял, что ты Вера.
Секунду думал, по старой преподавательской привычке, как представиться (уж не Федор ли Павлович), но вовремя сориентировался и наконец высказался уверенно и с достоинством: «Федор».
— Очень приятно, — игриво произнесла Вера, вытирая об себя руки.
— Ты, я смотрю, такая хозяйка, — немного по-отечески, видимо, еще не очень понимая, какой нужно взять тон в этой непривычной для него роли, определил Федор. — Так все аккуратно разложила, — выдал он очередную глупость: раскладывать на столе было особенно нечего.
— Как-никак целый год замужем побывала, — похвалилась Вера. Видимо, это придавало ей вес в настоящем ее положении.
«Значит, сейчас не замужем, — подумал Федор, — а то, говорят, и такое бывает».
— Что так быстро развелась? — все-таки не совсем как с просто знакомой девушкой, пожалуй, чуть бесцеремонно задавал Федор новые вопросы.
— Не сошлись характером, — легко отвечала Вера. — Он нашу собаку пристрелил: она ему надоела. А отец мой говорит: «Дочь, гони ты его в шею, пока не поздно. Он ведь и меня так когда-нибудь пристрелит». Я вообще-то многое простить могла, но не собаку. Да и пил он, конечно, и дрался. Впрочем, нормальных-то мужиков или интеллигентов, как тут, в Москве, там у нас не водится. Здесь мне, кстати, такие замечательные люди попадались. С одним я всю Москву объездила, мы даже в Суздаль на автобусе на экскурсию катались. Я теперь с ним постоянно встречаюсь. Я бы его одного с удовольствием обслуживала, если бы ему это нужно было почаще, А чаще он не может или не хочет. Он уже старенький: лет сорока — не меньше.
— Сорок — это разве старенький? — испугался Федор. — Я что же, по-твоему, тоже старенький?
— Да вроде нет, — успокоила его Вера. — Ну не знаю, — поняла свою бестактность Вера, — может быть, ему не сорок, а все пятьдесят. Потом у него семья. Он от жены надолго уходить не может. Она сердится, а он нервничает. А так он очень интересный мужчина. Только кончает рано. Мы с ним еще и во Владимир ездили, в гостинице жили. Он мне вообще про старину рассказывал. Про памятники архитектуры, про княжну какую-то, кажется, Тараканову. Интересно! У нее, у этой княжны, кстати, судьба на мою чем-то похожа. Я ведь как в Москве-то очутилась... Уж полгода где-то прошло после развода, я опять свободу обрела, на дискотеки бегала. И вот заходит как-то к нам на танцы парень: одет стильно, манеры, все дела. Девки на мне чуть дырки не проглядели, когда я с ним ушла. Ну я, дура, отдалась ему без звука, или, как у нас почему-то говорили, со всеми погремушками. А он в порыве восхищения мне предложение сделал. Нет, не замуж, конечно. О том, что мужиков, которые в первых кустах предложения делают, не бывает, я уже в курсе была. Не на французских романах воспитывалась. Но чтоб такое! Говорит мне: «Вы такая красивая, такая чуткая. Не хотите у нас поработать?» Я поначалу даже не врубилась, на что он намекает. А потом он такого наплел... семь верст до небес. Я не всему, конечно, верила: все-таки уже замужем побывала. Да, по правде сказать, мне наше Уево-Кукуево, дыра сраная, до того надоела, до того осточертело смотреть, как отец с матерью собачатся, что я чемодан собрала да в Москву. Родителям сказала, что в ресторан официанткой. Да они и не больно спрашивали. Приехала — он мне шмотки подарил царские. Я о таких и не мечтала. Только паспорт забрал. Мол, ты сначала отработай за обновы, а потом паспорт получишь. Поначалу все впечатления новые — все-таки столица многонациональной родины! Потом как приперло раз все это говно разгребать. Уже месяц прошел, а паспорт все не отдают, пошла в милицию: так, мол, и так — паспорт забрали! В камере ночь просидела, утром меня мой добродетель освобождать пришел. Как я сразу не поняла, что у них там все схвачено! Не знаю, сколько он на мне заработал, но профессия у него, явно не пыльная. Потом и паспорт отдали. Да уж вроде ни к чему. Привыкла.
Послышался звонок. Вера подошла к телефону, разговаривала отрывисто: «Да. Нет. Ну все, все, звони позже. Перестань. Ну на работе я, да! Все. Пока».
— Коз-з-зел, — сказала она, уже положив трубку. — Живу вот с таким.
— Чем же он так нехорош? — продолжал задавать свои идиотские вопросы Федор.
— Да сам посуди, — ничуть не смущалась Вера, — живу с ним уже полгода. Тут он узнал, каким способом я зарабатываю деньги. Очень возмутился. Обиделся, понимаешь! Я ему говорю: «Что ты расстроился? Одно дело — заработок, и совсем другое, когда для души. Да и голодными сидеть — не большое удовольствие. Посчитай, сколько на один твой аккумулятор ушло. Откуда деньги-то, как ты думал?» И знаешь, что он мне сказал, какой довод привел? Нет, говорит, так у нас ничего не получится! Куплю я тебе, к примеру, новые чулки, а ты, значит, в этих чулках к другим мужикам ходить будешь? А потом увидел, сколько у меня этих чулок, присмирел, звонит на работу, спрашивает, когда освобожусь. Ну скажи, разве это мужик?
Федор и не знал, как реагировать в столь нестандартной ситуации. С одной стороны, провожать свою женщину на такую работу — достаточно странно, а с другой — кругом условности. Не меньший ли парадокс: мужчина близок к помешательству на почве ревности, если узнает, что у надоевшей ему жены есть любовник, а к такому факту, что у горячо любимой любовницы есть муж, относится не просто с пониманием, но даже с некоторой тайной радостью и сознанием собственного превосходства. Или с чувством облегчения: раз замужем — значит, у меня лишних обязанностей перед ней не возникнет. Да и в ином смысле менее опасно. Впрочем, в нашем обществе уже давно те, кто торгует своей совестью, считаются нравственнее и чище тех, кто торгует своим телом.
Вера между тем выпила еще и продолжала:
— Если бы у нас завод не закрылся, я бы так Москву и не посмотрела. Так, как мать, и вкалывала бы там до пенсии, красками да ацетоном дышала. А так — завод закрылся, работы в городе все равно никакой нет. Только если кондуктором в трамвае подрядиться, как Тонька, подружка моя школьная. Так по кругу и ездит уже второй год. А остальные наши девки все здесь, в Москве. Я уже троих видела. Все, как я, «официантки», — захихикала Вера, — Москва большая, всем места хватает. Пацаны тоже в Москву подались на промысел. У нас-то кого трясти? Или рэкет какой организовать? Некого! Нищета! Вот они и едут в столицу, так сказать, на большую дорогу, а девицы наши больше вдоль той же самой дороги промышляют. И, надо сказать, никто об этом не жалеет. В Москве интереснее, и денег заработать можно, и пожрать купить, и приодеться.
«Купить лишнюю бутылочку пива», — подумал Федор. Нет, он не осуждал ее. Не дай бог! Он удивлялся: как все похоже. Ведь и у него та же история: завод закрыли, на трамвай идти не хочется, к бутылке пива привыкаешь. Наваждение какое-то!
— Тебя послушать, лучше этой работы и нет ничего, — говорил Федор непонятно о чем. То ли размышляя о Вериной работе, то ли о своей.
— Да нет, проколы случаются. За все платить приходится. Бывает, менты остановят (и как они нас просекают!), и потом все — паспорт заберут, и сутки отрабатывать приходится. Пока всех бесплатно не обслужишь — не уйдешь. Что в сумочке найдут, то, конечно, себе забирают в виде, так сказать, штрафа. Вообще, надо сказать, милицейское начальство с нас тоже кое-что имеет. С каждой точки плата идет: иначе кто бы позволил девочкам шеренгами стоять на виду у всего города — разогнали бы и все. А так не трогают. (Говорила она об этом без возмущения. Мол, что возмущаться — так вот мир устроен, нравится не нравится, а все живут по этим законам.) Да еще вот геморрой с пацанами, — перечисляла теперь она недостатки своей профессии. — Наберут всем классом нужную сумму, соберется их там человек десять — вот с этими сопляками и возись всю ночь, как стахановец. Но теперь-то я уже поумнела — клиента сама выбираю. Вот на вас посмотрела, выбрала и чувствую — не ошиблась, — кокетничала Вера. — Тут недавно с одним лохом поехала: у него джип крутой, навороченный, сам в прикиде модном, а сразу видно — щенок. Отъехали, я ему говорю: «Ну что? Куда едем?», а он мне: «На дачу в Переделкино». Я ему спокойно, но твердо так поясняю: «Мы в пределах Кольцевой обслуживаем — вам разве на точке не сказали?» Беру его на понт, натурально. Он аж притормозил. Вся веселость с него слетела: «Что же делать?» — говорит. Понятно что: отъехали мы на обочину, и через пятнадцать минут я уже свободна была. Выходной, так сказать, за счет клиента. Так этот козел меня до метро довез и еще извинился десять раз. Видимо, злодеем-насильником себя почувствовал. — В этом месте Вере стало смешно из-за лоха на джипе. — Бывают же такие! — закончила она свой рассказ на веселой ноте. Федор не перебивал.
— Люди разные, их много, — продолжала девушка уже другим, более тихим голосом. — Выбор есть. Хочется настоящего человека встретить, такого, с которым можно семью создать. А таких все меньше остается. Или мы не там ходим?
Посидели еще, выпили шампанского, и Вера засобиралась в ванную. Федор сидел, смотрел на оставленные Верой туфли (почти новые и все-таки слегка поношенные), думал про парня, с которым живет эта девчонка, про старичка сорока лет, про наивную аналогию с княжной Таракановой и, несмотря на выпитое шампанское, никакого влечения к этой Вере не чувствовал.
Федор сидел, разглядывал комнату и гадал, кто такая эта бабулька, почему на старости лет выбрала столь специфический приработок, сдает свою личную комнату (что комната старушечья, видно по интерьеру) какой-то Верке, имеет, видимо, свой процент. Ждет, небось, вечерами: не идет ли кто. Будет к пенсии прибавка али нет. В молодости ведь, наверное, комсомолкой была, целину поднимать ездила, а на старости лет стала чуть ли не содержательницей притона. Тут в дверь как раз постучали. На пороге появилась сама «содержательница притона».
— Прости, милок, ради бога, — сказала она. — Знаю, Верка этого не любит, но пока ее, бестии, нет, вкрути мне по-быстрому лампочку. Перегорела, зараза, ничего не видно на кухне.
«Почему она Верку боится, а меня так быстро в оборот взяла?» — подумал Федор и поплелся ввинчивать лампочку, хотя терпеть этого не мог. Видать, бабульке приходилось отсиживаться на кухне, и там как раз перегорел свет. Федор влез на стремянку (потолки старые, три двадцать, не меньше), вкрутил лампочку. Бабка оказалась нахальной, сказала: «Погоди-погоди, не слезай. Сейчас я тряпку принесу — плафон оботри». Федя усмехнулся, взял мокрую тряпку, вытер плафон. Услышал, как Вера под душем мурлычет в ванной песню, и подумал: кажется, засиделся в гостях — пора и честь знать. Слез со стремянки. Вот Вера удивится, что у нее опять отгул. Будет всем рассказывать, какой малахольный попался: угостил шампанским, протер плафоны и смылся. Федор слез со стремянки, надел куртку, вышел и защелкнул за собой дверь. Дворы были запутанными — не выберешься. Федор пошел на свет фонаря и увидел мусорный контейнер, возле которого, опершись локтями о край и опустив руки внутрь, стоял старичок в странной неподвижной позе, даже плечи у него не шевелились. Федор поневоле заинтересовался. Подойдя ближе, понял, что старичок склонился над только что откопанной книгой. Ну надо же, человек читает! Федор уже не мог просто так пройти мимо, ступал все медленнее, тише, разглядывая читающего. И даже прозвище ему придумал — «профессор-походник». Похож — длинные волосы, одет легко, спортивно: лыжные штаны, на ногах дырявые кроссовки, на голове шапочка с помпоном, как у конькобежца. «Вот достойный фотографа кадр, — пронеслась прагматичная мысль. — Мужичок из того времени. Наверное, “Новый мир” читает, обдумывает прочитанное». А после рабочего дня в банке хочется взять журнал «Спид-инфо» или фильм с Чаком Норрисом. Может быть, этот профессор по-своему свободен и даже счастлив, если, конечно, это не кощунство — так говорить.
Рядом с контейнером стояли очень аккуратные рюкзаки и сумки. Одна из них была заштопана явно мужскими крупными стежками. Судя по тому, как одевался «походник», можно было сказать, что народ стал жить хорошо. Не вызывало сомнений, что литературу, одежду и работу «профессор» находит в мусорных контейнерах привилегированного Центрального округа. Федор выбрался из дворов и вновь оказался на улице, только теперь еще к тому же почти без денег. Может быть, зайти к кому-нибудь в гости? Ехать домой по-прежнему не хотелось. Он отыскал телефонную будку и стал звонить всем подряд. Как назло, никого не было дома. Федор достал записную книжку, гадал, к кому бы завалиться в такой час.
Глава 6. Розовая подкладка
На глаза попался телефон Женечки Леденцовой — когда-то очень давно они были в близких отношениях. Сначала она ему нравилась, это довольно быстро прошло, некоторое время ему нравилось, что он ей нравится. Отношения толком не закончились: Федор сбежал и не появлялся полгода, потом изредка звонил, переведя отношения в непонятное русло. Он не слышал ее больше года и вот теперь взял и набрал номер. На том конце провода послышался бодрый голосок Женечки.
— Привет, — сказал Федор, — я там тебя ни от каких срочных дел не отрываю? — Буднично сказал, как будто звонил полчаса назад и она была занята.
— Какие срочные дела в такое время?
По тону Федя понял, что Женечка его узнала, улыбается, возмущается и радуется звонку. Нервничает, что он позвонил просто так, что опять не назначит свидания, подразнит и пропадет. И не скажет, когда с ним можно встретиться.
Сегодня вечером, может быть, именно это и было нужно: почувствовать, что хоть кто-то, хоть эта самая Женечка, трогательная в непонимании своего мещанства (пусть такая), хочет, чтобы он к ней приехал. Хочет и боится сказать об этом.
Как-то Федя беседовал с подвыпившим охранником, работавшим у них в банке, который, раздумывая о прожитом, говорил: «К седьмому десятку я почти перестал себя обманывать — и это очень правильно. Раньше я себе говорил, что больше всего мне нравятся люди честные, трудолюбивые, еще какие-то. А теперь-то я вижу, что в основном мне нравятся те, которые ко мне хорошо относятся. И все они такие разные».
— Когда же на вас можно будет поглядеть? — не выдержала и первой задала вопрос Женечка.
— А что, есть предложения? — прощупывал почву Федор.
— Так ведь тебя же не заманишь так легко. Ты вечно занят. Таким банкиром заделался: все клиенты, приемы, государственные дела. — Рядом с Женечкой Федор и впрямь казался себе банкиром, мог всерьез рассказывать, где бывал, что видел, а потом, когда вспоминал, стыдился. Почему стыдился? Ведь по окружающим своим видел, что те, кто выбрал себе жену попроще, поглупее, чувствуют себя наполеонами, а другие, те, что искали само совершенство, теперь, как говорится, всю эту кашу расхлебывают. Диалектика!
— Какие могут быть дела, если есть перспектива встречи с красивой женщиной? — Женечка почувствовала, что Федя не занят, бросила жонглирование красивыми фразами и пошла в наступление, уже не заботясь о сохранении романтической нотки.
— Федя, мой как раз на дежурстве. Приезжай, я тебя не видела тысячу лет.
«А почему бы и нет, в конце концов, — подумал Федор. — Дома все равно никто не ждет. А эта будет искренне рада. Странно, женщина, которой я ни сделал в жизни ничего хорошего, ни разу не подарил цветов, не звонил полгода, сейчас сидит, ждет, в окно смотрит, халат примеряет. А жена, за которой, кажется, всю жизнь ухаживал, — не ждет».
Федор махнул рукой и поехал на Курский вокзал. Тащиться предстояло в тмутаракань.
На вокзале было так же людно, как на Тверской, но народ был другой. В проеме между стеклянными дверями, где дул горячий воздух, лежали на асфальте бомжи, с распухшими губами, в кровоподтеках. Забирать их куда-либо, видимо, никто не хотел. Сразу за этими дверями, возле колонны, подстелив под ноги легонький пиджачок, стоял на коленках парнишка. По возрасту он должен был учиться классе в третьем или в четвертом. Часть пиджачка у него служила подстилкой, а часть — емкостью для монет. Монеты он аккуратно разложил на ровные кучки: рублик к рублику, пятерочку к пятерочке. Видать, парень был аккуратный. Федор бросил пять рублей на пиджачок, пошел дальше.
Как-то, возвращаясь из банка с коллегами, он также дал на улице нищему монету и вызвал у своих попутчиков недоумение. Потом минут десять ему доказывали, насколько его поступок наивен, и объясняли, что нищие на улице зарабатывают не меньше, чем он. Поведали о том, насколько это распространенный бизнес и как высоко тянутся его нити.
— Лучше ошибиться и дать мошеннику, чем отказать человеку, которому нечего есть, — сказал тогда Федор и, может быть, зря обидел товарища, проявившего заботу о сохранности его кошелька.
Дальше стояли более привычные нищие: старушки с протянутой рукой, чуть поодаль — женщина с четырьмя детьми и кошкой. Если все эти дети находятся на работе и стоят по десять часов в переходе, чтобы им бросали за это мелочь, то они не обманщики — они тяжелым трудом добывают свой хлеб. Интересно, при советской власти нищих меньше было или их просто не пускали в Москву, чтобы глаза приличным людям не мозолили? Видимо, в разные годы по-разному. Наконец Федор вошел в здание вокзала. По центру зала шагал мужчина, который почему-то привлек внимание. Мужчина был самый обычный. Федор и сам не понял, почему задержал на этом человеке (он назвал его командированным) взгляд. Пожалуй, дипломат у него был несколько старомодный, а так — ничего примечательного. Вдруг мужчина поскользнулся и выпустил из рук ношу. Дипломат раскрылся, как моллюск, на две створки, в грязь полетели какие-то вещи, выпало несколько яблок. Одно покатилось достаточно далеко. Его поднял парнишка, обтер и, вместо того чтобы подбежать и отдать яблоко хозяину, положил его в карман и пошел как ни в чем не бывало. Федор усмехнулся, перевел взгляд на дипломат и отметил про себя: ну надо же, какая, оказывается, у чемодана необычная подкладка — такая нежная, розовая.
Глава 7. В электричке
Перрон был почти полон. В это время Федор никогда не выезжал за город и сейчас удивился количеству народа, который стоял на платформе. Отработав в городе день, все они разъезжались на недолгий ночной отдых к себе в подмосковные районы. Подкатила электричка, и народ стал брать ее на абордаж. Здоровые тетки отталкивали субтильных, некоторые мужики скромничали, но далеко не все: многие боролись за место наравне с прекрасным полом. «Надо же, сколько энтузиазма у людей!» — наблюдал за картиной Федор. Какая-то женщина просовывала сумку в окно, чтобы бросить ее на сидение и тем самым поскорее занять место. Когда немножечко рассосалось и удалось войти, места уже были заняты. Федор встал в проходе, прикинул, что ехать ему почти сорок минут, и пожалел, что не взял ни газеты, ни журнала.
Не успела электричка отойти от платформы, как по вагону потянулись торговцы. Сначала прошел парень лет двадцати пяти, прилично одетый, с галстуком. Что его заставило вы¬брать столь странную карьеру? Потом зашел мужичок с пропитым лицом. Этот предлагал какой-то нож для мясорубки, которым никто не интересовался. И дальше началось! Прямо-таки «магазин на диване» — ты сидишь, а мимо тебя идут, демонстрируют, рекламируют, дают пощупать товар, и тут же можно оплатить без наценки и разных НДС.
Неожиданно, в разгар распродажи, из динамика послышалось: «Уважаемые граждане! Торговля в электропоездах с рук категорически запрещена. Не проходите мимо... сообщайте дежурному... несанкционированная торговля... лишением свободы сроком до трех лет...»
Никто даже не пошевелился. Только один ребенок, еще совсем маленький, спросил:
— А почему дядя сказал, что продавать в электричке запрещено, а все продают?
— Отстань, — ответила мама, — смотри, тетю испачкаешь своим мороженым.
— Чтобы штраф драть на законных основаниях, — пояснил ему озлобленного вида дядя, сидевший напротив. — Мол, объявление слыхали? Слыхали. Не положено? Не положено! В кутузку хочется? Не хочется! Платите денежки!
Такой диалог испугал другого мальчика постарше. Он придвинулся к такому же чистенькому папе и спросил:
— Пап, а за что штраф платить?
— Ну как, сынок, — начал объяснять папа, — в государстве любая коммерческая деятельность должна обкладываться налогами. Как ты думаешь, с чего, например, нашему дедушке пенсию платят? Ему государство платит, а государство у меня берет.
— А много ему государство платит?
— Да нет. Вот из-за таких, как эти, государству и не хватает на твоего дедушку, — доходчиво пояснял папа.
— А не проще, если бы ты сам платил дедушке?
Поворот беседы несколько смутил папу, который поспешил свернуть разговор:
— Все не так просто. В общем, подрастешь — во всем разберешься.
— А почему все тогда покупают? — не унимался мальчик. Папа молчал, а подвыпивший сосед опять не вытерпел и влез со своими комментариями:
— Психология. Раз запрещено — значит есть и нам небольшая выгода. Продают — пусть. Пусть наш народ заработает. Главное, чтоб государство не забрало, а то все им достанется. Наш народ, как никакой другой, привык к двойной морали. Это у нас в генах сидит.
Мальчик ничего не понял, а папа поощрять диалог с сомнительным типом не стал.
Федор перестал жалеть, что не взял газету, — слушать пассажиров куда интереснее, чем читать.
За соседней скамейкой тоже любопытный диалог намечался:
— Потому что женщина умней должна быть, — поясняла старая молодой. — Она мне на другой день жалуется, что лицо набил и деньги отнял, а как иначе могло быть? Вот помню, я еще молодая была, сообща тогда жили, в один сортир бегали. Пришел как-то мой пьяный, злой. Давай, говорить, деньги, все дочиста! В карты проигрался! Я ему: Петенька, сейчас, сейчас... Сама — к серванту, деньги в лифчик и бежать. Он в дом, а я из дома. Прихожу опосля — все перевернул. А денежки у меня вот здесь (она похлопала себя по пышному бюсту) на груди и осталися. Проспался, меня ж еще благодарил, что дети сыты. Теперь представь, сказала б я ему чего поперек — набил бы мне и денег бы не было.
«Чего только в электричке не услышишь! Ездил бы здесь каждый день так — мог бы просто романы писать», — подумал Федор и стал внимательнее прислушивался к говору той же женщины, явно не москвички.
— А еще приедеть к нам проверяющий — ревизор, значить. Так вот он пьеть, пьеть, упадеть под стол, обоссыться весь, а на фабрике как воровали, так и ворують. По телевизору говорять: в результате розыскных действиев обнаружили подпольную фабрику, которая делала фальшивые документы. Да у нас по всем вокзалам как продавались фальшивые документы, так и сейчас — пожалуйста. Кому диплом, кому аттестат, кому удостоверение. Да что далеко ходить: сегодня выхожу из метро — мужик стоить и каждому предлагаеть за умеренную плату кому счет-фактуру с печатями, кому накладную. Сервис полный, сумму, говорить, сами проставите. Не понимаю, как у нас можно жуликов искать, когда все кругом жулики?!
— Жалко как принцессу Диану! — послышался с другого края разговор совсем на другую тему. Чэдная, говорят, была женщина. Скольким помогала!
— Во-во, чэдная! Наших, которые больше всего наворовали, тоже, глядишь, скоро по телевизору будуть показывать. Как они наши денежки детям в Африке раздают.
— Ну как вам не стыдно! Откуда столько злости? — проговорила женщина с чуть фиолетовыми волосами.
— Ты покрутись с мое, поймешь. За ночь помыть несколько вагонов в электричке. Днем заплюють, залузгають, а мы вот этими руками возим, за две тыщи в месяц, чтобы дочка учиться могла. Как два вагона помоешь, так шатаеть всю. Да я, может, и воровала бы, только не пускають нас туда, где еще чего украсть можно. Мы уже, что могли, то украли. Ребятишки наши по дачам шарють — люминий собирають. Один провод отрезал — так без рук остался. Вот и вся помощь семье. А те, кто этот лом за рубеж продадуть, небось, все с руками ходють да с жирными задницами. Был у нас под боком детский сад: туда детей один год не привезли — тут же всей улицей его растащили. Вынесли мебель детскую, что пожгли, что кое-как приспособили. Только что с этой мебелью делать — мелкая. А ведь туда, где чего поприличнее своровать можно, еще попасть надо, я так понимаю. Вон мильцанером стать — это ж каких денег стоить! Конечно, они живуть не то, что мы: с каждой бабки-сигаретницы дань собирають. И сколько их по стране, этих бабок, теперича. Я уж не говорю о больших начальниках, которые не с бабками, а людьми приличными дела имеють. Там, небось, не такие денежки.
— Что ж, по-вашему, в стране все воровством занимаются? Есть такие, что копейки чужой не возьмут. И всегда такие были!
— Разбаловался народ, страху нет. Вот раньше бы навели порядок быстренько.
— Золотые слова, — подхватила на удивление живая старушка. Вот мой муж, царство ему небесное, офицером еще при Сталине служил — вот уж кто умел навести порядок. Ох, и лют же был! Если кто где украдет, не дай бог, спуску никому не давал. Помнится, однажды нашел у меня на юбке следы репья. Сам побледнел, шашку со стены схватил. Трясется весь. Где, говорит, курва, была? С кем в репье валялась? А я ни жива ни мертва. Говорю, в магазин, Петя, ходила, срезала путь в одном месте, через пустырь пошла. Там трава высокая, видать, вдоль тропинки этот репей проклятый и вымахал, а я дура со слепу не доглядела. Ой, что тут началось! Керосиновый фонарь схватил, у самого руки ходуном ходят. На дворе ночь, хоть глаз выколи. Иди, говорит, если мне сейчас же тот репей не сыщешь — зарублю. Полночи проползала я с ним по тому пустырю, пока репей не нашла. Вот это мужик был! Как такого не любить было? Царство ему небесное.
— Вот такие народ в тюрьмы и сажали ни за что ни про что. За то, что репей на платье. И чуть что — так шашку со стены. Не приведи господи! Пусть уж лучше воруют.
— Воровать — это, конечно, лучше, — вступил в разговор еще один пожилой попутчик. — Воровать — это лучше, — повторился он, — чем на допросах мучить, сгноить миллионы людей в концлагерях, чтобы оставшимся жилось лучше. Это все нам объяснили, до этого мы, наконец, сами дошли. Ужаснулись. Но вот что любопытно: оказывается, что власть над людьми можно проще взять. Не надо истреблять инакомыслящих, не надо гноить в концлагерях, чтоб подчинить идее, не надо никого на каторгу гнать. Можно просто забрать у народа деньги, не платить зарплату месяцами, не обогревать дома, брать в долг и не возвращать — люди сами рожать не захотят. При такой политике нам конец еще быстрее настанет. А главное, при этом нет виноватых, нет деспотов и садистов — просто есть хозяева и священное право на частную собственность, которую они сумели взять в свои руки.
— Вот вы, я так чувствую, чуть ли не за Сталина агитируете, — не выдержала еще одна дама, сидящая рядом. — Это хорошо рассуждать о том, какая политика сколько, кого и в чем ограничила и чем она хуже допросов и концлагерей. Хорошо, знаете, рассуждать на основе статистики, пока вас это лично не коснулось. Одно дело — нет денег, чтобы сына родить, и совсем другое, когда его ночью из постели на расстрел забирают!
— Ну вот видите, — примирительно сказал старичок, — в нашей стране в каждое время были свои прелести.
— Нет, что порядку нигде не стало — это верно, хотя бы на детей посмотреть. Вот я на днях с дежурства прихожу, внучке говорю: что ж это такое, почему столько семечек налузгала по всей квартире? Живо подметай, а то сейчас в угол поставлю. Знаете, что она мне сказала? Ладно, говорит, бабушка, подметай сама — я лучше в углу постою.
— Это у нас везде теперь так, демократия! А надавали бы, как раньше, вожжами пониже спины — так, небось, в другой раз не повадно бы было.
— Это точно, — подхватила другая женщина, озабоченная теми же проблемами. — Мой обалдуй. Я ему говорю: все балбесничаешь — не видать тебе аттестата. А он: мать, ты чего? Да мы эти самые аттестаты на рынке продаем.
Вот прохрипел динамик, поезд тормознул, и толпа повалила в проход между сидениями, потом в тамбур и наконец на платформу. Боковым зрением Федору было видно, как люди шагают по перрону и продолжают о чем-то спорить.
Народу в электричке стало меньше, вагон стал просматриваться насквозь. Внимание Федора привлекла пара, которая сидела через несколько скамеек от него. Женщина лет двадцати пяти, максимум тридцати, с усталым, обильно накрашенным лицом, и мужчина лет сорока, плотный, с небольшим брюшком, в дорогой кожаной куртке. Мужчина сидел, широко раздвинув колени, между ног держал бутылку пива, время от времени потягивал жидкость и косился на спутницу, которая держала его под руку. Федор пользовался тем, что эти двое не смотрели в его сторону, изучал их. Мужчина был хозяином, женщина явно подчинялась ему. Он пил пиво и скучал. Потом достал зажигалку и стал щелкать и смотреть на пламя. Затем развернулся к своей пассии и стал подносить пламя ей к лицу. Нет, больно он ей не делал, просто демонстрировал всем: «Я могу делать все, что считаю нужным, а она еще и не это, она все стерпит». Женщина чувствовала унижение, понимала, что в электричке сидят люди и, вероятно, смотрят на нее. Ждала, пока ему надоест, потом придвинулась поближе и что-то сказала на ухо. Видимо — перестань. Или — прекрати. Он улыбнулся и продолжил свое развлечение настойчивее. Она осторожно, чтобы не рассердить, слегка стукнула его по руке, пытаясь изобразить из себя капризную недотрогу. Он рассмеялся и полез ее целовать. Ему нравилось ощущение хозяина. Он повалил ее в неудобную позу, так что колени, которые она аккуратно сжимала, раздвинулись, юбка натянулась. Женщина пыталась вы¬свободить руку, чтобы поправить юбку. Федор отвел глаза.
Интересно, ради чего она все это терпит? Ведь ясно же, что ничего хорошего с таким не будет, думал Федор. Делает аборты, сносит хамство, лечится от триппера, что там еще. А ведь посмотри на нее — держится за своего «орла», небось еще сапоги ему стаскивает.
Может быть, я этому мужику завидую, поймал себя на не¬ожиданной мысли Федор. Почему завидую? Потому что нет женщины, которая тебе в рот смотрит, готова лечь в постель по первому твоему желанию, за пивом сгонять перед сном. Ты ее за дверь, а она — в окно. Вспомнилась институтская подруга, которая объясняла, почему не может больше жить с каким-то Вовочкой, который твердит без конца «люблю, не могу», а хочется мужика настоящего. Вот, наверное, тип с зажигалкой — это и есть настоящий мужик. Или тот, который шашку со стены хватает да репей на пустыре ищет. Когда Федор вновь перевел на пару взгляд, женщина уже привела себя в порядок, мужчина вытирал рот, тянулся к пиву, допил, двигая кадыком, смахнул на пол остатки жидкости и задумался, глядя на пустую бутылку, не зная, куда деть ненужный предмет. Непонятно, откуда перед ним нарисовалась старушенция и замерла в стойке, показывая взглядом на пустую бутылку. Мужчина протянул руку, смотрел, как старушка берет из его рук бутылку. Наверное, с таким же видом смотрит натуралист, как осмелевшая синичка подлетает к жилищу человека за кусочком сала. Старушка получила добычу и исчезла, и тут как раз по вагону пошла группа мальчишек. Первый был совсем маленький, лет восьми. Он почти бежал впереди всех, приседал под каждой скамейкой и честно заглядывал во все уголки — не закатилась ли куда бутылка. Вот он что-то углядел, нырнул своим вертким телом и вылез с очередной добычей, которая тут же перекочевала к другому, постарше. Тот шел рядом с большой спортивной сумкой, куда и отправилась бутылка. Судя по тому, как держал в руках сумку парень, тары там скопилось немало. Замыкал шествие бригадир — подросток лет четырнадцати, который, видимо, уже дорос до того, чтобы контролировать этот бизнес.
— Да, бабка, — сказал мужчина, допивший пиво, — рыночные отношения, понимаешь. Так сказать, свободная конкуренция. — Шутка ему понравилась, он вдруг захохотал, обернулся на спутницу, тут же скривившуюся в улыбке. Старушка так и не проронила ни звука, отошла в свой угол — у нее был совсем другой промысел, своя ниша, никакой конкуренции. Она выискивала не выброшенные бутылки, а людей с бутылками. Выбрав жертву, сидела тихо, деликатно, не мешала человеку получать удовольствие, выжидала в сторонке, пока человек не допьет до конца, и в нужный момент, когда утоливший жажду как раз размышлял, куда бы зашвырнуть пустую емкость, она появлялась прямо как из-под земли и опять исчезала на свой наблюдательный пункт. Конечно, методика менее прибыльная, чем у мальчишек, но и ноги не те — под лавку не полезешь. Тут все, как в животном мире: одни за дичью охотятся, потому что у них зубы и быстрые ноги, другие — за падалью, потому что трусливы, третьи травку щиплют, потому как вегетарианцы.
Как только Федор предался зоологическим аналогиям, в вагоне появился пес. Не отягощенный лишним весом, он легко семенил по вагону. Бродяга был психологом, угадывал безошибочно, возле кого стоит притормозить, поднять свои собачьи глаза, а возле кого нет. Пес поглядел желтыми глазами на Федора, у которого, как назло, ничего не было, понимающе воспринял такое дело, поплелся между скамеек, дотрусил до конца вагона, лег возле закрытой двери. Дальше тупик, дверь не раздвинешь, приходится ждать милости человека. В этом придуманном человеком мире не то что дичь не найдешь, дверь и ту не откроешь: либо ошейник надевай (так ведь еще не всем предлагают), либо полагайся на волю случая.
Мужчина рыгнул, улыбнулся и опять достал зажигалку. Все началось сначала. Федор вдруг заметил, как сжались у него кулаки. С каким же наслаждением он сейчас ударил бы этого самодовольного самца! Один раз, потом, не давая опомниться, сразу второй, третий, изо всех сил, со всей злостью, которая накопилась за день. Чтобы тот ткнулся носом вперед и повалился в проходе.
«Господи! Откуда столько ненависти? — оборвал свои кровожадные мечтания Федор. — Откуда во мне столько злости и на кого? На него? На себя? На сегодняшний день?»
Интересно, думал Федор, а вот эта его спутница, которая ему сапоги стаскивает, как бы она себя вела, если бы мужик ее не давил, цветы каждый день носил бы и спрашивал без конца: «Солнышко, ну как, как ты меня любишь?» Может, она бы тоже его презирать начала. Как та проститутка лоха на джипе. Неужели все эти отношения — по принципу «кто кого»? Разве не может быть гармонии: он ее любит и уважает — она ему отвечает тем же.
Пустившись в психоанализ, Федор уже более трезво оценивал ситуацию. Мужик, конечно, подлец, но тяжелее килограммов на двадцать. Такой будет бить жестоко, а когда его станут оттаскивать, глаза у него нальются кровью и он будет кричать: «Я тебя еще найду, падла!». Женщина, видимо, заорет: «Помогите!», а, может, полезет помогать и расцарапает Федору лицо, чтобы не ввязывался не в свое дело.
Однажды у Федора был похожий случай. Идя летним вечером по лесу (не поздно, еще светло было), он вдруг услышал истошный крик. Девчонка орала, как будто ее резали. Федор тогда совсем молодой был. Подойти — страшно, а не подойти — подло. Как быть? Сломал он тогда палку, благо их в лесу полно, пошел на крик, вышел на поляну: костер, вокруг костра — компания. Подошел ближе. Ребятня помоложе, но здоровые, черт возьми. Один «герой» разложил девицу на траве, оседлал верхом, придавил руки. Она, видимо, и кричала. Увидела, что кто-то идет — кричать перестала. Все молчат, на Федора смотрят.
Федор, не доходя нескольких шагов, остановился и как можно спокойнее спросил:
— Ты кричала? — голос все-таки выдавал волнение.
— А тебе чего, больше всех надо? — поинтересовалась девочка, на которой сидел верхом парень.
— Мужики, он тоже на бабе посидеть захотел!.. А своей, видать, не обзавелся. Может, ему место уступить? — сказал парень, не слезая с девчонки.
— Может, надрать ему задницу? — поинтересовался его сосед. Но Федору быть героем надоело. Он радовался, что переборол свою трусость, и больше на подвиги не был настроен. Сколько бы его теперь ни поносили, Федор бы все равно повернул обратно в лес, под крики и улюлюканье. Он так перенервничал, что толком не мог разобрать, что ему кричали вслед. Судя по тому, как громко ржали девчонки, что-то весьма остроумное. Пусть кричат, им нужно показать, какие они смелые, а ему важно было себе доказать, что не струсил. Струсил, конечно, но все-таки подошел. И что? Да нет, все, слава богу, обошлось. Могло ведь и по-другому кончиться. Иногда Федору казалось, что кто-то придумывает его судьбу прямо на ходу. Как будто следит за ним и тут же пишет дальнейший сценарий. Видимо, тот, кто писал этот сценарий, относился к Федору как к герою своего романа — благосклонно. Сколько Федя падал, собаки его грызли, под машину попадал на скейте, тонул не раз, а надо же — жив-здоров до сих пор и руки-ноги целы.
Очередная остановка отвлекла его от воспоминаний. Мужчина с зажигалкой и накрашенная женщина вышли.
Какой сегодня длинный день, чем-то он еще кончится, где я проснусь завтра? Неподалеку от него появилась компания мальчишек лет пятнадцати. Интересно, куда эти паршивцы в такую поздноту едут, как это родители таких пускают. А впрочем, сами мы в этом возрасте уже изрядно мотались и на дачу, и в поход, и в дом отдыха, правда, тогда поспокойнее было. И Федор с улыбкой вспомнил, как однажды они, такие же подростки лет пятнадцати, получившие пьянящую свободу, вырвавшись из-под родительской опеки, вот так же ехали в поздней электричке. Только времени было больше — первый час ночи, в электричке уже ни души, кроме них. И впечатление было, будто бы этот огромный вагон подан именно им. А как вобрать в себя этот подарок, они не знали, носились из конца в конец, орали какие-то песни, садились то на одно сидение, то на другое, ложились на скамейки. Нет, им тогда не только вагон принадлежал; кажется, вся жизнь была впереди — длинная, бесконечная! Все девушки ждали, все дороги звали их — молодых, зеленых, счастливых. Полежав в разных частях вагона, опять собрались вместе. Голодные все. На четверых почему-то была только одна банка сгущенки и ни ножа, ни острого предмета. Каждому хотелось придумать что-нибудь гениальное, открыть эту банку подручными средствами. Сгущенку рвали друг у друга, в ход шло все, что было под руками: ключи, пряжка от ремня. Какое там! Без ножа ничего не получалось. Наконец, кажется, Вовочка Левин встал с ногами на скамью и стал бить дном банки об висящий на стене крючок. Банка только плющилась, мальчишки подзуживали, а Вовочка бил изо всех сил, и вдруг банка не выдержала, лопнула и наделась на крючок, а вниз потекла тоненькая струйка сгущенки. Электричка огласилась победными криками, и четыре физиономии с открытыми ртами вступили в борьбу за то, чтобы оказаться под этой струей. Сгущенка лилась то на лоб, то в глаза. Хохот стоял неимоверный. Господи, какие мы были грязные, довольные, счастливые, думал Федор. Предавшись столь приятным воспоминаниям, он чуть не проехал свою станцию. Услышал объявление, сообразил, что надо было давно стоять у выхода, заторопился, оглядел наспех, не оставил ли чего на сидении, и выскочил из вагона. Прошел по слабо освещенной платформе, затем через сырой заплеванный подземный переход и оказался в рабочем районе то ли ближайшего Подмосковья, то ли дальней окраины разросшейся Москвы.
Глава 8. Черная лестница
Район был новый. Возле платформы — регулярные посадки; кусты, деревья выбиваются из кучи мусора, бутылки, фантики, коробки из-под сигарет. В какой-нибудь европейской стране такую ситуацию называют «экологическая катастрофа». Green Peace протестует, летят вертолеты, высаживается десант, спасают пораженный участок земли. А здесь все тихо... В конце улицы брела группа парней. Против чего они протестуют, было неизвестно, но тем не менее возникало желание пройти так, чтобы и вовсе этого не узнать. Посреди улицы (благо движения почти никакого) неуверенной походкой шел мужик, падал на карачки, пальцами в жидкий коричневый снег, шапка катилась по грязи. Он подбирал ее, тупо смотрел перед собой и шел наперекор стихии по качающейся, как морская палуба, планете в своем собственном, полном неожиданностей мире. Он не боялся ни ребятни ни гринписовцев. Федор не любил, когда русских ругали за пьянство, не любил, когда издевались над перебравшими мужиками. Помнил, как неприятно задел его рассказ знакомой, которая хвалилась, что отучила своего мужа пить, пару раз оставив ночевать в подъезде. Почему не любил, наверно, и сам бы не сформулировал толком. Ведь знал, сколько горя эти алкаши приносят своим близким. Однажды, когда жена еще говорила, что любит его, он спросил: «А за что?» Она подумала и сказала: «Не знаю, может быть, за то, что ты пьяных в мороз до дому доводишь».
Пьяных он и впрямь доводил до дому. Как-то буквально дотащил до общежития совсем молоденького паренька и положил в тепле на лавку. В другой раз, кстати, холод был зверский, а мужик попался тяжелый. Федор поднимал его изо всех сил, нес на себе, почти как санитарка с поля боя. Со временем клиент пошел ровнее, потом даже заторопился, засеменил за¬плетающимися ногами и вроде даже немного протрезвел. Остановился, посмотрел мутными глазами на Федора и почему-то обиженно отбросил его руку с плеча, пошатался и вдруг неожиданно ловко двинул в челюсть. Федор не удержался и полетел в сугроб. Мужик тоже не удержался — рухнул в грязь с криками: «Я тебя еще достану, сука!» Достать он Федора так и не достал и, видимо, остался ждать следующего сердобольного помощника. А может быть, включил автопилот и доехал до нужного адреса, упал на кровать и никогда больше не вспоминал об обидчике, которого так ловко послал в нокаут. Вспомнился Федору еще один пьяный в электричке, который ехал с двумя детьми: мальчиком и девочкой. Девочке было годика четыре, а мальчику пять или даже шесть. Отец семейства был в том невменяемо-веселом настроении, когда любишь всех детей, а своих особенно. Он подмигивал дочке и пел, показывая щербатый рот. Народ шушукался, возмущался. Потом выяснилось, что мужик проехал свою станцию, и сообразит ли он, что ему надо выйти, перейти на другой путь и ехать в обратную сторону, было совсем не очевидно. Дети, наконец, тоже поняли, что проехали станцию, где их ждет мама, и оба ревели в голос, а папаша кричал: «Ничего, ничего!» И свирепо оглядывался на попутчиков, которые своими разговорами настраивают детей против отца. Эпизодов с пьяными и впрямь в его жизни было много. Однажды с приятелем зимой в мороз они были в подмосковном поселке. Отошли от станции метров десять, прямо возле магазина лежит женщина, не старая еще — лет сорока, может быть. Волосы чуть с проседью, в худом плащике из дешевого кожзаменителя, лицо с кровоподтеком. Видно, что алкоголичка — связываться себе дороже, а с другой стороны, человек живой — через полчаса окоченеет. Что делать? С трудом растолкали, расспросили, где живет. Оказалось, совсем рядом. Взяли они ее тогда с приятелем за руки за ноги (на удивление легкая была), понесли. Нашли указанный адрес — избенка старая, дверь не заперта. Зашли. В доме почти не топлено. Покричали хозяев. Вышла из дальней комнаты баба лет пятидесяти: то ли сестра ее, то ли еще кто.
— Ну что, принесли? — привычно спросила она, будто сама не видела. Не выказав ни приветливости, ни удивления.
— Куда положить-то ее?
— Известно куда — на пол, не на кровать же, — удивляясь глупости вопроса, проворчала женщина. В доме было все же потеплее, чем на улице. Пьяная повернулась на бок, подтянула под себя ноги. В нос ударил запах мочи. Они вышли, с трудом нашли колонку с водой, по очереди жали изо всех сил на чугунный рычаг: долго мыли руки ледяной водой, которая брызгала на одежду.
Неоднократно Федор слышал, что есть больные, которые по несколько лет ждут, когда где-то появится донор, от которого можно взять почку и спастись, выжить. А вот эта может лечь возле магазина почками на лед и больше никогда не проснуться — дикость какая-то...
Почему же он жалел всех этих алкашей? Почему не любил фраз типа «туда им и дорога»? Может, тут и впрямь что-то национальное. В том смысле, что русский человек, как никакой другой, одновременно добирается до истинных высот и в величии своем, и в низости: снимет с себя и отдаст прохожему последнюю рубашку и так же точно пропьет ее! Да ладно сам голый пойдет — семью по миру пустит, потому как тоска у него мировая. Душа у него горит, или за державу ему обидно до слез, до безразличия ко всему на свете.
В таких вот странных обобщениях Федор дошел до новостройки, в которой жила Женечка Леденцова.
На лавочке под навесом подъезда сидели молодые болезненного вида подростки: три парня и две девицы. Пол вокруг них был густо заплеван. Самый тощий радостно рассказывал:
«Ну, взяли мы, блин, значит, ящик водки, выжрали и пошли местным морду бить...»
Дальше Федор не успел дослушать историю, шагнул в подъезд. В подъезде были все те же следы «цивилизации». Потюкав кнопку, Федор не увидел и не услышал никаких признаков вызова лифта, понял, что кабина за ним, скорее всего, не приедет. Кнопка была подпалена снизу зажигалкой, поэтому понять, что именно неисправно, было невозможно: то ли кнопка деформирована и застревает, то ли внутри кнопки перегорела лампочка и не дает знать, что лифт сейчас приедет, то ли сам лифт сломан и поэтому не шумит. Идти надо было аж на двенадцатый этаж, а что делать, и Федор пошел пешком. Лестница была местом, где жильцы удовлетворяли свои самые разные потребности, начиная от тяги к живописи и эпистолярному жанру, кончая отправлением примитивных естественных надобностей. Федор шел, и у него было два желания: не дышать и не наступать. И то и другое было невыполнимо. Говорят, в первобытной пещере на стенах уже рисовали, а по нужде видимо все-таки наружу выходили. Кошка тоже в своем доме ни-ни, бежит во двор, в песочек, да еще и лапкой поскребет, присыплет. Неужели человек не понимает? За тысячи лет люди напридумывали столько всего: понятия морали, нравственности, а повлияло ли это на поведение человека в таких местах, как черная лестница, где тебя никто за руку не возьмет, где можно нагадить, и ни одна душа об этом не узнает? Получается некий прямо-таки психологический термин «черная лестница» — место, где человек один на один со своей совестью. Любопытно. Это надо запомнить, размышлял Федор. А вот интересно, раньше было по-другому или так же? Как было в доисторические времена, когда люди огню и воде поклонялись? Может быть, с жизнью цивилизации все так же, как и с жизнью человека. Человек рождается наивным, учится всю жизнь, к старости становится умнее. А как с совестью? Не зря же говорят, что «устами младенца глаголет истина». Так и с цивилизацией. Конечно, знания накапливаются, множатся. Это факт. А доброты, совести было ли в людях меньше тысячу лет назад, а две тысячи? Кстати, может, заплеванный пол вообще с культурой никак не связан, может, это все от нищеты, от отсутствия здорового мещанства — любви к хорошим дорогим вещам, уютным подъездам, куда не стыдно пригласить богатого родственника? А может, это от былой привычки, что «все кругом колхозное»? Мое — это только то, что внутри квартиры, там, за железной дверью, а здесь все общественное. Может, именно поэтому понятие общественного туалета у нас стало нарицательным. Лестница давалась Федору с трудом, зато навевала массу ассоциаций. Федор был интересно устроен: если не переживал и не думал о своем пошатнувшемся здоровье или о каких-либо других неприятностях, то непременно размышлял об отвлеченных материях, стремился к теоретическому осмыслению, и даже заплеванный пол давал ему повод для философских обобщений.
Глава 9. Красная кофта и зеленая юбка
Федор наконец преодолел полосу препятствий, оказался у нужной квартиры, нажал на кнопку и услышал за дверью пение электрического соловья.
Женечка вышла к нему в шелковом халате: то ли японском то ли китайском, с сотовым телефоном. Почти как японская гейша, только без японской бледности, а такая розовощекая, кровь с молоком. Женечка принимала Федю, как будто они только что расстались. У нее вообще был дар показать человеку, которому она хотела понравиться, что «все кругом дерьмо, а ты, мой друг, — конфетка!» Гейш, наверное, этому долго учат, а Женечка до этого доходила внутренним чутьем и делала это естественно, а потому и с начальством ладила, и с мужем, и вообще со всеми, с кем хотела ладить. Федя хоть и встречался с Женечкой раньше, и не раз, но в квартире этой никогда не был.
Что-то в этом есть нехорошее — соблазнять замужнюю женщину. Но с этим Федор как-то мирился. Как там у Толстого было, не мог точно вспомнить Федор: «обманывать человека нельзя, а мужа можно»? А вот прийти к женщине домой, где муж ее в трусах ходит, курит на балконе, все эти полочки и шкафчики понавешал? В этом есть что-то постыдное. А может, это все от неуверенности в том, что этот муж не заявится, и черт его знает, как на все это отреагирует. Впрочем, Женечка Леденцова вряд ли до этого допустит: все у нее складно, аккуратно, все на своем месте, все в свое время. Раньше, в советские времена, в поселках выдавали таблички «Дом образцового содержания». Вот у Женечки была такая квартира. Входишь в жилище и понимаешь — есть тут хозяева: баба с головой, мужик с руками! Все есть: в серванте — хрусталь, в шкафу — собрание сочинений, на окне — фикус. Женечка села на плюшевый диван, смотрела, ровно ли сохнет лак на ногтях (все-таки, видимо, готовилась), потом взяла трубку и, заговорщически улыбаясь Федору, поднесла палец к губам, мол, Федя, тебя здесь нет, никто не должен знать, что ты в такой час у женщины, которая в халате, и стала набрать номер. Федор слегка напрягся, когда понял, что Женечка разговаривает с мужем. И так-то неловко, а тут вообще никакой мужской солидарности. Знакомая его была из породы людей, которые широко пользуются ложью во спасение. Разговаривала она на редкость тепло и даже ласково, но еще более ласково поглядывала на Федора. В этих взглядах читалось: извини, милый, сам понимаешь, как мне хочется поскорее закончить с мужем и быть с тобой, но, как говорится, «я другому отдана...» и посему должна ответить на все его вопросы. Разговор затягивался, приходилось выдавать все новые сведения. Говорила Женечка так любовно, что Федор хотел выйти, чтобы не мешать, но хозяйка замотала беззвучно головой Федору, показывая, что он должен остаться: мол, какие могут быть от него секреты. И тут же стала кивать головой в другую сторону. Это уже относилось к разговору с мужем. Беседа не прекращалась, и, чувствуя вину перед гостем, Женечка подошла к Федору и стала гладить его по груди, затем по животу. Федор думал про себя: какая противная сцена и как мне жалко обманутого мужа. Но гладили его как-то уж очень хорошо (для всего нужен опыт), и, если быть до конца честным, помимо презрения к Женечке, он испытывал к ней одновременно чувство благодарности за то, что девушка ценила его положение в обществе, отмечала, что служит он не где-нибудь, а в западном банке. А если уж быть совсем откровенным, еще он был ей благодарен за ощущение значительности, за возможность, наконец, почувствовать себя почти героем на фоне неудачника-мужа, который лепечет в трубку что-то невразумительное и никак не закончит. Вот, кстати, кто дал бы сто очков форы Вере, на которую он два часа назад истратил кучу денег и ничего не получил взамен! Мог бы сэкономить, цветы Женечке привезти или хотя бы коробку конфет. Женечка, какая она все-таки! Как это она все успевает и ничего не путает. Федору почему-то вспомнился тест на координацию движений, который сын принес из школы. Необходимо гладить себя по животу по часовой стрелке одной рукой, а другой рукой одновременно ударять по голове. Казалось бы, элементарно, а народ, кому ни покажи задание, путается: либо стучит по животу, либо гладит по голове. Женечка наверняка бы с таким заданием справилась и еще спросила бы: «А в чем проблема? Гладишь по животу, бьешь по голове, разговариваешь с мужем — элементарно!». Муж, видимо, увлекся — ему было грустно на дежурстве и хотелось рассказать жене что-то важное и во всех подробностях. Женечка кивала в трубку, кивала и одновременно, чтобы не оставить гостя, показывала Федору, какая у нее розочка на лифчике. Прямо между двух внушительного размера полусфер была сделана премиленькая розочка из бантика. Разговор подходил к концу: прошла церемония клятв верности, потом, как понял Федор, умиленный муж просил проверить, не включен ли газ и прочно ли заперта дверь, и только после этого вернулся опять на свою вахту, и трубку удалось отложить. Федор представил себе Женечкиного мужа, который стоит на посту с винтовкой в тулупе, и в лицо ему метет снег. В это время Женечка принесла подносик, на котором стояли две хорошенькие пузатые рюмочки с коньяком, а в коньяке плавали ломтики лимона.
От кого-то (кажется, от Лехи) Федор слышал выражение, которое, как ему казалось, предназначалось именно для таких моментов: «Ну вот, жизнь, наконец, приобретает законченные формы». Женечка придвинула к кровати столик с подносиком, легла на диван, взяла в руки пульт, обернутый полиэтиленовой пленочкой, включила телевизор, подавила до нуля в телевизоре звук и другим пультом запустила музыкальный центр, из которого запел знакомый Федору голос, рассказывающий что-то про фотографию девять на двенадцать. Федор тоже лег (видимо, на место Женечкиного мужа), вдыхал терпкий запах коньяка, слушал шлягер и постепенно начинал ощущать себя Женечкиным мужем, пришедшим с дежурства. От мягкого поролона под спиной и от рюмочки коньяка его слегка потянуло в сон. Он уже начал шарить рукой в поисках отзывчивого тела, как Женька выпрямилась и опять пошла к телефону. На сей раз она позвонила подруге и торопливо стала давать указания: «Машка, слушай сюда, не перебивай. Если мой вдруг позвонит, подтвердишь, что была у меня сегодня вечером с десяти до одиннадцати. Потом расскажу, потом. Нет, нет. Это точно. Да, знаешь, как говорят, “мужик меньше знает — крепче спит”. Все, все, давай, пока. Нет, слушай: если вдруг спросит, в чем я была, скажи, что в красной кофте и зеленой юбке. Да ты что, не помнишь мою зеленую юбку? Да какая новая, я ее в Турции покупала. Ну да, та самая. Про остальное если будет спрашивать — пошли подальше. Ну, скажи, что не помнишь. Да, может, и не позвонит еще. Это я так, на всякий случай, чтобы не причинить боль близкому человеку. Ну все, пока».
«Да, — подумал про себя Федор, — вот так живешь с женой, газ просишь проверить, дверь запереть, а сомнения-то все-таки, видимо, гложут. Гложут? Гложут!» Спросишь вечером невзначай:
— Почему коньяк выпит? Что, гостей принимала?
— Машка была!
— Машка?
Может, и Машка, а подозрения все равно в голову лезут. Хоть и неловко, а позвонишь этой самой Машке и спрашиваешь:
— Маш, слушай, ты у моей вчера была?
— Была. Часов в десять пришла, посидели, выпили по рюмочке, телик посмотрели? А что? Случилось, что ль, чего?
— Да нет, нет, ничего! — а сам думаешь: «Как это — ничего? А может, они сговорились!» Позвонишь опять и, уж совсем как последний идиот, вопрос задаешь:
— Маш, а в чем она была?
— В красной кофте, в зеленой юбке, — понимающе выдает Машка. — И ведь точно, в этом и была. По крайней мере, когда я уходил. Наконец, рассеял все сомнения. Думаешь: с чего это я таким подозрительным стал? И живешь себе спокойно: достал бутылочку, налил в пузатую рюмочку, лег на диван, взял пульт... Рядом жена — смотрит укоризненно, но не строго. А может, так и нужно. Все, как говорится, “чики-чики”. Ну не бросаться же Женечке каждый раз мужу на шею со слезами и говорить, что больше этого не повторится. Это же просто травмировать мужчине психику», — Федор так увлекся своими мыслями, что перестал получать удовольствие.
Женечка угадала, даже не угадала, а скорее почувствовала, что Федор из примитивной мужской солидарности осуждает ее отношение к мужу, и решила восстановить справедливость. Отвоевать свое право на частную жизнь и современное поведение.
— А что! — с некоторым вызовом заговорила она. — Мужик, если он напрягается на работе да действительно пашет и деньги в дом несет, так ведь обязательно где-нибудь расслабляется, или, как раньше говорили, гуляет. Что, не так?
— Ну, допустим, — осторожно вступал в полемику Федор.
— А у меня посмотри: квартира мною куплена, мебель и обстановка — тоже мною, а он только и может, что на работу ходить! Денег от него как не было — так и не будет!
— Почему не будет-то? — робко заступился за мужа Федор.
— Почему, почему! Ты его не видел, тебе трудно это объяснить. Он же хорошо у меня устроился — до сих пор, по-моему, верит в то, чему его на политзанятиях в военной академии учили: будь честным, будь трудолюбивым, а деньги сами придут. Только что-то не похоже, чтобы они приходили-то. Я ему даже не рассказываю, сколько на мне всего висит как на бухгалтере, какие счета подставные, какие левые, где деньги черные, где белые, куда что прятать, когда разные комиссии приходят. А ты на него посмотри: он же у меня живет как у Христа за пазухой: обстиран, накормлен, всегда обед на столе. И первое, и второе, и третье. Что я, по-твоему, не заслужила что-то для себя в этой жизни поиметь? Да, кстати, ты сам-то что? Может быть, своей жене все о своих похождениях рассказываешь?
«Да-а-а, — подумал Федор, — первое, второе и третье — это, пожалуй, аргумент». Но вспомнил про красную кофту и зеленую юбку и решил поспорить. Однако Женечка, как оказалось, еще не закончила свою мысль:
— Кстати, к твоему сведению, самые нестабильные семьи — это те, где ни он, ни она не изменяют друг другу.
— Откуда же такая статистика?
— Ну, представь себе, пришел ты домой, думаешь: помады на щеках нет, рубашка духами не пахнет. Она тебе с порога: «Слушай, заболталась с подругой, даже приготовить ничего не успела». А ты ей: «Да ну, ерунда какая!» И все довольны. Не понимаю, ну почему мужчины так бояться быть обманутыми мужьями? Женщины-то ведь куда демократичнее. Вот недавно одна прямо в передаче говорила: «Мужу нужно — пусть! Главное, чтобы я ничего не знала. Как говорится, не пойман — не вор». Я так считаю: если тебе нужно больше, чем твоему мужику, так что же тут поделаешь. У меня, например, есть принципы: мужу дать законное, а дальше — по обстоятельствам. Конечно, идеальная жена это та, которая хочет только тогда, когда хочет муж, но я так рассуждаю: лучше удовольствие обоим доставить — и мужу и любовнику, — чем ни тому и ни другому.
«Ну надо же, — подумал Федор, — какая стройная философия! Не подкопаешься. На месте мужа, если он все знает, конечно, жена его не слишком хороша. А если нет? Кормит, поит, в доступе к телу не отказывает, да еще и вину свою постоянно чувствует! Готовит первое, второе и третье, деньги в дом несет да в случае чего за все растраты ответить готова. И при этом настроения хорошего — вагон. С такой женой, как говорил Жванецкий, проживешь всю жизнь дураком, ничего не узнаешь и умрешь счастливым человеком».
Федор так разомлел от законченного набора удобств и так погрузился в привычный для себя психоанализ, что Женечка решила его взбодрить. Она оторвала свой аппетитный зад от поролонового дивана и, пользуясь одними пультами, не вставая, переключила телевизор на видеомагнитофон. Начался какой-то порнушный фильм, в котором интеллигентного вида немец средних лет повторял: «Das ist fantastisch», а наш бедный переводчик мямлил гнусавым голосом: «Ой, как мне хорошо». Тоже, кстати, работка, не дай бог, подумал Федор. Сколько все-таки занятий на свете существует, что похуже моей работы, рассуждал он. Таким переводчикам, небось, не сладко. Так попереводишь недельку и на женщин совсем реагировать перестанешь. Или вот еще недавно где-то прочитал: с этой глобальной информатизацией столько новых рабочих мест образуется. Появилась, вроде, такая служба: заказываешь услугу прямо по Интернету, оплачиваешь все кредитной картой, даешь адрес, и по этому адресу агентство высылает собачьи фекалии. Говорят, услуга спросом пользуется огромным — бизнес процветает. А вот сама работа персонала, упаковщиков разных да и рассыльных тоже — не фонтан.
Женечка тем временем достала косметичку, вынула салфетку и стала стирать помаду, глядя в зеркальце.
— Знаешь, сколько среднестатистический мужчина съедает помады? — спросила Женечка, краем глаза поглядывая на экран. — И, не дождавшись ответа, сама же и ответила: — Если я ничего не перепутала, то около десяти килограммов! Представляешь?
— Это что же, в год по полкило, что ли?
— Ну, может, граммов. Какая разница? — Женечке было, в общем, все равно, и в этом ли, в конце концов, дело.
В кино закончилась скучная прелюдия, и началось самое интересное.
— Да выключи ты эту гадость, наконец! — скомандовал Федор.
— Подожди, сейчас появится такая невинная с расслабленным анусом, — вновь отвлеклась от зеркальца Женечка.
«Фу ты, е-е мое-е!» — возмутился про себя Федор, но на экран все же посмотрел. Потом встал и выключил телевизор. Интересно, а был бы один, глядишь, не передернуло бы. Может, это все о том же. О том, как со стороны смотришься. Все о черной лестнице, где можно, пока никто не видит... Женечка исправила ошибку, встала и включила диск с Чайковским.
Федя чувствовал, что в любви с Женечкой у него все получается ловко и добротно, как у опытного гинеколога. Женечка вся была в его власти, вот она охнула и пролепетала, как театральная героиня: «Возьми меня, Федя». И все вышло как нельзя лучше.
У Женечки и до ее любимого занятия настроение было хорошее, а после стало просто замечательное. А Федору, наоборот, сделалось грустно. Он повернулся на живот и опять задумался. Женечка придвинулась к нему и принялась массировать ему холку, в знак благодарности. Сначала мяла, а потом начала скрести своими длинными ноготками. Приятно... Федор растекся, перестал грустить и наконец даже исполнился нежности к Женечке. Ведь, как ни крути, а относится она к нему по-доброму. За что же он ее презирает-то? Ну не свинство ли это с его стороны? Федя повернулся на бок и начал в ответ скрести Женечку по толстой спине. А Женечка Леденцова лежала и урчала от удовольствия.
Когда-то в детстве родители возили Федора на Украину. Там они снимали дачу, даже не дачу, а так — веранду. Кажется, было это в прошлой жизни, а вспоминается, будто недавно. Одно из наиболее ярких воспоминаний — как он ходил на скотный двор кормить свинью. Свинья была толстая, с розовой кожей, теплая и совсем не противная. Феде было лет пять, он был невысок и потому дотягивался до хрюшки, только изрядно перевесившись через перегородку. Самое приятное было — чесать свинью. Толстушка замирала и стояла так, чтобы Феде было легче ее доставать. Но потом впадала в такой кайф, контролировала себя все меньше, оседала все больше и, наконец, обессилев, плюхалась на землю, так что Федор до нее дотянуться уже не мог, и ему приходилось искать себе новое занятие. Федору было стыдно за эти ассоциации. Хотя, если задуматься, ничего оскорбительного в них как раз не было. Женечка не переутомляла его, вовремя встала, натянула халат, предложила разогреть ему макароны по-флотски. Но Федя заторопился. Потянулся на стул за брюками. Женька опередила его, стянула со стула штаны — из брючин выпали носки. Федор поднял их, сжал в кулаке, встал, слегка втягивая в себя намечавшееся брюшко, и вопросительно глянул на Женечку: что, мол, еще за фокусы? А Женечка так по-свойски перекинула брюки на руку, пошла за нитками и бросила по дороге фразу:
— Тебе жена когда-нибудь зашивает вещи или ты так и ходишь, как холостой?
Федору фраза не понравилась. Хотелось оборвать эту Женечку за бестактность. Сказать, что, мол, жена с работы приходит уставшая, а дома и без его штанов забот полно, да и дырочка-то совсем маленькая. Но аргументы были все не те! Может быть, надо было сказать: «Не лезь не в свое дело»? А впрочем, что это он взъерепенился? В точку попала Женечка? На дырку было, конечно, наплевать, а вот признать, что жене наплевать, не хотелось. А ведь так и есть. Просишь иной раз, просишь...
Женечка ловко дошила. Чувствовала, что испортила мужчине настроение, и корила себя. Откусила мелкими, острыми, как у белочки, зубками нитку и бросила ему на колени брюки: мол, давай, герой, одевайся. Федор натянул брюки и сразу пошел надевать куртку. Женечка расстроилась, подошла, сцепила вокруг его шеи пальцы.
«Может, она меня по-своему любит», — подумал Федор.
— Ты обо мне хоть раз скучал за все это время? — спросила, заглядывая ему в глаза, Женечка.
— Я о тебе постоянно скучаю, — ответил Федя, и его совсем не заботило сквозившее в ответе хамство. Он сделал под козырек и вышел вон. А что ему было сказать? «Вспомнил о тебе, когда пойти было некуда»? У нее — ложь во имя спасения, а у него — шутка во имя спасения? Вот странное дело: жена его обходилась без вранья. А он — нет! Признание этого факта Федора раздражало. Почему? Может быть, потому, что слабый врет, а сильный говорит правду! Федор приезжал откуда-нибудь из двухдневной командировки, если видел, что встречают его чересчур сдержанно, задавал вопросы, почти как Женечка: «Ты тут без меня скучала?». Видел на лице жены внутренний запрос к самой себе, а потом, после этого полуминутного анализа, ответ, как от вычислительной машины: «Да ты знаешь, пожалуй, что нет. Дети к подруге уезжали, я тут убирала, книжки свои читала. Так отдохнула ото всех! Но я рада тебя видеть». Ну и на том спасибо, думал про себя Федор. А все-таки обидно! Что же ему, в подводное плаванье уходить на месяц или на мине подорваться, чтоб она спохватилось-то: «Феденька, родненький, как же я без тебя, мое солнышко!» В общем, как давно сформулировал Федор, честность его жены порой переходила в хамство. И зачем мне эта честность? — рассуждал он. Что мне с ней делать? Вон Кузина жена говорит мужу: «Несчастный ты мой бедняжечка! Ты так много работаешь, совсем себя не бережешь...» Ясно, что преувеличение, но, все равно, какое милое! Да и вообще, где место всем этим семейным «сюси-пуси»:
— Мой пупсик сегодня уже где-то набрался и будет отдыхать?
— Моя рыбка все понимает!
Как там, в песне, поется: «Ты мой глазик, я твой унитазик»? Какая же без всего этого супружеская жизнь? Или чего, например, стоит: «Мой бизончик сегодня устал, я ему приготовила рыбку, он обожрется как свинья и захрапит как поросенок!» В этой фразе видна и любовь и уважение. А где место всем этим атрибутам семейной идиллии, когда тебе говорят, что сама не пойму, скучала или нет?
С другой стороны, ведь связывало его что-то с женой. Может быть, он в ней ценил именно ее честность. Честность, независимость. И это при том, что материально-то она от него зависела. А оборачивалось все наоборот. Или они все-таки оба нуждались друг в друге? Иначе бы разбежались давно. Чем-то все-таки они дополняли друг друга, а договорится ни о чем толком не могли. Федор никак не мог отыскать логики в ее рассуждениях и часто удивлялся, что он не почувствовал очевидной мысли в произведении, а жена почувствовала. Иногда его поражали ее суждения о том, что, например, в творчестве Рериха нет той тонкой эстетики, которая есть в христианской иконописи, или о том, что Врубель стремился душой туда, где Рублев уже, несомненно, бывал. Не мог он понять: то ли это чушь, то ли правда, что Врубель туда стремился своей душой, но было в этом то, чего он не мог толком выразить словами, и, высмеивая непонятные для него духовные искания жены, видимо, в них одновременно нуждался. Радовался он, когда узна¬вал, что в его отсутствие она перебирала его рисунки. Любил смотреть на ее лицо, бывать с ней в лесу. Что еще он в ней ценил? Ценил, что с женой иногда можно было пошутить, когда не ясно, в чем была шутка и была ли она. Так, полуфраза, полужест, полунамек... И вокруг никто не понял, а она поняла. Кто это, не Оскар Уайльд ли, сказал: не женитесь на девушках, которые не понимают ваших шуток?
И чего он сегодня потащился к этой Женечке? Что он получил от этого, только угрызения совести. «Вот интересная вещь, — поймал себя на неожиданной мысли Федор, — изменяешь жене регулярно, совесть совсем не мучает, а стоит сделать перерыв на полгода, и уже бывшие измены не в счет, а новая воспринимается прямо как предательство. Интересно, это у всех так, или это я такой чувствительный? Интересно кто же все-таки нравственнее? Тот, кто не мучается, потому что не считает каждый свой “поход налево” изменой, или тот, кто, не устояв соблазну, потом себя долго и жестоко казнит?»
Федор сам не заметил, что прошел нужный поворот, идет куда глаза глядят, сбился с дороги и вышел на остатки какой-то деревушки.
Глава 10. Уходящая деревушка
Неказистые сараюшки, покосившиеся заборчики, несколько яблонь, облезлые кусты. Этот островок жизни был еще более заброшенным и прохудившимся, чем рабочий район с изрисованными краской из баллончиков новостройками. И, несмотря на нищету и запустение, от этих сараюшек веяло чем-то родным и дорогим сердцу. Почему, Федор объяснить не мог. Где-то он слышал, что красиво то, что целесообразно, функционально: красива лошадь, потому что у нее длинные ноги, которые дают ей возможность быстро бегать, красив самолет, который летает. Как там говорится, «некрасивые самолеты не летают». Тут все понятно. А в чем красота этой занесенной снегом деревушки в несколько тусклых огоньков, где крыши худые, заборы покосившиеся? Почему так хочется вобрать в себя этот серый пейзаж, запомнить, как за мелькающими хлопьями снега проступают пустые скворечни, доживающие свой век хибарки. Смотришь и думаешь: недолго осталось этим домишкам зимовать. Бабки, что кое-где еще уцелели, сойдут в могилу, бревна попилят на дрова да сожгут. Все имеет свой конец...
Когда-то учительница биологии рассказывала, что люди, когда совсем состарятся, воспринимают смерть как естественный процесс и он не приносит ни страха ни боли. Интересно, откуда она это вычитала? Может быть, все и правда так.
Дважды в своей жизни он был близок к смерти, а страха в те моменты, кажется, не испытывал. Помнится, болел крупозным воспалением легких и в беспамятстве пролежал почти две недели. И вот однажды, когда бред прошел и он очнулся, то услышал, как медбрат говорил уборщице, видимо, о нем: «Парень вряд ли вытянет — уж больно плох». Кажется, странно, а его это не испугало. Видимо, организм был настолько слаб, что не ¬оставалось ресурсов на то, чтобы думать о всякой ерунде, жалеть себя или панику устраивать; надо было бороться с болезнью — насмерть. Мысли, конечно, лезли в голову, но без паники, Федор лежал тогда и размышлял: неужели он умрет и не доносит свои еще совсем новые ботинки и японскую курточку, которую ему подарил отец? И неужели Семен Павлович, вредный старик, который жил в их подъезде и как-то еще в детстве надрал Федору уши, будет жить, а Федора не будет на этом свете? А потом он видел сон и во сне свои похороны и даже гроб. Видел, как к нему приходят друзья и говорят о нем, кладут на его гроб цветы и почему-то пальмовые ветки. Почему пальмовые ветки и где они могли их взять?
Выжил Федор по случайности, а может быть, потому, что врач его оказалась удивительным человеком, редкой женщиной, которая отнеслась к нему как к сыну, задерживалась допоздна у его кровати, приносила из дома отвары из трав, беседовала на отвлеченные темы. Это она ему говорила, что пациента, которого удалось вытащить с того света, начинаешь воспринимать почти как родного. А еще она сказала ему, что он напоминает ей нестеровского послушника. Интересно, кого бы он ей теперь напомнил?
Федор услышал шум электричек и понял, что мимо деревушки как раз выйдет к станции. Он шел, слушал, как ломается под ногами лед, примечал по сторонам то засыпанный снегом стог, то вросший в снег полуразвалившийся трактор и думал: «Остался тут еще кто-нибудь из молодежи или все разъехались? А что делают жители этой деревеньки, есть ли здесь какой колхоз или как они теперь называются?» И от мыслей об этой деревеньке вновь возвращался к себе. Почему же он не уехал из страны, когда был моложе на десять лет, когда мог уехать в Штаты, продолжить работу над диссертацией. Что, любовь к Родине не пускала, тоска вот по такой деревеньке?
А что такое — любовь к Родине? Раньше ясно было: перебежал — изменил, предал. А теперь? Теперь говорят: «Человек должен жить там, где он может реализоваться. Человек родился на Земле и он, прежде всего, гражданин мира». Любопытно, у тех, кто уезжает из России в наши дни, тоска остается или быстро проходит? Федор шел и задавал себе все новые и новые вопросы. И вообще, осталось у нас сегодня такое понятие, как любовь к Родине? А может быть, это, как любая другая форма любви, одним дано, другим — нет? Одним дано это чувство — любить что-либо вне больше себя самого, а другим нет. У этих последних больше развито себялюбие. И говорить о логике здесь вообще неправильно. Он ее бьет, деньги пропивает, а она ему детей рожает, верна до дурости. Везет весь дом на себе, да еще и счастлива, потому что любит. А лиши ее этого «сокола» — так еще от тоски руки на себя наложит. Это, что ли, идеал любви? Не идеал, конечно, рассуждал Федор почти вслух. А что-то в этом есть. Может быть, бестолковая любовь нас в людях привлекает больше логичного эгоизма. А может быть, это наш эгоизм: всем хочется подсознательно, чтобы была такая рядом.
Ну разве не логично уехать в страну, где тебе будет лучше? Уехать туда, где можно найти работу творческую, интересную, и не в какой-то отвлеченной области, а в той, в которой ты больше десяти лет учился. В той, в которой мог себя чувствовать уверенно на своем месте, заниматься наукой. И разве важно, где будут использованы результаты твоих исследований? Где будут считать по твоим формулам?
«И строить подводные лодки с ядерными боеголовками», — тут же включался его внутренний оппонент, не давая прерваться диалогу. А что значит «логично»? Поменять старую больную жену на молодую красивую. Или мужа бедного на богатого, что, в принципе, сплошь и рядом делают. «Правомерна ли здесь аналогия? Или ты себя успокаиваешь, оправдываешь?» — задавал себе в очередной раз вопросы Федор. Никуда не уехал, потому что Родину любил. Дела своего не создал, потому что воровать да с бандитами отношений иметь не хотел. Загубил в себе таланты. А были ли таланты?
Вспомнилась история, которую как-то рассказала ему жена. Ребенок родился с тяжелой формой болезни Дауна. Родители попались — настоящие люди: не бросили, посвятили сыну все свое время, делали массаж, разговаривали, стучались к внутреннему миру малыша через непробиваемую оболочку. И вот через несколько лет ребенок начал рисовать, и на бумагу стал выливаться этот внутренний мир, и в нем была видна красота, талант. Чудо! Рассказ жены ему бы не запомнился, если бы не последняя брошенная ей фраза: «Как все-таки часто, имея все возможности для самовыражения, человеку не удается выразить ничего! И напротив, иногда талант пробивается там, где, казалось, это невозможно изначально».
Глава 11. Бегство
Дорога кончилась, и Федору пришлось идти через заснеженное поле. Наст оказался таким прочным, что не проваливался. Небо, черное над ним, у горизонта подсвечивалось огнями Москвы.
Может быть, надо было плюнуть на все, на деньги, выложиться и все-таки найти свое предназначение, самореализоваться так, чтобы сделать что-то достойное.
Федор шел, страдал и одновременно ораторствовал про себя на лоне природы: «Скоро сорок лет, а в голове одни вопросы!» Ему явно не хватало попутчицы, а то бы все это он высказал вслух, еще более красиво и жалостно. Даже отрывок из услышанного в юности стихотворения всплыл в голове:
Ночной вокзал, мальчишеская дрожь,
Еще весь мир неведомо хорош,
Уже пора готовиться к ответам,
А ты еще вопросы задаешь...
Как там чеховский герой кричал: «Мне скоро сорок лет! В мои года Лермонтов уже семь лет, как лежал в могиле...»? Так, кажется, если не переврал, — вспоминал Федор. Все казалось: впереди что-то важное маячит. А вот, похоже, помаячило и перестало. Нет, наверное, признаться себе в этом до конца он не мог. Казалось, что отыщется какой-то особый смысл его существования. «Для чего человек в этот мир появляется? — декламировал почти вслух Федор, наслаждаясь чуть уловимым запахом от дальнего костерка или печного дыма. — Для счастья, как птица для полета». А что такое счастье? Может быть, это когда что-то впервые с тобой происходит. Первый раз на двухколесный велосипед сел, первую девушку поцеловал, женился... Если так, то, видимо, счастье — это что-то такое, что было в прошлом. А может быть, наоборот, это долгожданный результат: когда видишь, как выходит из типографии твоя книга, ставишь последний мазок на картине. Или счастье — это когда приближаешь светлое будущее своего великого народа, как нам раньше объясняли?
Вот жена ему сегодня сказала, что он эгоист. И ведь не первый раз. Разве это справедливо? А вообще, разве может нормальный человек не быть эгоистом?
Как-то он даже друга своего спросил, не считает ли тот его эгоистом. А друг отвечает: слава богу, что эгоист, а то только бы и бегал за своей женой и спрашивал, что бы тебе еще такое сделать, как ублажить.
С другой стороны, говорят: самому любить — гораздо большее счастье, чем быть любимым. Вот это, видимо, не эгоист придумал. Или, например, Пушкин написал: «Как дай вам бог любимой быть другим», а Высоцкий в своем каком-то стихотворении говорит, что, мол, просто надоела она, видать, Пушкину. Как-то у Высоцкого не совсем так написано было, но смысл вроде этот. А Отелло? Он как: эгоист или просто очень сильно любит? Интересно, эгоист может быть хорошим человеком?
И что это такое — хороший человек? На уроке по литературе учительница говорила, что суть человека раскрывается в критическую минуту. Они еще сочинение писали «Морозка и Мечик». Мечик выходил по роману предатель, а Морозка — герой. Вроде все так и выяснилось в критическую минуту.
Еще тогда в школе Федор хотел спросить, а до критической минуты эти самые Морозка и Мечик кто такие были? И что бы с ними произошло, если бы разгрома так и не случилось? Морозка вполне мог по статье пойти за то, что арбузы с баштана воровал. А если бы у эгоиста Мечика талант открылся или он бы осчастливил человечество научным открытием? Как тогда? Можно, конечно, судить людей по поступкам, и тогда видно, где черное, где белое, как в Библии написано: судите их по делам их. А можно искать в поступках мотивацию. Не украл, потому что струсил. Не убил, потому что кишка тонка. Работал много, потому что хотел выслужиться. Жене не изменял, потому что не с кем. Детям помогал — боялся в старости одиноким остаться. А еще говорят, что можно быть гением и при этом подлецом. Когда-то у Федора был в голове порядок. В лекциях по марксизму-ленинизму все было просто и ясно! (Материя первична, сознание вторично, пролетариат — передовой класс.) А как искренне он когда-то радовался, что родился в Совет¬ском Союзе, где у детей самое счастливое детство и самая великая Родина. А тут помогал детям уроки учить, они проходили «Белеет парус одинокий», и с сыном такой диалог странный состоялся. Федор ему говорит:
— Они были хорошие люди: бедные и честные.
— А что, бедные — хорошие, а богатые — плохие?
— Да, нас, по крайней мере, именно так учили. А вас?
— А у нас целый месяц истории не было, потому что учительницу выгнали за то, что она матом ругалась.
— Ну и что, другую взяли?
— Нет, ту же самую, обратно.
Да, многое изменилось. Слышал Федор, что и в его время учителя разные бывали. Припоминал разговоры, что, мол, чья-то мамаша принесла для учительницы вазочку, а в вазочке — платочек, чтобы сыну четверку натянули. Аттестат нужен был хороший, чтобы чадо в институт балл лишний добрало. Но чтобы матом! На уроке по истории! В школе! А мог ли он поверить десять лет назад, что народ будет спокойно смотреть передачи про то, что Ленин был подлецом, и Сталин подлецом, а Николай Второй — мучеником. Что же это за народ, который на сто восемьдесят градусов свои принципы меняет? Ведь до абсурда дело доходит: черное стало белым, а белое — черным. Значит, за день поменять принципы нельзя, за неделю — тоже, а за пять лет — пожалуйста. Неужели вся наша последняя история — это цепь роковых ошибок? Как же мы умудрились свести историю революции и гражданской войны к милой шутке о том, что «наши отцы в свое время пролили кровь наших дедов, и теперь тот, кто был никем, тот стал ничем»? Не возникает ли чувства абсурдности, отсутствия смысла нашего существования?
А как быть с тем, что со словами «За Родину! За Сталина!» полегло столько русских людей?
От таких вопросов Федору становилось как-то не по себе. А как быть с тем, что с распадом страны тысячи русских оказались в других странах и вынуждены страдать за то, что они русские? А некоторые даже предстали перед судом за то, что когда-то пособничали советской власти устанавливать ее законы. Тогда это называлось законом, теперь — беззаконием. Как же он объяснит своим детям, как нужно жить, кем гордиться? Петром Первым, который на крестьянских костях страну поднимал, или Сталиным, который опять на костях страну перекраивал, или теми, кто эту самую страну развалить позволил?
Федор вышел наконец на платформу. Смотрел, как на запасном пути тарахтит маневровый тепловозик, а в нем сидят два машиниста, и из их кабины светит уютный, уютный желтый свет. От этого маленького мирка веет запахом солярки и полночным дружеским мужским разговором, с алюминиевой битой кружкой на двоих. По платформе веет поземка. Снежок мельтешит, кружится. И вот, откуда ни возьмись, появляется поезд дальнего следования — как из другого мира. И, конечно, он здесь не остановится. Федору поезд видно хорошо, а его самого из поезда и разглядеть-то некогда: промелькнет окно, и уже — другое. Как бы он хотел оказаться сейчас в этом поезде, проезжать, как когда-то давно, подмосковные полустаночки и платформы, пить чай из граненого стакана в подстаканнике.
Поезд прошел, и стало видно, что на противоположной стороне за это время появились парень с девушкой. Они обнимаются и не чувствуют, как пусто и одиноко на этой станции под таким большим черным небом. Федор стал ходить по платформе, чтобы согреться, дошел до конца, вгляделся в бесконечный набор шпал и вдруг четко вспомнил, как лет пятнадцать назад также ждал электрички, чтобы ехать к своей будущей жене. Ждал, ждал, спрыгнул с платформы и пошел по таким же шпалам к ней! Просто ждать целых полчаса в бездействии он не мог, а идти пешком (почти столько же по времени) было легче. Потому что каждым своим шагом он приближал момент их встречи. Шел, дышал и любил. И радовался остаткам грязного снега, битым стеклам под ногами, от которых отражалось слепящее солнце, радовался островкам сухого дерева на мокрых шпалах, запаху дегтя и пролитого из цистерны мазута, щебетанью воробьев и даже мусору под ногами! Мусор был не помоечно-пластиковый, а здоровый, как в детстве: битый кирпич, стружка, ржавые гвозди. И Федору так захотелось идти опять по таким же шпалам туда, в то время, где его ждала жена, в ту старую малюсенькую квартирку, где у них было на кухне полстены, к которой они прислонялись, когда соседи уходили в свои комнаты, и целовались, пока в коридоре не раздавался шорох. Идти к тому самому дому, где его жена, такая молодая, ходит по квартире, то и дело смотрит на часы, выглядывает во двор, прислушивается к шуму на лестнице и не пускает громко воду в ванну, полную пеленок, чтобы не прослушать, когда зазвонит телефон. Он встал на эти шпалы и пошел. Странная вещь: интересно, кто придумал такие расстояния между шпалами. Они сделаны будто специально, чтобы человек не мог ходить по ним нормальными шагами. Он может либо жутко семенить, делая частые коротенькие шажочки, либо бежать во всю мочь, перепрыгивая шпалы через одну. Федор сначала семенил, потом, проверяя себя, сделал несколько прыжков, поскользнулся, но удержался и побежал так, как уже давно не бегал: яростно, с азартом. Во рту появился привкус крови, а он все бежал. Воздух был морозный, хватал за легкие. Капюшон бил по спине, куртка свистела от резких движений руками.
Федор всего десять минут не дождался на платформе последней электрички. Она подошла, забрала влюбленную пару, закрыла автоматические двери и покатила вперед. Федор не слышал, как его нагнал поезд. Электричка и разогнаться-то толком не успела, ударила Федора в спину. Ощущение было такое же, как однажды в детстве, когда он упал с дерева. Сначала он почувствовал один толчок, не очень сильный — это он ударился о толстый сук, росший на высоте метров двух от земли, потом опять летел, опять ударился и больше уже не летел. Хотел вздохнуть и крикнуть: «Мама!» Но не мог — так перехватило дыхание. А потом все-таки крикнул срывающимся сиплым голосом, вроде не громко, но мать услышала за три дома, или сердце почуяло. Бежала как ненормальная на крик, потом несла его на руках.
В этот раз его тело несли два заспанных железнодорожника, брезгливо перехватывая поудобнее тяжелую ношу так, чтобы не запачкаться кровью.
Время было раннее, город спал, спала жена Федора, его дети, только собака сидела у двери и ждала, когда же вернется хозяин и они, наконец, пойдут во двор, где можно нырнуть мордой в снег, помчаться со всех ног, поваляться, понюхать углы «ракушек», полаять — ощутить жизнь всем своим собачьим сердцем.
2001


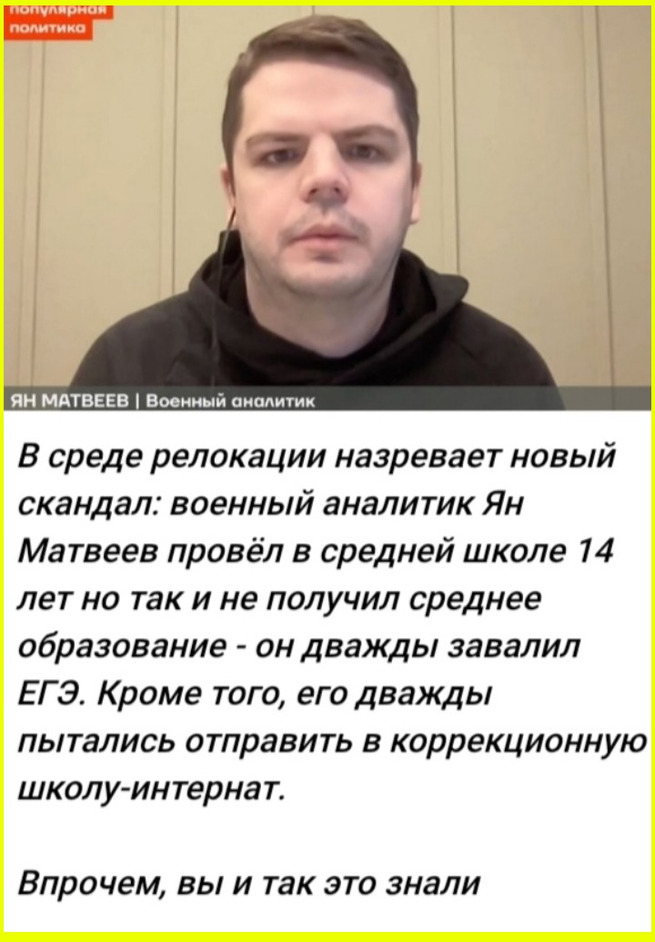

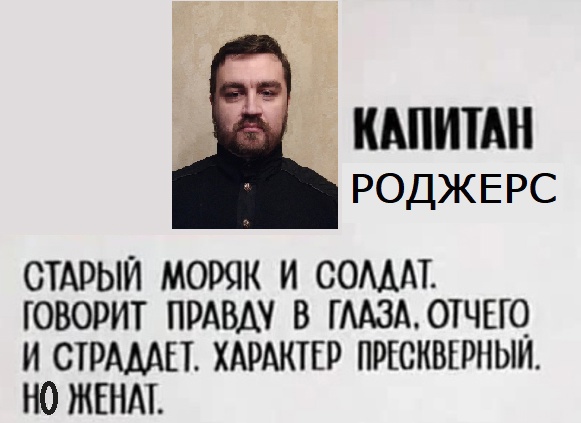
Оценили 0 человек
0 кармы