Класс и элита
Согласно концепции Дриё ла Рошеля, правит не класс, а элита, и верхушка социалистических партий кажется ему наихудшей, так как она эклектична и состоит из представителей всех партий и сословий. Хуже того, ее активными функционерами оказываются чужие – эмигранты и иностранцы, которые также не ценят национальное государство. Все, сказанное Дриё ла Рошелем, в наше время только усилилось. Современное общество утратило классовый характер, и когда говорят, что настоящим классом истории является буржуазия, то это следует понимать так, что буржуазные ценности стали универсальными. Но если нет классов с их реальными жизненными интересами, как это было во времена Маркса, который имел все основания считать свою теорию исторически обоснованной, то и власть становится беспочвенной. Чьи интересы она представляет сегодня, на кого она опирается и чью политику проводит? Очевидно, что сегодня правит тот, кто определяет циркуляцию капитала. Но что такое капитал сегодня? Он ассоциируется с финансовыми потоками, и это дает повод считать, что власть реализуется как их распределение. Но это одна из технологий современной власти, которой в связи с развитием Интернета лишается национальное государство. Ее границы определяются возможностями регулирования финансовых потоков и трудностями сбора налогов. Конечно, пока еще не все продается. Кроме того, люди умеют считать и легко могут убедиться, что, купившись на обещания тех или иных лидеров, они могут потерять большее. Сегодня капитал все больше приобретает символический характер, и деньги вкладываются в то, что помогает занять более высокое положение в социальном пространстве. В конечном итоге это стремление определяется не столько честолюбивым стремлением возвеличить нацию или государство, сколько извлечением личной прибыли из сделанных инвестиций. Современный капитализм становится все более спекулятивным. В русле этой тенденции развивается и власть. Она уже больше не представляет интересы труда или производства, нации или государства, а репрезентирует исключительно саму себя. Власть ради власти, чистое желание – вот, что выполняет роль либидо у современных политиков, называющихся демократическими лидерами. Конечно, государство еще существует, но оно стало политической фикцией и поддерживается исключительно символически. Сегодня власть опирается на масс-медиа, их спектакулярный характер стал очевидным. На экране появляется новый лидер с уверенным лицом и убедительным голосом. Он говорит, что за ним сила электората, и смело раздает обещания. Однако спектакль должен быть интересным, игра требует постоянных перемен, ибо без этого она перестает быть азартной. На смену старому игроку приходит новый. А что же прежний, за которым якобы стоят массы? Почему они не защищают представителя своих интересов? На самом деле он никого, кроме самого себя, и не представлял. Дриё ла Рошелю это кажется невозможным. Он думает, что фашизм остановит эту деградацию власти, которая превращается в политическое шоу, и вернет человеческие ценности и, прежде всего, мужество, смелость, отвагу в защите нации, рода, семьи. Но на самом деле процесс изменения общества необратим. Наш автор с горечью констатирует победу бюрократии у фашистов и коммунистов и отмечает, что они не столько опираются на жизненные интересы людей, сколько прибегают к массовым спектаклям с целью симуляции желаний толпы.
Поскольку власть давно уже вступила на путь симуляции и уже не опирается на реальные интересы нации, которая, по сути, превращена в толпу, постольку призыв к революции, направленной на ее спасение, кажется оправданным. Так можно оправдать и современные националистические движения. Но не следует торопиться. Следует ответственно и осторожно относиться не только к демократии, но и к фашизму. Да, демократия в эпоху масс-медиа имеет серьезные недостатки. Но не станет ли фашизм также жертвой современной технологии власти? Не является ли он сегодня лишь частью грандиозного политического спектакля? В главе «Пацифисты по убеждениям» Дриё ла Рошель еще не просчитывает такую возможность. Мы восхищаемся теми, кто нашел силы для протеста. Но на самом деле этот протест необходим для оправдания существования власти. Если бы не было фашистов, коммунистов, бородатых анархистов и террористов, то как бы власть могла требовать от общественности своего признания? Она как бы говорит: если вы не хотите террора, то должны терпеть усиление власти.
Бердяев и Дриё ла Рошель отвергают Марксову теорию классов. Однако трудно отрицать, что она отражает некоторые объективные структуры. Этим марксистская критика буржуазного общества отличается от современной критической теории, для которой трудно найти объективные основания. Современная власть «гуманизировалась», стала стерильной, незаметной. И вместе с тем она вызывает какой-то смутный протест. Наша ситуация радикально отличается от ситуации, в которой оказались интеллектуалы девятнадцатого столетия. Мы уже не можем доверять даже собственному чувству протеста против современного порядка. Поскольку он не выстроился перед нами так сказать фронтально, а окружает нас спереди, сзади, сбоку, снаружи и внутри, то мы уже не можем доверять даже чувству справедливости, которое в прежние времена служило стимулом социальных движений. Марксистская теория борьбы двух классов сегодня кажется слишком упрощенным объяснением развития общества, и нам трудно не согласиться с критикой ее Дриё ла Рошелем. По его мнению, классы, если они и существуют, то действуют в истории через своих представителей, которые образуют элиту. При этом элита феодального общества, конечно, отличается от буржуазной элиты, но вовсе не классовым чувством, а, скорее, технологией власти и управления. Если элита военизированного общества (рыцари) действовала силой оружия и культивировала отвагу и смелость, честность и верность, то уже придворное общество использует больше интригу, а средством продвижения наверх выбирает хорошие манеры, правильную речь, учтивость, этикет. Буржуазное общество подхватывает способность к самодисциплине и сдержанности и соединяет это с экономическим расчетом. Оно как раз и выступало объектом критики у Маркса, который был далек от сведения классов только к самосознанию. В своих работах он описывает рабочий класс и буржуазию в аспекте телесности и духовности, но определяющую роль отводит классовому сознанию. И это не ошибка, ибо Маркс жил во времена поляризации и борьбы этих классов, «растворение» которых произошло гораздо позже, когда профсоюзная и партийная элита свела технологию власти к манипуляции массами. Огромную роль стало играть формирование общественного мнения. Этот бог буржуазной политологии, к которому апеллируют средства массовой информации, еженедельно публикующие уровень популярности того или иного политика, на самом деле является не чем иным, как продуктом масс-медиа, которые давно определяются как «четвертая власть». Об этом нельзя забывать тем, кто живет в демократическом обществе. На самом деле их свобода во многом иллюзорная, так как выбор, который осуществляют избиратели, трудно назвать свободным. Ведь он уже задан наперед, ибо разница между двумя или более кандидатами, претендующими на власть, чаще всего совершенно неуловима. Трудно возразить относительно растворения рабочего класса. Он, так сказать, не дан, а задан. Лидеры рабочего движения, по Марксу, свои основные усилия должны были потратить не на борьбу между собою за власть, а на воспитание и просвещение народа, на формирование классового самосознания, т. е. на превращение «класса на бумаге» в реальный класс. Однако этого не произошло, и сегодня влияние рабочего движения на политику совершенно ничтожно. Дриё ла Рошель прав: крестьяне, связанные с землей, гораздо более активно отстаивали свои ценности, чем люмпенизированное городское население, жаждущее лишь хлеба и зрелищ. Нельзя не видеть и деградацию господствующего класса. Когда-то Ницше, наблюдая измельчание и даже вырождение людей в буржуазном обществе, грезил о расе господ, о художественном синтезе Цезаря и Наполеона, т. е. о сильной, справедливой и честной власти, которая не скрывает насилия, а применяет его там, где нужно и настолько, насколько может. Однако он вскоре разочаровался в эстетическом подходе к истории, и его «сверхчеловек» описывается в отрывке «Европейский нигилизм», помещенном в «Воле к власти», как самое умеренное существо. Ницшеанские идеи, подхваченные будь то фашистами, будь то радикально настроенными интеллектуалами типа Батайя, Беньямина или Дриё ла Рошеля, имели компенсаторный характер, и интерес к ним, в сущности, означал, что эпоха сильной и открытой власти уже миновала.
Сегодня буржуазия и даже ее элита вовсе не ощущают себя господами. Институт советников и экспертов исключает вождей, которые могут принимать решения в условиях, когда никто не знает, что делать. Рациональная теория решений обнаруживает, что формой власти становится знание. Это снижает пафос интеллектуалов, которые считали своим долгом разоблачение и критику власти. На самом деле сегодня именно они производят власть и диктуют выбор людей, определяя его наличными экономическими и техническими возможностями. Теперь не наука и техника служат нам, как во времена пионеров науки, а мы им. Сложившиеся социальные машины и технологии требуют от человека соответствующих качеств и, прежде всего, экономического расчета и самодисциплины. Господствующий класс, включая как капиталистов, так и управленцев, уже невозможно представлять как фигуры с большими животами на плакатах времен революции. Они сами являются функционерами, обеспечивающими циркуляцию капитала. Если в классических обществах резко разделялись рабы и свободные, то сегодня нет человека, который бы не был оплетен сетью зависимостей спереди, сзади, сбоку и за спиной.
В этих условиях грезить о фашизме как болезненном, но необходимом средстве оздоровления общества, которое утратило связи со всеми реальными основаниями, было бы наивным. Но фашизм существует, и на это нельзя закрывать глаза. Как же он возможен в таком виртуальном обществе, как наше? Что это за фашизм? Очевидно, его нельзя мыслить как чудом сохранившихся микробов прошлого. Это новые вирусы, которые порождаются нашим обществом и нужны либо для его сохранения, либо окончательного разрушения. Вот важный вопрос.
Свобода и опыт протеста
Есть книги о себе и о других. Первые оказываются красивыми, но жестокими, а вторые нравственно совершенными, но наивными. Книги о самореализации часто остаются глухими к бедствиям других людей, а моральные книги, напротив, говорят о сострадании. Витгенштейн поразил тем, что поставил вопрос о том, как возможна книга об этике. Он понимал все книги как книги об истине и полагал, что этическое невыразимо. Современное понимание истины, таким образом, связано с индивидуализмом. Автономный индивид уже не переживает сострадания и не связан с другими опытом страдания. Он опирается на собственное самосознание и пытается обосновать истинность своих притязаний. Витгенштейн совершенно прав в том, что истина не имеет никакого отношения к этике. Это упрек современному обществу, которое решает этические вопросы на основе истины. Истина – вот что соединит и свяжет людей сильнее, чем христианский опыт сострадания.
Осознание недостаточности и даже репрессивности классического понимания свободы приводит к игре с опытом эксцесса. Свобода видится уже не в принятии разумной идеи и разумной действительности, а в спонтанности. Однако метафизика экстаза опирается на некритическое понимание спонтанной чувственности. Н. Элиас раскрыл цивилизационный процесс как рационализацию сферы эмоционального. Таким образом, сегодня чувственность не является последним бастионом свободы на территории, оккупированной разумом и моралью. Она давно уже рационализирована и подчинена экономии. Этот аргумент касается и концепции М. М. Бахтина, который в своей работе о Ф. Рабле пытался показать, что спонтанные проявления телесности являются наиболее эффективной формой отрицания существующего порядка. Конечно, обжорство и пьянство, грубая речь и анекдоты противоположны умеренности, изысканности и порядку речи и поведения благородных сословий. Но попытка отрицания сложившегося порядка путем возврата к телесному вряд ли эффективна. Свобода не позади, а впереди, и отрицание филистерства скорее можно видеть в новых формах жизни, которые пытается вводить молодежь. Надежды на спонтанную чувственность не оправдались. Порядок устанавливается ни на основе обмана, ни на основе подавления телесности, а тем, что каждая культура производит, кроме корпуса идей, еще и нужный ей тип тела, т. е. она не обманывает, а делает людей такими, какие ей нужны. Если кто-то не соответствует стандартному поведению, он подвергается тестированию и лечению. Именно против этого порядка и восстает стратегия эмансипации, предлагаемая постмодернизмом. Кажется, что все уже перепробовано. Новые направления поисков пришли неожиданно, откуда не ждали. Толстой и Достоевский, завоевавшие популярность на западе русские писатели, в своих сочинениях смоделировали несколько оригинальных типов, которые, казалось, продолжали череду русских героев – «лишних людей» – нигилистов, экстремистов и т. п. Однако появилось нечто новое. Герои Достоевского являются психически неуравновешенными и даже больными, а герои Толстого – одинокими и отчаявшимися перед лицом смерти людьми. Русский философ Шестов построил на их опыте сознания свою критику феноменологии Э. Гуссерля, которая первоначально не была серьезно воспринята. Когда работа Шестова оказалась уже забытой, постмодернистские философы во Франции выдвинули неожиданный проект эмансипации, основанный на «ускользании» от нормального. Стать алкоголиком, наркоманом, гомосексуалистом – разве это не самое страшное? Можно думать, что этим предложением философы пытаются легитимировать свои пороки. Но это облегченный способ критики.
Если вдуматься, то наше сегодняшнее положение по части прав и свобод оказывается просто плачевным. Да, нет надсмотрщиков и тайной полиции, нет инквизиции и концентрационных лагерей. Общество становится все более либеральным и гуманным. Но нет оснований для оптимизма. Старые границы порядка и хаоса сохраняются на уровне обыденного общения и, более того, подкрепляются авторитетными инстанциями. Возможно, мы попадаем в худшее рабство, когда подчиняемся метафизическим или моральным абсолютным ценностям. Дистанцирование от морализма – не только опасный, но и отрадный признак. Это значит, что репрессивное давление со стороны власти изменилось настолько, что мы сегодня говорим о принуждении уже не в терминах насилия и даже права, а в терминах ценностей. Никто же не заставляет и не принуждает. Мы так образованы, что если и не в жизни, то по крайней мере в мысли давно уже руководствуемся метафизическими сущностями. Даже тот, кто ведет аморальный или нефилософский, неакадемический образ жизни, все-таки с кафедры пропагандирует вечные ценности. Поэтому проблема видится в двуличии людей или, как раньше, в их слабости, в несвободе, рабстве воли, которая погрязла в пороках. Но эти «пороки» все-таки не затрагивают наши разум и мораль. Там мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Но не так ли обстоит дело, что сама граница между ними предполагает, что в своей жизни мы будем ее пересекать и ужасно страдать от этого? Не в том ли состоит власть морали, что именно она, отделяя плохое от хорошего, тем самым производит и зло? Как относиться к столь противоречивым и двойственным характеристикам морали? А главное, каким образом избежать унылой борьбы, которая с переменным успехом ведется между сторонниками позитивного или негативного?
Предметом внимания должны стать, прежде всего, функция дифференциации и границы. Их назначение состоит в разделении человеческого и нечеловеческого, дозволенного и недозволенного. Поэтому попытка самоопределиться относительно богов и животных имела конституирующее значение для установления антропологических констант. Отрицание, протест и самоограничение таятся в сути любой дифференциации и определения. Проводя линию между человеческим и нечеловеческим, живым и мертвым, природным и культурным, различая добро и зло, истину и ложь, человек утверждает позитивное и отрицает запретное. Недаром изначально бинарные оппозиции имели сакральное значение. Опираясь на идею разума, человек отрицает слепую волю. Исходя из идеи души, он подавляет телесность. Благодаря культурности отвергается природная дикость. Однако на деле в истории не происходит восстановления равновесия или абстрактной справедливости. Во-первых, ни разум, ни другая, считающаяся позитивной инстанция не являются чисто репрессивными. Напротив, на заре своего становления рациональность выступала как сила освобождения от власти диких неокультуренных влечений и инстинктов. Во-вторых, она не только исключала, но и стимулировала становление инорационального. В-третьих, преодоление одной дифференциации, как правило, приводит к другой, более эффективной, чем прежняя. Страх перед возвратом того, что было в упорной борьбе покорено разумом, вероятно, и объясняет осторожность в отношении признания инновационной роли негативного. Однако замалчивать негативное – значит оставлять в тени то обстоятельство, что производство человеческого исключительно на основе утверждения высоких ценностей не вполне удалось.
О какой власти и о каком принуждении может идти речь сегодня, и как ощущается их давление? Кажется, что они измельчали сегодня, когда авторитетные органы не вытаскивают по ночам из квартир абсолютно невиновных граждан и не предают их зверским пыткам с целью запугать остальных. Сегодня человек попадает в моральную блокаду за отступление от общественных норм, но это все-таки несоизмеримо с изоляцией в тюрьмах и лагерях. Поэтому, говоря об измельчении как власти, так и форм протеста, нельзя забывать о том, что они переместились как бы внутрь самого человека, поведение которого регулируется искусственной системой понятий, ценностей, потребностей и желаний.
Технология власти в современном обществе настолько модифицировалась, что по началу кажется исключительно советующей и рекомендующей. Институты советников и консультантов, терапевтов и психологов, специалистов по обстановке жилья, организации отдыха, разного рода страховки, учитывающие профессиональный риск и опасности на улице, – все это образует плотную сеть, исключающую свободу. Поэтому сегодня протест принимает странные формы: люди время от времени начинают протестовать против врачей, навязывающих дорогостоящие методы лечения, против педагогов, воспитывающих детей, против всякого рода специалистов по здоровому образу жизни, навязывающих непрерывную борьбу с собой в форме диеты и тренировок. С одной стороны, все эти специалисты стремятся гарантировать сохранение важнейших жизненных ценностей – здоровья, права, образования, работы, жилья и т. п., а с другой стороны, все эти знания окончательно отнимают возможность самостоятельных решений и выбора своей судьбы.
Жизнь, которая выглядела в наставлениях мудрецов как опасное, но все-таки не безнадежное предприятие, если твердо придерживаться главных рациональных, моральных и психологических принципов, теперь выступает как сложнейший процесс, сопоставимый с конвейером гигантского завода, который обслуживают тысячи рабочих и специалистов. Человек в одиночку уже не может сегодня эффективно организовать свою собственную жизнь и попадает под власть рекламы и разного рода агентств, обслуживающих население. Раньше свобода достигалась на не подлежащей сомнению и отрицанию основе. Человек почитал родителей, любил родину и оставался верен традициям. Он считал себя частью природы и примирялся с фактом своего рождения в том или ином качестве, а также с болезнями и неизбежностью смерти. Сегодня медицина предпринимает решительное наступление на болезни, разрешает возможность эвтаназии, а также позволяет планировать рождаемость, допускает выбор пола, пересадку органов и даже манипулирует генетическим наследством. Разумеется, все эти возможности выбора телесных и интеллектуальных качеств не преодолевают заданности человеческого существования, однако о ней уже не говорится как о судьбе. В каком-то смысле это опыт восстания против того, что прежде считалось неизбежным, но одновременно это и опыт закабаления человека системой новых правил и предписаний.
История цивилизации – это история ограничений и запретов. Человек на протяжении всей истории боролся со своими страстями и желаниями, выступал против слабостей плоти и себялюбия. Господство над самим собой – таково первое и главное требование гуманистической философии. М. М. Бахтин показал, что еще на заре европейской культуры разного рода запреты и ограничения хотя бы раз в году во время праздников и карнавалов отменялись. По мнению Ж. Батая, в этом протесте против традиций и норм, регулирующих порядок, и проявлялась суверенность человека, разрывающая цепи обмена актами траты. Однако стратегии карнавала Бахтина или траты Батая – все это, скорее, современные формы компенсации или протеста, чем отражение реалий прошлого. Нам трудно понять древних с их ограничениями и усилиями, направленными на сохранение социума. Современный человек остается социальным и культурным существом, не прилагая для этого титанических сдерживающих усилий. Угрозы и запреты, внешнее принуждение и насилие постепенно трансформировались в самоконтроль и самодисциплину. Но и эта система морального долга и внутренней цензуры сегодня стала стремительно разрушаться. Причиной тому является не некий таинственный нигилизм или падение нравов, а изменение порядка повседневности.
Аскетизм, самоотречение, солидарность, альтруизм, экономия и ограничение потребления сегодня являются устаревшими добродетелями, так как современный порядок строится на основе не экономии, а траты. Отсюда необходимо скорректировать мысль Батая, согласно которой трата выступает эффективной формой протеста против современного порядка, основанного на обмене. На самом деле современное общество потребления уже не ограничивает, а управляет потребностями. Расчет и дальновидность, предусмотрительность и осторожность перестали культивироваться на индивидуальном уровне и уже не составляют основу человеческого этоса. Реклама, а также разного рода советы и рекомендации, касающиеся здорового образа жизни, вся система жизнеобеспечения мягко и ненавязчиво, но надежно и всесторонне опутывают человека своими сетями. Человек не должен ограничивать себя и бороться со своими желаниями, он должен их удовлетворять. Другое дело, что сами эти желания искусственно заданы, и поэтому их исполнение не только разрушает, а наоборот, укрепляет систему порядка. Поэтому, говоря о современных формах протеста, приходится признать, что сегодня отрицанию человек подвергает самого себя, а не Природу, Бога, Государство или Метафизику.
Истоки опыта свободы, с которым дискутируют современные мыслители, приводят к культивированию способности сдерживать свои желания, экономить, рассчитывать, откладывать, а не тратить. Наоборот, современные немецкие философы проводят различие между моралью и этикой, между запретительной и разрешительной стратегиями жизни. Французские авторы еще более радикально разрывают с моралью расчета и экономии. Сегодня в условиях перепроизводства власть не запрещает, не сдерживает, а стимулирует желания и управляет ими. Но современная симуляция желаний не имеет ничего общего с экстазом, чрезмерностью, тратой, которые приписываются первобытным людям. Наше общество поставило своей целью выживание и адаптацию. В древности люди не были столь расчетливы и предусмотрительны; признавая бренность и краткость жизни, они умели наслаждаться ею. Конечно, представление об экстатической жизни в прошлом во многом является романтическим мифом. Однако его критическая функция не подлежит сомнению: наша жизнь, рассчитанная по минутам, посвященная серьезному делу, разве она, по большому счету, не потрачена нами впустую? Недостаточность современной программы свободы в том, что она лишена души. Дело не в том, что в ней нет морали или эстетики. Наоборот, моральные и эстетические ценности там присутствуют, но как засушенные энтомологом насекомые. Конечно, для объяснения динамики культуры вовсе не обязательна мистификация дионисийско-фаустовского начала, но культурология не может ограничиться синергетикой или деятельностным подходом, так как должна принять во внимание внутренние человеческие мотивы развития культуры. Не только изначальное метафизическое стремление или активный жизненный порыв к свободе, но и подчинение моральным ценностям, готовность следовать долгу, а также страдание и боль определяют динамику общества. Пассивное претерпевание боли и страдания духа и тела, «стоицизм», оказывается не менее важными, чем пассионарность. Так называемая духовность, которая должна приниматься во внимание представителями наук, имеющими дело не с вещью, а с человеком, состоит, скорее, в пассивном, чем в активном опыте. Только человек способен страдать и жертвовать собою, причем не только для защиты своих детей, это встречается и у животных. Человеческая склонность к самопожертвованию имеет какой-то иной, не связанный с инстинктом выживания рода источник. Уже в ветхозаветной легенде о грехопадении поражает нерациональность и даже неморальность «первородного греха». Вероятно, смысл ее состоит в том, что она представляет собой рассказ о несовершенстве человека. В истории культуры можно выявить серию таких мифов, свидетельствующих о том, что люди развивали представления не только о собственном совершенстве и величии, но и о собственном несовершенстве. Иногда думают, что история греховности закончилась вместе с секуляризацией. Но на самом деле современные психологи и социологи пишут об «одиночестве в толпе». Автономные индивиды – жители современных мегаполисов – испытывают ужасное одиночество и жаждут, но не находят любви.
Желание контакта особенно ясно обозначилось в литературе девятнадцатого столетия, которая описывает поиски новых форм общения. Эротические переживания, как видно из романа Флобера «Госпожа Бовари», находят новые обличья, не сводимые к супружеству, и занимают всю жизнь человека. Любовь все более странная и даже перверсивная становится навязчивым состоянием наших современников. Конечно, это можно объяснить интенсификацией эротизма с целью управления поведением людей. Но несомненно, что эти переживания, по сути дела, заняли нишу духовного опыта, освободившуюся после «смерти Бога». Сегодня противоречивая связь человека и городской среды описывается языками психо- и шизоанализа. Жители мегаполисов остро переживают свою неукорененность и ищут новые формы контактов. Но как возможно самосохранение и душевное равновесие в условиях отрыва от почвы и культурных традиций? Как возможно единство общества, если тела индивидов уже не испытывают сочувствия и сострадания, благодаря которым тысячелетиями держалась коллективная жизнь людей? Античное общество выработало свои ритуалы, обеспечивающие единство полиса и гражданина. Христианство предложило новый тип общности на основе терпимости и сострадания. В России после октябрьской революции большевики стремились создать взамен христианских храмов новые общественные пространства, где единство людей обеспечивалось идеологией. Было бы недальновидно призывать к реанимации эти ушедшие в прошлое культурные пространства. Даже их воссоздание не гарантирует того, что они не окажутся пустыми. Но если современная цивилизация не мобилизует усилия, направленные на преодоление одиночества и конформизма, то она вновь может оказаться перед необходимостью выбору опыта страдания и боли, как традиционных и надежных способов сборки коллективного тела.
Пока что современные социальные движения ищут формы реализации единства людей в другом направлении, а теоретики спорят о диалектике индивидуального и общего, части и целого. Однако поиски единства и целостности общества, исходя из абсолютизации человека, очевидно, являются тупиковыми. Современные межиндивидуальные и межэтнические конфликты обнаруживают несовершенство современного понимания свободы. Что же можно противопоставить духовному опыту разукорененности, одиночества и протеста, который обнаруживает несостоятельность наивных надежд на разум и демократию?
В России к этому добавляется подозрение в недееспособности демократии и неизбежности реанимации старых форм единства, основанных на коллективном сострадании. Исполнятся или нет светлые пророчества или, наоборот, мрачные предсказания, во многом зависит от того, какие приватные культурные пространства придут на смену старым коллективным формам жизни. Все-таки наличие небольшого круга людей, демонстрирующих великолепный образ жизни, явно недостаточно для цивилизованного существования остальных. Управление ими мыслится на основе воссоздания православных храмов, где, сопереживая страданиям Христа, люди учатся прощать свои и чужие грехи. Но не окажутся ли пустыми как сами храмы, так и связанные с ними надежды на возрождение коллективного опыта страдания и сострадания? Конечно, как и в других цивилизованных странах, в России есть еще трибуны стадионов и дискотеки для больших масс людей, а для публики – театры и клубы, но пространства для реализации индивидуальной свободы находятся все еще в зародышевом состоянии.



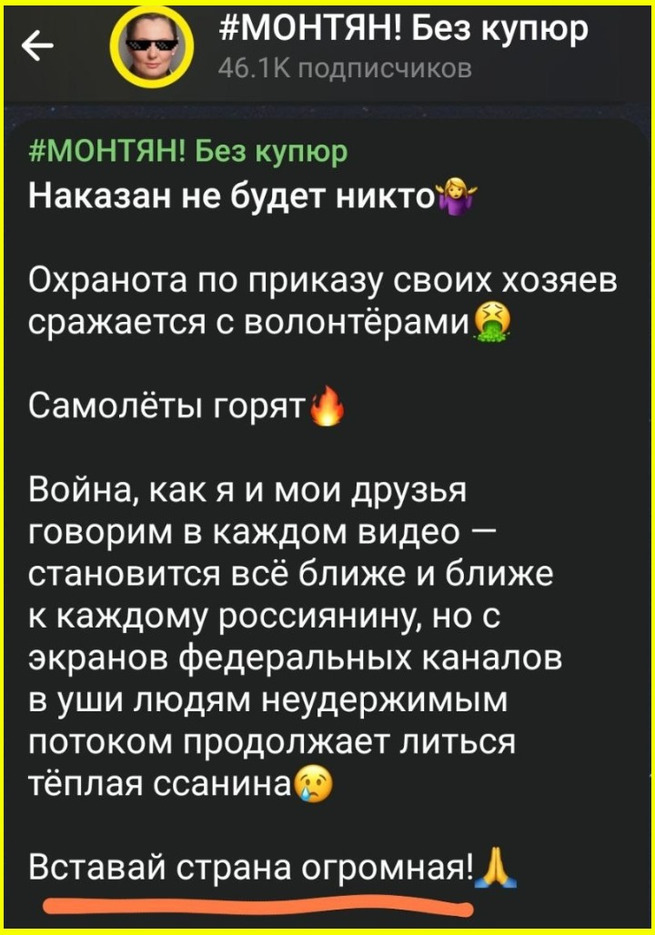

Оценили 0 человек
0 кармы