«КАК ВСЕ!»: ОБИДА ИВАНА БУНИНА.
В 1923 году замечательный мастер русской изящной словесности, Иван Андреевич Бунин поехал в Подмосковье. Эту свою поездку он описал позже, в приморских Альпах, уже удрав навсегда из России, на которую обиделся, как ребёнок, и которую постарался (со всей силой своего недюжинного художественного таланта) изобразить в чёрном цвете. Советская Россия, «Совдепия», вызывает у Бунина буквально рвотное отвращение. Но документ интересен именно тем, что он документ. Он многое расскажет сверх того, что сказал автор, если уметь работать с источниками…
«А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие: в июне я ездил в деревню в провинцию (к одному из моих знакомых)» - зачинает классик русской белой эмиграции.
«…Расстояния в России, опять превратившейся в Московщину, опять стали огромными. Да и нечасто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, у нас всяческих вольностей хоть отбавляй. Но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно.
Словом, случилось нечто необычное, много лет мною не испытанное: в один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне "нестерпимой". Да, она очень противна. И едучи на вокзал на извозчике, вроде тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство!
Сколько торговли с лотков, на всяческих толкучках и "пупках", выражаясь тем подлым языком, который все более входит у нас в моду! Сколько погибших домов! Как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья! На площадях перед вокзалами тоже "пупки", вечная купля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни.
На вокзалах опять есть и буфеты, и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда - не протолпишься: поезда редки, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит дело очень трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами, настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда, с вечера».
Интересно отметить, что Иван Андреевич Бунин со всем снобизмом бывшего барина, с самого начала выражает суть своего «фи» новой власти. Как видим, никто его не убивает и не преследует, он преспокойно себе путешествует (вызывающе оставаясь дворянином), привычно «снимает извозчика» и едет на поезде.
Проблема (для Бунина) в том, что теперь всё это – НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ. Как у всех, так и у него. А раньше было не так, о чём он с ностальгией вспоминает. Раньше весь мир был для 2% таких, как он. Всю грязь жизни вдыхали замурованные (казалось, навеки) в тёмном подвале 98% населения, «без имени, и в общем, без судьбы». Бунины же розы нюхали.
А теперь им до смерти обидно, что их задвинули в общий ряд, уровняли с «быдлом», заставили жить, «как все живут»…
Нравственный человек всегда начинает с фразы - "я не требую себе особых льгот и привилегий", "не прошу себе особых условий" - и это попросту азы нравственности, без которых её просто не бывает. Ибо феномен морали изначально противостоит стремлению строить своё благополучие на трупах и костях, крови и поте других людей. А Бунин, сам того не замечая, начинает с противоположного своё нытьё: хочу особых условий, хочу личных льгот, пусть весь мир сдохнет - лишь бы мне чай пить, и т.п.Бунин, далее: Я приехал за два часа до поезда и чуть было не поплатился за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как (то есть, конечно, за взятку) дело устроилось, я и билет получил, и в вагон попал, и даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва, и пошли давным-давно не виденные мною поля, леса, деревни, где начались опять глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все, набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русый мужик, большой, самоуверенный.
Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел, и меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него. И, не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре: стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек.
Едва узнал его: совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишко, шляпа - нечто ужасное, даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу у ног другой. "Возвращаюсь, говорит, домой, в деревню, там мне дали надел при моем бывшем имении, и я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, к которому вы едете, кормлюсь трудами рук своих, свободное время посвящаю, однако, прежнему своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке..."
Это очень интересный момент в обидах Бунина. И здесь, может быть, ключевой момент исторической истины. Не только враги большевиков, но даже и сами большевики в ухарстве пропаганды любили прихвастнуть, что «всех помещиков перерезали». Они думали, что это прибавляет им крутизны…
Но мы видим другую реальность, описанную, кстати, человеком, люто ненавидящим советскую власть.
Бывшему помещику дали надел при его бывшем имении, то есть уравняли с его бывшими крепостными! Мол, поживи, барин, как мы, одним с нами уделом…
Ну, а если такая жизнь тебе покажется хуже расстрела – не взыщи: твоей милостью мы в ней рождались, жили и умирали много поколений… Если ты считаешь её страшнее смерти – то подумай, как Божий Суд отнесётся к её организаторам и вдохновителям, вам, выродившейся аристократии, бывшим защитникам-меченосцам, ставшим паразитами и кровопийцами…
Никто не заставляет «бывшего богатого человека» жить хуже других. Его просто заставили жить как все, на общих основаниях. Он, в общем-то, и не обижается особо – за него обижается барствующий Бунин…
Живи, как все!
Сквозь тонкую лирику проглядывает оскал упыря старого мира: моё благополучие должно быть куплено любой ценой, даже ценой неизмеримых страданий ближних. «Как все» жить не хочу – буду убивать и сам погибну, но жить «как все», наравне с другими – не соглашусь…
Такой вот Бунин, не осознающий, может быть, сам себя:
…Солнце серебряным диском неслось уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке - и заковылял, заковылял со своими мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари.
А я приехал, куда мне было нужно, уже совсем в сумерки, в одиннадцатом часу. И так как поезд опоздал, то мужик, выезжавший за мной, подождал, подождал, да и отправился восвояси. Что было делать? Ночевать на станции? Но станцию па ночь запирают, да если бы и не запирали, диванов, скамеек на ней нет, - "теперь, брат, господ нету!" - а ночевать на полу даже и "советским" подданным не всегда приятно. Нанять в поселке возле станции какого-нибудь другого мужика? Но это теперь стало делом почти невозможным. У дверей вокзала сидел мужик, пришедший к ночному поезду на Москву, печальный и безучастный. Поговорил с ним. Он только рукой махнул. "Кто теперь поедет! Лошадь редкость, вся снасть сбита... Стан колес - два миллиарда, выговорить страшно..." Я спросил: "А если пешком?" - "А вам далеко?" - "Туда-то". - "Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете". - "Да ведь, говорю, по лесу да еще пешком?" - "Что ж, что по лесу! Дойдете"…
…Нет, теперь не прежнее время!"
…Решил дождаться утра и просить ночлега в трактирах возле станции, - "их тут целых два", сказал мужик. Но оказалось невозможным ночевать и в трактирах, - не пустили. "Вот чайку, если угодно, пожалуйте, - сказали в одном. - Чай мы подаваем..."
Долго пил чай, то есть какую-то тошнотворную распаренную травку, в еле освещенной горнице. Потом говорю: "Позвольте хоть на крыльце досидеть до утра". - "Да на крыльце вам будет неудобно..." - "Все удобнее, чем на дороге!" - "А вы безоружный?" - "Обыщите, сделайте милость!" - И вывернул все карманы, расстегнулся. - "Ну, как хотите, на крыльце, пожалуй, можно, а то и правда, в избу вас никуда не пустят, да уж и спят все..." И я вышел и сел на крыльце, и скоро огонь в трактире погас, в соседнем его давно не было, - и наступила ночь, сон, тишина... Ах, как долга была эта ночь! На небе вдали, за чернеющим лесом, закатывался замазанный лунный серп. Потом и он скрылся, стала на том месте поблескивать зарница...
Я сидел, шагал перед крыльцом по смутно белеющей дороге, опять сидел, курил на пустой желудок махорку... Во втором часу по дороге послышался перелив колесных спиц, толканье ступок на осях - и немного погодя к соседнему трактиру кто-то подъехал, остановился, стал стучать в окно каким-то воровским, условным стуком. Из сеней сперва выглянул, потом осторожно вышел хозяин, босой лохматый старик, тот самый, что вечером отказал мне в ночлеге с удивительной злобной грубостью, - и началось что-то таинственное: бесконечное тасканье из сеней чего-то вроде овчин и укладывание их в телегу приезжего, и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу. Дул уже свежий ветер, и вдали угрожающе постукивал гром.
А я сидел и любовался. Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнить, как боялся их весь наш дом? Представь, я теперь лишился этого страха. И в ту ночь на крыльце трактира я только восхищался этой сухой, ничем не разрешившейся грозой. Под конец я, однако, ужасно устал от своего бдения. Да и духом пал: как идти двадцать верст после бессонной ночи?
Но на рассвете, когда тучки за лесом стали бледнеть, редеть и все вокруг стало принимать дневной, будничный вид, мне неожиданно посчастливилось. Мимо трактира пронеслась на станцию коляска - привезла к поезду в Москву комиссара, управляющего бывшим имением князей Д., находящимся как раз в тех местах, где и нужно мне было быть. Это мне сказала проснувшаяся и выглянувшая из окна хозяйка трактира, и, когда кучер выехал со станции обратно, я кинулся к нему навстречу, и он даже с какой-то странной поспешностью согласился подвезти меня. Человек оказался очаровательный - детски наивный гигант, всю дорогу повторял: "Глаза бы не глядели! Слезы!" Меж тем всходило солнце, и седловатый, широкозадый, шальной и оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька... Давно, друг мой, не катался в колясках!
Знакомый, у которого я прогостил несколько дней в этих лесах, человек в некоторых отношениях очень любопытный, - самоучка, полуобразованный, всегда жил раньше в Москве, но в прошлом году бросил ее и вернулся на родину, в свое наследственное крестьянское поместье. Он страстно ненавидит новую Москву и не раз настаивал, чтобы я приехал к нему отдохнуть от этой Москвы, расписывал красоты своих мест. И точно, места удивительные. Представь себе: зажиточный поселок, мирный, благообразный, вообще такой, как будто никогда не было не только всего того, что было, но даже отмены крепостного права, нашествия французов; а кругом - заповедные леса, глушь и тишина неописуемая. Преобладает бор, мрачный, гулкий.
И по вечерам в его глубине мне чувствовалась не то что старина, древность, а прямо вечность. Зари - только клочья: только кое-где краснеет из-за вершин медленно угасающий закат. Бальзамическое тепло нагретой за день хвои мешается с острой свежестью болотистых низин, узкой и глубокой реки, потаенные извивы которой вечером холодно дымятся. Птиц не слышно - мертвое безмолвие, только играют козодои: один и тот же бесконечный звук, подобный звуку веретена.
А как совсем стемнеет и выступят над бором звезды, всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины, и в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития звучит и хохотом и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот, по вечерам я бродил в бору под ворожбу козодоев, по ночам слушал, сидя на крылечке, филинов, а дни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы, - истинно бывшей, потому что из ее владетелей не осталось в живых ни единого... Она несказанно прекрасна.
Дни стояли солнечные, жаркие. И по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душно и сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые затоны, сплошь покрытые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды... А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.
Она осталась, по счастливой случайности, нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу; дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или, вернее, дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь.
И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвения, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в вестибюле которого весь день сидел в старинном атласном кресле, с короткой винтовкой па коленях, однорукий китаец, так как дворец есть, видите ли, теперь музей, "народное достояние", и должен быть под стражей. Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме, - в нем, в этом сиденье, было даже что-то жуткое. Но однорукий, коротконогий болван с желто-деревянным ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл порою что-то бабье, жалостное и равнодушно смотрел, как я проходил мимо.
- Вы его, барин, не бойтесь, - сказал мне про него кучер таким тоном, каким говорят о собаках, - я ему скажу про вас, он вас не тронет.
И точно, китаец меня не трогал. Если бы ему приказали заколоть меня, он, разумеется, заколол бы, не моргнув бровью. Но так как колоть меня было не надо, то он только сонно косился на меня, и я мог свободно проводить целые часы в покоях дворца как дома. И я без конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы... Потолки блистали золоченой вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. (Если бы ты знал, как мой взгляд отвык не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты!)
В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель. В одном покое высилась кровать из какого-то темного дерева, под балдахином из красного атласа, и стоял венецианский сундук, открывавшийся с таинственной сладкогласной музыкой. В другом - весь простенок занимали часы с колоколами, в третьем - средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты... Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами! И ярче и величавее всех Екатерина.
С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу! А в одном кабинете лежит на небольшом письменном столе и странно поражает взгляд коричневое бревно с золотой пластинкой, на которой выгравировано, что это частица флагманского корабля "Св. Евстафий", погибшего в битве при Честме "во славу и честь Державы Российская..." Да, во славу и честь Державы Российская... Странно это теперь звучит, не правда ли?
Часто бывал я и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и вечная тень, окна с железными толстыми решетками, а сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, такой же, как и сто, двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками, и на этих полках мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за два последних века. В одной зале огромный телескоп, в другой гигантский планетарий, а на стенах снова портреты, редчайшие гравюры. Развернул я как-то один из прелестнейших томиков начала прошлого столетия… и долго стоял очарованный: какой ритм и какая прелесть, грация, танцующий перелив чувств!
Теперь, когда от славы и чести Державы Российской остались только "пупки", пишут иначе: "Солнце, как лужа кобыльей мочи..."
…А перед отъездом был я в знаменитой церкви. Она в лесу, на обрыве, круглая, палевого цвета и сияет в синем небе золотой маковкой. Внутри ее круг желтоватых мраморных колонн, поддерживающих легкий купол, полный солнца. В круглом проходе между колоннами и стенами - изображения святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе под церковью…
Стоп! Уже нарастает раздражение вызванное явным непониманием Бунина, что княжеский дворец – это логово хищников, что сказочная роскошь бывших князей куплена невероятными и жуткими страданиями зависимых от них людей. И за этой роскошью – разбитые судьбы, умершие в грязи и от голода дети крестьянских курных изб, тоска деревянной сохи, из которой выдавили все соки на разные заграничные прелести…
Но это банальность. А вот «изображения святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе под церковью» - это же порошенковщина наших дней.
Кровавый упырь П. Порошенко, как известно, в «домовой» церкви изобразил на фреске под видом святых своё семейство. Большего богохульства и вообразить нельзя! Но когда начались возмущения верующих – сторонники кровавого Петра сказали, что это старая практика, что некогда так было принято – кто, мол, церковь платит, тот её и танцует…
И вот – подтверждение от Бунина. Ненасытные упыри, не знавшие ни меры в роскоши, ни чьих-то прав, кроме собственных, дошли в исступлении своего угнетательства до того, что стали лики святых заменять собственными харями… Как П.Порошенко в наши дни! Традиция, однако!
Бунин может сколько угодно скулить о несчастной судьбе этих князей, музей которых он посетил в ненавистном «совке», однако как верующий человек он должен был бы понять (а он не понял): совершено уже метафизическое кощунство, метафизическое падение гордыни и скверны, предопределившие «изгнание торговцев из храма»…
Люди, которые начали в храме на иконах малевать свои рожи под видом святых – те же самые люди, которые жрали других людей поедом. Здесь смыкаются этика коммунизма (протест против угнетения, когда всё – только в одни руки, а другим – фигу) с этикой христианства (кощунник достоин страшнейшей из кар, ибо такое действие – явный сатанизм).
Вот этого-то, главное, и не понял Иван Бунин, тонкий лирик, а может быть – не захотел понять. Не ответил чудищу-киту на его вопрос:
Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть,
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?
А ведь Ершов в своей сказке ответил киту довольно однозначно:
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Веком долгим наградит…
История русской революции оборачивается в анализе текста Бунина русской фольклорной сказкой, и, в определённом смысле, библейской притчей.
Жили-были моральные уроды, которые всё гребли к себе, и думали, что кроме них никому на свете жить по-человечески не нужно. «Глотали корабли». Дошли до того, что, как кровавый упырь Порошенко, стали в церкви хари свои малевать с нимбами…
И обрушился на них гневный господь Саваоф, сделав бич из воловьих жил, и всех их изгнал из мира, как из храма, а их столы менял опрокинул…
Вот что получается…
Но не понял этого Бунин:
… А в узкие окна видно, как ветер ворочает косматые главы сосен, величаво и дико раскинутые из обрыва в уровень с окнами, и слышно пение, гул ветра. Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели и впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми очами, что царствуют в покоях дворца? Нет, мысль моя не мирилась с этим...
А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное волнение сосен. Как-то весело и горестно радовался солнцем забытый, навсегда опустевший храм! Мертвая тишина царила в нем. За стенами же пел, гудел летний ветер, - вес тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною, с одним из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших, среди такого великого и быстрого крушения Державы Российской, равного которому не знает человеческая история!
+++
Главная претензия Бунина и всей аристократии в его лице, отчётливо выпирающая из текста 1923 года – нежелание жить как все, на общих основаниях, с одними правами у тебя и у «вонючего мужика». И в этом даже тонкий лирик доходит до метафизического бесчувствия, накалённого эгоизма, неспособного рассмотреть в святотатстве богачей (ему подобных) даже прямой сатанизм домовой «антицеркви».
Актуален ли этот текст и его вдумчивый анализ в наши дни? Думаю, более чем…
Виктор ЕВЛОГИН, обозреватель "ЭиМ".;



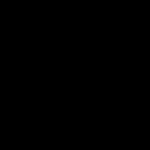









Оценили 58 человек
92 кармы