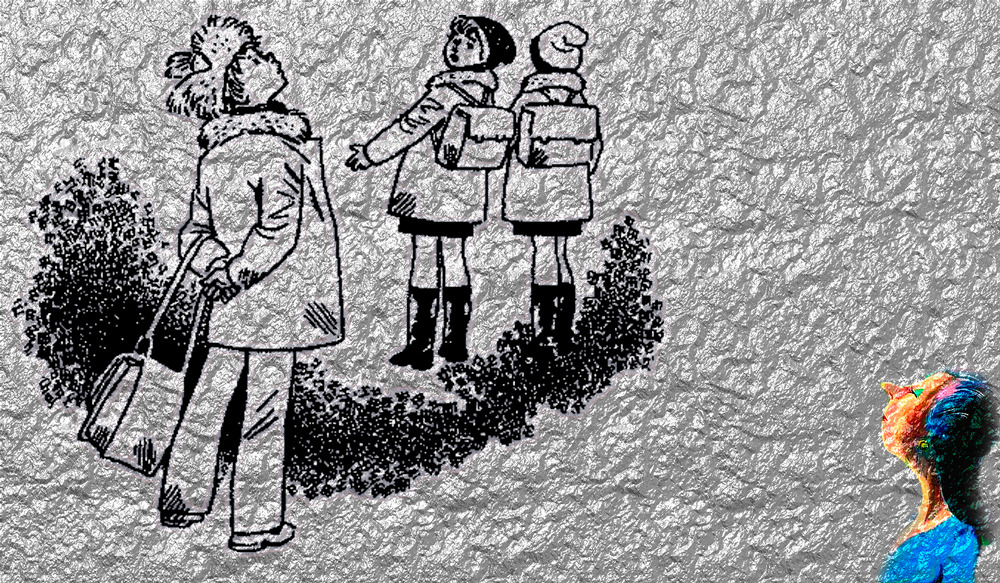
В основе нашего понимания физического мира лежит парадокс. Двадцатый век подарил нам две выдающиеся теории: общую теорию относительности и квантовую механику. Первая дала толчок развитию космологии, астрофизики, исследований гравитационных волн и черных дыр. Вторая легла в основу атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц и конденсированного состояния вещества. Эти теории, столь разные, но столь полезные, стали краеугольным камнем современных технологий, изменивших нашу жизнь. Однако обе они противоречат друг другу.
Представьте студента, который посещает лекции по общей теории относительности утром и по квантовой механике вечером. Он может подумать, что его профессора либо не общаются друг с другом, либо просто не замечают очевидного противоречия. Утром он изучает искривленное пространство, где все непрерывно, а вечером — плоское пространство, где кванты энергии скачут.
Парадокс заключается в том, что обе теории удивительно точны. Природа ведет себя как тот пожилой раввин, которому пришли два человека с противоположными утверждениями. Выслушав первого, раввин говорит: «Ты прав». Второй настаивает на своем, и раввин отвечает: «И ты прав». Из соседней комнаты кричит его жена, но они оба не могут быть правы. В конце концов, раввин кивает: «И ты тоже права». Так и физики-теоретики, работающие на пяти континентах, пытаются найти решение этой проблемы. Их исследования называются квантовой гравитацией. Они стремятся создать теорию, которая бы объединила две противоречивые концепции и дала непротиворечивое видение мира.
Физика не впервые сталкивалась с двумя успешными, но противоречивыми теориями. В прошлом попытки их объединения привели к значительным открытиям. Ньютон связал параболы Галилея с эллипсами Кеплера, открыв всемирное тяготение. Максвелл объединил электрическую и магнитную теории, создав уравнения электромагнетизма. Эйнштейн стремился разрешить противоречие между электромагнетизмом и механикой, сформулировав теорию относительности.
Физик счастлив, когда встречает противоречие между успешными теориями. Это уникальная возможность. Сможем ли мы создать концептуальную основу, которая бы согласовывалась с обеими теориями?
На переднем крае науки, за границей знания, идеи рождаются и умирают, теории развиваются и опровергаются. Сегодня мы видим очертания новых направлений, но проблема еще не решена. Разнообразие мнений и критические замечания помогают двигаться вперед.
Одной из главных попыток разрешить проблему является петлевая квантовая гравитация. Это смелая попытка объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Она основана на гипотезах, уже содержащихся в этих теориях, но переписанных так, чтобы сделать их совместимыми. Следствием этой теории может стать радикальное преобразование нашего понимания реальности.
Общая теория относительности научила нас, что пространство — это не статичная коробка, а динамичная структура, способная сжиматься и изгибаться. Квантовая механика показала, что каждое поле состоит из квантов и имеет мелкозернистую структуру. Отсюда следует, что и пространство состоит из квантов.
Петлевая квантовая гравитация утверждает, что пространство не бесконечно делимо, а состоит из мельчайших частиц — атомов пространства. Эти атомы в миллиард-миллиарды раз меньше атомного ядра. Теория описывает их математически и предлагает уравнения, определяющие их эволюцию. Эти атомы пространства называют петлями или кольцами, поскольку они соединяются друг с другом, образуя сеть, из которой соткана текстура пространства.
Где эти кванты пространства?
Нигде. Они не находятся в пространстве, потому что сами и есть пространство. Оно возникло благодаря взаимодействию отдельных квантов гравитации. Мир теперь воспринимается не как совокупность объектов, а как система взаимодействий.
Самое поразительное следствие этой теории — исчезновение привычного понятия времени, которое течет независимо от объектов. Уравнения, описывающие пространство и материю, больше не содержат временной переменной. Это не значит, что все застыло и не меняется. Наоборот, изменения происходят повсюду, но элементарные процессы не подчиняются привычному ритму. На мельчайшем уровне танец природы не регулируется единым дирижером. Каждый процесс движется в своем ритме, независимо от соседей.
Время в этом мире — это встроенное свойство, возникающее из взаимодействий между квантовыми событиями. Оно не течет независимо, а рождается внутри этих взаимодействий.
Мир, описанный этой теорией, становится еще более необычным. Пространства, вмещающего все, больше нет. Нет и времени, в котором происходят события. Есть только элементарные процессы, где кванты пространства и материи непрерывно взаимодействуют друг с другом.
Иллюзия пространства и времени вокруг нас — это размытое восприятие мельтешения элементарных процессов. Как спокойное альпийское озеро создается вихрем крошечных молекул воды, так и наше восприятие мира создается этим мельтешением.
При увеличении мы могли бы увидеть зернистость пространства, как волны на поверхности Вселенной.
Можно ли проверить эту теорию экспериментально? Пока нет, но ученые пытаются. Один из подходов связан с черными дырами. Мы наблюдаем черные дыры, которые образуются при коллапсе звезд. Вещество таких звезд сжимается под собственным весом и исчезает из нашего поля зрения. Но куда оно девается?
Если теория петлевой квантовой гравитации верна, вещество не может коллапсировать в бесконечно малую точку, потому что бесконечно малых точек не существует. Только конечные крупинки пространства.
При сжатии вещество должно становиться все плотнее, пока квантовая механика не создаст встречный напор. Это состояние, когда квантовые флуктуации пространства-времени уравновешивают вес вещества, называется планковской звездой.
Если бы Солнце превратилось в черную дыру, оно стало бы около полутора километров в диаметре. Внутри черной дыры вещество продолжало бы сжиматься и в конце концов превратилось бы в планковскую звезду размером с атом.
Планковская звезда нестабильна. Как только она максимально сжимается, ее отбрасывает назад, и она начинает расширяться.
Это ведет к взрыву черной дыры. Воображаемому наблюдателю, сидящему внутри черной дыры на планковской звезде, этот процесс виделся бы отскоком назад, происходящим с огромной скоростью. Но для этого наблюдателя время течет не так же как для всех снаружи черной дыры, по той же причине, по которой в горах время течет быстрее, чем на уровне моря.
Из-за экстремальных условий время течет по-разному. То, что кажется быстрым внутри планковской звезды, снаружи выглядит бесконечно долгим.
Черные дыры кажутся неизменными, но на самом деле это расширяющиеся звезды, видимые в замедленном действии. Возможно, в первые мгновения Вселенной появились черные дыры, и иногда они взрываются. Мы можем обнаружить сигналы, испускаемые ими при расширении. Это космические лучи высокой интенсивности, которые позволяют наблюдать эффекты квантовой гравитации.
Одна из самых впечатляющих теорий касается происхождения Вселенной. Уравнения петлевой теории показывают, что когда Вселенная была предельно сжата, квантовая теория породила отталкивающую силу. Это привело к мощному взрыву, который мог быть большим отскоком. Не исключено, что наш мир возник из предыдущей Вселенной, которая сжималась, а затем отскочила назад и начала расширяться.
Момент отскока — это царство квантовой гравитации, где время и пространство исчезли. Мир превратился в мельтишащие облака вероятностей, которые все же можно описать уравнениями. Таким образом, наша Вселенная могла родиться из предыдущей фазы, пройдя через состояние без пространства и времени.
Физика открывает новые горизонты, которые продолжают удивлять нас. Мы понимаем, что наше интуитивное видение мира неполно и ограничено. Земля не плоская и не неподвижная. Мир меняется, и мы начинаем видеть его все четче.
Все подсказки, которые мы узнали о физическом мире в двадцатом веке, указывают на нечто отличное от нашего интуитивного понимания материи, пространства и времени. Петлевая квантовая гравитация пытается разгадать эти подсказки и заглянуть еще дальше.
Общая теория относительности и квантовая механика — два столпа физики двадцатого века. Они учат нас, что природа искуснее, чем кажется. Общая теория относительности — это плотное видение гравитации, пространства и времени, созданное Альбертом Эйнштейном. Квантовая механика добилась экспериментального успеха и привела к практическим приложениям, изменившим нашу жизнь. Но она остается окутанной тайной.
Квантовая механика родилась в 1900 году, когда немецкий физик Макс Планк вычислял электрическое поле в горячем ящике. Он представил, что энергия поля распределена по квантам. Это привело к результату, который воспроизвел измерения, но расходился с известными теориями. Пять лет спустя Эйнштейн осознал, что пакеты энергии реальны. Он показал, что свет состоит из частиц, которые мы называем фотонами.
Эти строки — свидетельство о рождении квантовой теории. Они напоминают слова Дарвина о происхождении видов и Фарадея о магнитных полях. Гении сомневаются, но их идеи революционизируют науку.
Коллеги поначалу отнеслись к работе Эйнштейна как к неуклюжему пробному шагу. Но именно за эту работу он получил Нобелевскую премию. Планк — отец теории, а Эйнштейн — ее родитель.
Теория относительности, как любое дитя, пошла своим путем, не всегда понятным даже её создателю. Только во втором и третьем десятилетиях XX века Нильс Бор заложил основы её развития. Бор понял, что энергия электронов в атомах может принимать лишь определенные значения, как и энергия света. Электроны способны перескакивать между орбитами с фиксированными энергиями, испуская или поглощая фотоны. Это и есть знаменитые квантовые скачки.
В Копенгагене, в институте Борра, собрались лучшие умы мира, чтобы изучить эти загадочные особенности и создать непротиворечивую теорию. В 1925 году появились уравнения, заменившие механику Ньютона. Это было выдающееся достижение: всё обрело смысл, и стало возможным вычисление.
Например, периодическая таблица Менделеева, которая висит на стенах многих школ, теперь имела объяснение. Каждый элемент соответствует решению главного уравнения квантовой механики. Вся химия возникла из одного уравнения.
Гейзенберг предположил, что электроны существуют только тогда, когда их наблюдают или они взаимодействуют с чем-то другим. Они материализуются с определенной вероятностью при столкновении. Квантовые скачки — единственный способ быть реальными. Электрон — это набор скачков от взаимодействия к взаимодействию. Когда его никто не тревожит, он не находится в конкретном месте. Он просто есть.
Квантовая механика утверждает, что ни один объект не имеет определенного положения до момента взаимодействия. Для описания его состояния между взаимодействиями используется абстрактная математическая формула. Эти скачки происходят непредсказуемо и случайно. Невозможно предсказать, где электрон появится вновь, можно лишь вычислить вероятность его появления.
Эйнштейн считал это нелепостью. Он выдвинул кандидатуру Гейзенберга на Нобелевскую премию, но не упускал случая поворчать о том, что в утверждениях Гейзенберга мало смысла. Молодые ученые из Копенгагенской группы были растеряны: их духовный отец, открывший новые горизонты мышления, теперь сомневался.
Эйнштейн, показавший, что время и пространство искривлены, теперь утверждал, что мир не может быть настолько странным. Бор терпеливо объяснял ему новые идеи. Эйнштейн придумывал мысленные эксперименты, чтобы показать их противоречивость. Например, он представлял ящик со светом, из которого вылетает фотон.
В конце концов, Эйнштейн признал, что теория — это гигантский шаг вперед, но остался убежден, что за ней должно быть следующее, более разумное объяснение. Бор же не отступил от нового способа осмысления реальности. Век спустя уравнения квантовой механики применяются ежедневно в разных областях, но остаются загадочными. Они описывают не то, что происходит с системой, а то, как она влияет на другую.
Что это значит? Может быть, сущность системы не поддается описанию вообще? Или нам не хватает лишь кусочка мозаики? Или мы должны смириться с тем, что реальность — это только взаимодействие? Наши знания растут, позволяя создавать новое, но вскрывают и новые вопросы. Те, кто использует теорию в лабораториях, продолжают это делать, но физики и философы продолжают искать ответы.
Что такое квантовая теория спустя столетия? Погружение в глубь природы реальности? Большой просчет, который случайно работает? Фрагмент мозаики? Или ключ к структуре мира, которую мы ещё не познали? Когда Эйнштейн умер, Бор нашел для него трогательные слова восхищения. А через несколько лет, когда умер и Бор, кто-то сделал фотографию доски в его кабинете с рисунком ящика из мысленного эксперимента Эйнштейна. Стремление спорить с самим собой, чтобы понять больше, и до последнего сомнения.
Глюоны — частицы, которые удерживают кварки внутри протонов и нейтронов. Они, вместе с электронами, кварками, фотонами и другими элементарными частицами, формируют материальный мир вокруг нас. К ним относятся нейтрино, свободно летающие во Вселенной, и бозоны Хиггса, недавно обнаруженные в Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Всего существует менее десяти типов элементарных частиц, которые, как детали конструктора, создают всё, что нас окружает.
Эти частицы не похожи на маленькие камушки. Они представляют собой кванты соответствующих полей, как фотоны — кванты электромагнитного поля. Они похожи на крошечные волны, которые исчезают и появляются снова по законам квантовой механики. Всё в этом мире нестабильно и существует лишь как переход от одного взаимодействия к другому. Даже в самой пустой области пространства мы можем обнаружить движение этих частиц. Не существует абсолютной пустоты, где ничего нет.
Квантовая механика и теория элементарных частиц изменили наше представление о мире. Мы ушли от механистического мира Ньютона и Лапласа, где всё было точно и предсказуемо. Теперь мы понимаем, что мир — это непрерывное движение, возникновение и исчезновение эфемерных сущностей. Это мир событий, а не объектов.
Теория элементарных частиц начала формироваться в 1950–1970-х годах благодаря работам Ричарда Фейнмана и Мюрея Гэлмана. Эта теория, известная как стандартная модель, была полностью подтверждена в 2012 году с открытием бозона Хиггса. Однако, несмотря на успех, физики не принимают стандартную модель всерьёз. Она выглядит как набор разрозненных частей, собранных без какого-либо порядка. Почему именно эти поля и силы? Почему эти константы и виды симметрии?
Уравнения стандартной модели могут приводить к абсурдным результатам, если использовать их напрямую. Чтобы получить осмысленные результаты, необходимо задавать бесконечно большие параметры, что вызывает вопросы о корректности этой теории. Этот процесс называется ренормализацией. Он работает, но оставляет ощущение искусственности.
Поль Дирак, один из величайших учёных XX века, неоднократно выражал недовольство таким положением вещей. Он считал, что проблема ещё не решена.
Недавно было обнаружено новое ограничение стандартной модели. Вокруг каждой галактики астрономы наблюдают большое облако вещества, которое нельзя увидеть напрямую, но его гравитационное влияние на звёзды и преломление света можно обнаружить. Мы не знаем, из чего состоит это облако.
Выдвинуто множество гипотез, но ни одна из них не работает. Очевидно, что там что-то есть, но мы пока не знаем, что именно.
Сегодня мы называем это «тёмной материей». Есть доказательства, что она не описывается стандартной моделью, иначе мы бы её увидели. Это нечто иное, чем атомы, нейтрино или фотоны.
Неудивительно, что существуют вещи, о которых мы даже не подозреваем. До недавнего времени мы не знали о существовании радиоволн и нейтрино, пронизывающих вселенную. Стандартная модель остаётся лучшей для описания мира объектов. Её предсказания подтвердились, и, за исключением тёмной материи и гравитации, которая в общей теории относительности рассматривается как искривление пространства-времени, она прекрасно описывает всё, что мы видим.
Предлагались альтернативные теории, но они не выдерживали экспериментальной проверки. Например, теория SU-5, предложенная в 1970-х, была изящнее и проще стандартной модели. Она предсказывала распад протона с вероятностью превращения в электроны и кварки.
Чтобы наблюдать распад протона, построили огромные машины. Физики посвятили свою жизнь попыткам его зафиксировать. Поскольку распад одного протона занимает слишком много времени, берут тонны воды и окружают их чувствительными детекторами.
К сожалению, ни один протон так и не был замечен распадающимся. Теория SU-5, несмотря на свою элегантность, не подтвердилась.
Возможно, похожая ситуация повторяется с суперсимметричными теориями, которые предсказывают существование нового класса частиц. Коллеги, с которыми я работал, всегда ждали их появления. Но прошло уже много лет, а суперсимметричные частицы так и не проявились. Физика — это не только история успеха.
Пока мы вынуждены довольствоваться стандартной моделью. Она может быть не очень изящной, но прекрасно описывает мир вокруг нас. Возможно, при более тщательном изучении мы обнаружим её скрытую простоту.
Мы знаем, что материя состоит из элементарных частиц, которые постоянно колеблются между существованием и несуществованием. Они заполняют пространство, даже когда оно кажется пустым, и объединяются в бесконечность, как буквы космического алфавита, рассказывая историю галактик, звёзд, солнечного света, гор, лесов, улыбающихся лиц и ночного неба.
Наряду с важными теориями, описывающими базовые составляющие мира, есть ещё один бастион физики — вопрос о природе теплоты.
До середины XIX века физики считали, что теплота — это жидкость, называемая теплородом, или две жидкости — горячая и холодная. Но это оказалось неверным. Джеймс Максвелл и Людвиг Больцман поняли, что горячее вещество — это то, в котором быстрее движутся атомы. Атомы и молекулы всегда в движении: они носятся, колеблются и отскакивают. Холодный воздух — это воздух, в котором молекулы движутся медленнее, горячий — быстрее.
Теплота всегда передаётся от горячих объектов к холодным. Холодная ложка в чашке горячего чая тоже нагревается. Если мы не оденемся в мороз, то быстро потеряем тепло и замёрзнем. Но почему теплота переходит только в одну сторону?
Это важный вопрос, связанный с природой времени. В случаях, когда теплообмена нет или он мал, будущее ведёт себя так же, как прошлое. Например, движение планет в Солнечной системе не зависит от теплоты. Но как только появляется теплота, будущее отличается от прошлого. Маятник может качаться бесконечно долго, если нет трения. Но если есть трение, он замедляется и нагревается. Трение производит тепло, и мы можем отличить будущее от прошлого.
Никто никогда не видел, чтобы маятник начал двигаться за счёт энергии, полученной от опоры. Разница между прошлым и будущим существует только из-за теплоты.
Больцман объяснил причину: это чистая случайность. Идея Больцмана проста и элегантна. Тепло переходит от горячих объектов к холодным не по закону, а с большой вероятностью. Быстро движущийся атом горячего вещества с большей вероятностью столкнётся с атомом холодного и передаст ему энергию, чем наоборот.
Энергия сохраняется при столкновениях, но стремится распределиться равномерно, когда их много. В результате температура объектов, находящихся в контакте, выравнивается. Хотя горячее тело может стать ещё горячее, это крайне маловероятно.
Когда Людвиг Больцман ввёл вероятность в физику, чтобы объяснить тепловые процессы, его идеи встретили непонимание и насмешки. Коллеги не восприняли его всерьёз, как это часто бывает с новаторами.
5 сентября 1906 года Больцман покончил с собой в Дуино, близ Триеста. Он не увидел, как его идеи о природе тепла получат признание и лягут в основу квантовой механики. Она предсказывает, что движение мельчайших частиц определяется случайностью.
Однако вероятность, которую использовал Больцман, не связана с квантовой механикой. Она основана на нашем незнании и ограниченности знаний. Когда мы не знаем чего-то наверняка, мы можем лишь оценить вероятность события.
Например, мы не можем точно предсказать погоду завтра, но можем оценить вероятность дождя, снега или солнца. То же самое относится и к физическим объектам. Мы знаем о них многое, но не всё, поэтому можем лишь делать предсказания на основе вероятности.
Представьте шарик, наполненный воздухом. Мы можем измерить его форму, объём, давление и температуру, но не знаем точного положения молекул внутри. Это делает невозможным точное предсказание его поведения. Например, если развязать шарик, он начнёт сдуваться, сталкиваясь с окружающими предметами непредсказуемым образом.
Даже если мы не можем предсказать всё точно, мы можем оценить вероятность различных событий. Например, крайне маловероятно, что шарик вылетит в окно, обогнёт маяк и вернётся на ладонь.
В термодинамике, науке о тепле, вероятность играет ключевую роль. Она помогает понять, почему тепло переходит от горячих тел к холодным, а не наоборот.
На первый взгляд, кажется нелогичным, что наше незнание может помочь понять поведение мира. Но это не так. Предсказуемость или непредсказуемость поведения объектов зависит от того, какие свойства мы учитываем. Например, чайная ложка нагревается в горячем чае, потому что мы учитываем только её температуру и температуру чая, а не микросостояния молекул.
Термодинамика и статистическая механика распространились на электромагнитные и квантовые явления в XX веке. Но включить гравитацию в эту картину оказалось сложно. Мы знаем, как ведут себя электромагнитные поля при нагревании, но что такое горячее гравитационное поле? Гравитация связана с пространством-временем, которое, возможно, тоже колеблется при нагревании. Однако мы пока не можем описать это явление.
Проблема времени также остаётся одной из самых сложных в физике. Время течёт, но мы не можем точно определить, что такое настоящее. Прошлое и будущее существуют только в нашем восприятии. Немецкий философ Мартин Хайдеггер подчёркивал, что мы живём во времени. Возможно, течение времени связано с теплотой и вероятностью.
Наше восприятие времени зависит от ограниченности нашего сознания. Мы видим мир как последовательность событий, хотя на самом деле он может быть единым блоком прошлого, настоящего и будущего. Из-за этого возникает ощущение течения времени.
Таким образом, время — это не фундаментальное свойство реальности, а результат наших статистических наблюдений. Оно возникает из-за ограниченности наших знаний и восприятия мира.











Оценили 14 человек
40 кармы