Сегодня «сдвоенный» пост будет необычным: в основном канале будут мысли относительно формирующегося сейчас международного контекста. В частном (внизу) - наброски моего видения ситуации внутри страны.

Формирующаяся принципиально новая ситуация вокруг России требует совершенно иных подходов управления внутренними процессами. В конечном счете, мы выходим в полосу «конкуренции социально-политической устойчивости» между ключевыми государствами мира. И пока нет даже слабых намеков на то, насколько длительной будет эта полоса. Но в чем можно быть совершенно уверенным, так это в том, что эта временная «полоса» будет проходить в условиях полного снятия каких-либо ограничений в сфере воздействия на внутреннюю стабильность государств-конкурентов. И если раньше отсутствие «рамок» было характерно только для отношений «объединенный Запад» - Россия, то теперь происходит универсализация подходов для всех участников условной «большой игры».
То, что мы наблюдаем непосредственно сейчас: снятие ограничений на форматы и способы конкуренции внутри ранее созданных блоков и коалиций государств (НАТО, BRICS, ЕС, ЕАЭС).
В наиболее жесткой форме это проявляется внутри «объединенного Запада» («казус Румынии» является не только прецедентом, но и сигналом Трампу о том, что для победы «градус» надо повышать), но в той или иной степени будет затрагивать и альтернативные «Западу» сообщества. «Членство» в военно-силовых коалициях перестает предоставлять гарантии от невмешательства.
Ситуация выдвигает принципиально иные требования к внутренней устойчивости государств и способности к опережающему управлению социально-политическими тенденциями, которые, вероятно, на данном этапе будут опережать социально-экономические. Этот разрыв в действительности является крайне значимым. И, что наиболее важно, требует принятия решений в сфере управления внешней политикой.
Важный нюанс: по состоянию «на сейчас» наиболее не то чтобы «продвинуты» в этой сфере, но готовы с политико-психологической точки зрения, мы, Россия. Но надо понимать, что действия Трампа создают пространство для принципиально новых систем государственного управления. Просто потому, что в рамках предыдущей «парадигмы управления» Трамп обречен на поражение, вопрос только в масштабах.
В посте в частном канале две части. В один не влезло. Спойлер: обозначившиеся в российском политическом пространстве процессы демонстрируют падение эффективности классических методов политического управления. Ситуация пока остается относительно благоприятной. Но запаздывание с переходом к «смысловому» управлению в противовес проектно-технократическому может иметь крайне сложные последствия.
Теперь пара слов по международной тематике. То, что Трамп стал существенно более жестко вести себя по отношению к европейцам, конечно, симптом значимый. Но мы не должны его переоценивать. Он, конечно, получил новую свободу маневра, особенно на инвестиционном поле (я надеюсь, все мы понимаем, что у визитов была и скрытая часть), но она пока явно недостаточна, чтобы взрывать ЕвроАтлантику.
Гипотеза: Трамп по результатам ситуации в Румынии и попытки усилить свои позиции в переговорном процессе вокруг Украины понял два момента: (1) без кризиса внутри (!!!) ЕвроАтлантики он свое влияние не восстановит; и (2) европейцы реально кризиса боятся; они к нему практически не готовы. Поэтому Трамп европейцев пугает тем, что он с ними не торгуется, а целенаправленно сталкивает в кризис.
Но есть важный нюанс: а американские глобалисты, которых мы очень некорректно называем «клан Клинтонов» (думаю, влияние «Клинтонов» сейчас «околоноля»), они насколько готовы к кризису? Думаю, что существенно больше, чем европейские евроатлантисты, упивавшиеся статусом «старших партнеров». Вообще американские глобалисты пока не доказали своей решительности, но доказали свою относительную мобильность и политическую адаптивность.
Об особенностях социально-политических тенденций в России
Центральная дилемма России: развитие или удержание стабильности. При относительно высоких темпах промышленного роста и высоком уровне патриотических настроений эти задачи не противоречили друг другу. Но если на фоне управляемого «охлаждения экономики», переросшего в стагнацию, власти предпримут действия по сворачиванию патриотических настроений, между задачами «развитие» и «стабильность» начнет возникать политически значимое противоречие. Власти испытывают трудности в подборе инструментов управления патриотическими настроениями, в т.ч. и потому, что такие настроения технократически- прозападно ориентированной верхушке в принципе чужды, она не понимает «левых» «смыслов». Прямое давление на «патриотические» сообщества, похоже, признано опасным. Но такое неустойчивое положение не может продолжаться долго с учетом возникновения накануне «пасхального перемирия» феномена «народ безмолвствует».
Выделим пять наиболее значимых тенденций внутренней политической ситуации, которые могут рассматриваться как элементы общего кризиса системы управления:
Первое. Кризис «вертикали власти», связанный с фактическим выведением из нее губернаторского корпуса. Губернаторы за последний год-полтора оказались закреплены в общественном сознании как (1) делегаты от московских олигархических кланов (т.е. «не настоящая власть») и (2) в силу большого количества уголовных дел - главные коррупционеры. Это стало вполне закономерным результатом попыток сделать из них некий громоотвод для настроений социально-политического недовольства, отводя эти настроения от федеральной власти. Но это игра в пользу разрушения принципа единства вертикали власти.Она противопоставляет регионалов, которых преследовать можно, и федеральных чиновников, ставших вновь (после арестов в МО) «неприкасаемыми». Казавшееся верным технологическое решение в сфере управления, дававшее возможность отложить перестройку, в том числе и кадровую, федеральной системы управления, создало некомфортную и потенциально опасную политическую ситуацию.
Второе. Кризис «путинского консенсуса», хотя еще и не его «распад». Главная причина: нарастающая неясность целей власти в среднесрочной и краткосрочной перспективе на фоне невнятности коммуникаций. Один из важнейших признаков - кризис турболоялизма, фактически прекратившего существование в качестве значимой информационно¬политической силы. Наблюдается отчетливый кризис радикально-провластной пропаганды. Этот кризис не является результатом «дефектов» и «эксцессов исполнителей», хотя качество пропаганды отчетливо падает. Кризис - логический результат сворачивание всякой дискуссии о принципах и ключевых направлениях развития страны. Хронологической «точкой надлома» было «интервью» В.Якеменко - хорошо спланированная акция, направленная лично против В.В.Путина. Показательно отсутствие каких-либо действий в отношении и Якеменко, и тех, кто сконструировал эту ситуацию. Удар - прошел, но выводы были сделаны в пользу закручивания информационных «гаек». «Кризис «путинского консенсуса» - системная проблема, едва ли решаемая в условиях критического ослабевания механизмов «обратной связи» общества и власти. Что было сделано сознательно в рамках концепции создания в России «парящей» над «темным народом» меритократии. Попытки создать некую провластную «универсальную смысловую линию» (читай - сконцентрировать бюджет в один руках) приведут, вероятно, к дальнейшему отпадению от «консенсуса» пусть даже и «флюсовых», но весомых сообществ/аудиторий. В краткосрочной перспективе это большого значения иметь не будет. В среднесрочной, особенно в случае усиления давления со стороны Запада - может сыграть негативную роль.
Третье. Неспособность власти остановить «левый» разворот и неготовность его принять как политическую реальность, остановив маргинализацию левых системных сил. Запущенный для противодействия левым проект «белый национализм» не просто не дал серьезных результатов, но укрепил именно просталинские настроения в обществе. А они из всех левых течений для власти являются самыми опасными. В результате власти пришлось идти на ситуативные и ранее считавшиеся нежелательными политико-компенсаторные действия («Аэропорт Сталинградский», «Барельеф», наезд на «Ельцин- центр»), чтобы избежать прямого противопоставления общественному мейнстриму. Начиная с второй половине апреля проект «белые националисты» стал явственно выходить из-под контроля и создавать политические риски и для власти: попытки реабилитировать Власова, Краснова (история с Франко - просто «вишенка на торте»), ценностное совпадение с бандеровцами и т.п. Раскачиваемая «белыми националистами» тема миграции близка к выходу из-под контроля. Уже заметны случаи «обкатки» темы зарубежными игроками. Проблему усиливает институциональный кризис «левого лоялизма». Возникает идейный вакуум, куда интенсивно заходят настроения неотроцкизма (мегаполисные ультралевые), традиционно управляемые из-за рубежа. Напомним, что неотроцкисты, причем в не самом радикальном изводе, были важной составной частью радикальной «болотной» оппозиции в фазе подъема.
Четвертое. Кризис образовательной среды, связанный с отсутствием системности и чрезмерной затянутостью принимаемых решений. В частности, по сворачиванию системы платного образования. Вместо того, чтобы получить острый но относительно короткий кризис, руководство системы высшего образования создало ситуацию постоянной нестабильности в образовательной среде, настраивая учащихся и их родителей против власти. Особенно в верхних слоях регионов, для которых отправить ребенка на учебу в Москву было целью экономической деятельности (даже порой заходя в криминал и жертвуя репутацией). Теперь, оказывается, все было напрасно. Но проблема в том, что у руководства отраслей среднего и высшего образования явно нет свежих идей комплексного переустройства среды. Отсюда ситуативность вбрасываемых решений, суетливость поведения на ключевых политических площадках (министр Кравцов в Совете Федерации выглядел катастрофически неподготовленным) и общая «клочковость» политики.
Пятое. Кризис провластных молодежных проектов. Они остаются дееспособными по форме, но содержательно уже не решают почти никаких задач. Проблема в том, что в данном случае системообразующим вопросом является не содержание проектов, а контроль бюджетов. Что есть также проблема отсутствия смыслового управления одной из ключевых сфер развития государства. В среднесрочной перспективе бесконтрольность молодежных проектов, в том числе и интеграцию туда потенциально антигосударственных элементов следует считать наиболее серьезной угрозой на рубеже 2026-2028 годов.
Ⓒ Профессор смотрит в мiръ.
Ⓒ Профессор открывает глаза. (Д.Евстафьев)
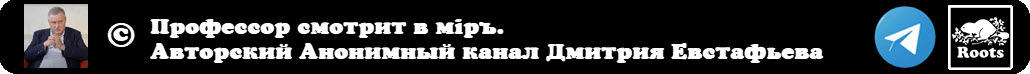







Оценил 1 человек
3 кармы