В ходе работы по подготовке к изданию четвертого тома серии «Золотая Орда в источниках», содержащего сообщения европейских авторов, в части подборки сведений византийских авторов XIII – XIV вв., привлекли внимание два любопытных сообщения у византийского автора Георгия Пахимера. Их рассмотрение является содержанием настоящей статьи.
Георгий Пахимер (1242 – 1310) в «Xρονική Συγγραφή (Хроника современных дел)» (заканчивается 1308 годом), в части посвященной Ногаю (находится в Книге пятой его Хроники), ретроспективно сообщает целый ряд сведений о монголах времен Чингисхана, которые и вызвали вышеназванный интерес. Он связан как с их содержанием, так и путем, какими эти сведения оказались в употреблении византийских официальных лиц. К таковым, в частности, относился и Георгий Пахимер. Ведь он занимал высокие посты в империи, в основном в области церковного судопроизводства. Одновременно он занимался написанием духовных и исторических сочинений. Его основной исторический труд – это «Xρονική Συγγραφή (Хроника современных дел)», являющийся продолжением «Истории» Георгия Акрополита (1217–1282). Название его разными переводчиками и исследователями дается в вариантах – Исторические записки, Ромейская (или Римская) история etc. Памятник состоит из 13 книг, охватывающих период с 1253 по 1307/8 год. Так как эти книги в основном посвящены правлениям Михаила и Андроника Палеологов, то их также принято называть «Историей о Михаиле и Андронике Палеологах». Извлечения из этой «Истории», цитируются по русскому переводу (под редакцией профессора Санкт-Петербургской Духовной академии В.П. Карпова), опубликованному в издании (Георгий Пахимер 1862).
Первое из вышеупомянутых сообщение интересно в первую очередь по поводу его первоисточника и пути появления в Византии, а второе — ввиду его уникальности, а потому требует дополнительного анализа. В первом сообщении речь идет о Чингисхане, его истории и возвышении. Приведем из всего этого пассажа интересующее сообщение (в переводе В.П. Карпова):
«человек неизвестный и дикий, занимавшийся сперва кузнечеством, потом возведенный в достоинство хана».
Самый главный момент, который вызвал интерес, это сообщение о «кузнечестве» Чингисхана. Дело в том, что в восточных источниках, даже в монгольских, присутствует указанный нарратив. Т.е. про связь или самого Чингисхана, или его настоящего имени (Темучжин), с кузнечеством. Поэтому важно выяснить пути появления этого нарратива из кочевого, тюрко-монгольского мира и приход его в употребление среди византийских книжников
Про «кузнеца» Чингисхана из европейских источников сообщает армянский монах Гайтон в своем сочинении (1307 г.), но маловероятно, чтобы Георгий Пахимер мог использовать этот латинский источник. Тем более, что Гайтон прямо называет имя «кузнеца» — «человек, носивший имя Чингис», а у Пахимера он в пересказе предания о «кузнеце» — «человек неизвестный и дикий» (и только в другой части своего текста Пахимер далее «припоминает» его имя — «Чингис-хан», но уже не связанное с ранее изложенной легендой о кузнеце).
Таким образом, более вероятно, что Георгий Пахимер пользовался сообщениями информаторов из восточной (скорее всего половецкой/кипчакской) среды, где легенда о «кузнеце Темучжине (Чингисе)» была весьма распространенной. Ведь прочные византийско-половецкие связи существовали как и ранее, так и во времена Георгия Пахимера (сводку сведений о том, как «Половцы прочно входят в обиход византийской политики» см. в соответствующей части монографии Д. А. Расовского «Половцы» в Seminarium Kondakovianum, XI, Praha 1939). Датировать время появления сведений о монголах Чингисхана (и о нем самом, соответственно) при половецком посредничестве можно второй половиной XIII в.
Рассмотрим теперь второе из вышеупомянутых сообщений. Оно относится к тому блоку сообщений в указанном рассказе Георгия Пахимера, что описывает быт и привычки «неведомого народа», то есть монголов при их первом появлении в Европе. А конкретно — про их пищевые привычки:
«налей кровью и положи их под седло, — запекшаяся немного от лошадиной теплоты, она будет твоим обедом».
Среди синхронных периоду создания державы Чингисхана источников аналогов данному сообщению не обнаруживается. Хотя тема питания монголов и их коневодства в этих источниках поднимается постоянно и довольно подробно. Появление сообщения у Георгия Пахимера о таком способе питания у монголов, относящемся в периоду XIII в., можно считать уникальным. Поэтому следует выяснить — является ли это литературным вымыслом, или это отражение реальных фактов.
Как сказано выше, в синхронных периоду сообщениях аналогов нет. Но они обнаружены в более поздних источниках. Так, французский военный инженер Гийом Левассер де Боплан, служивший польскому королю в 1620-х – 1640-х годах и лично наблюдавший военное дело крымских татар, пишет по поводу способов их питания в походах следующее:
«Мясо же приготовляют таким образом: делят на четыре части… кладут их на спину лошади, которую седлают поверх [кружка] (этого мяса – Р.Х.), подтягивая как можно теснее подпругу, затем садятся на лошадь и скачут два-три часа… Затем они соскакивают с лошади, расседлывают ее и переворачивают каждый свой кружок мяса, смачивая его собранной пальцем пеной лошади, боясь, чтобы оно не слишком засохло. Сделав это, они снова седлают лошадь, притягивая подпругу так же туго, как и раньше, и снова скачут два-три часа. И тогда мясо уже считается приготовленным по их вкусу, как бы тушеное».
В примечании к данному месту комментаторы этого нового и фундированного перевода сочинения Боплана при том сообщают, что описания подобного приготовления «не встречается в других источниках, хотя нередко упоминается вяленое мясо (пастырма), характерное для народов, занимающихся преимущественно скотоводством». Как видим, это примечание ошибочно, так как не учитывает сведений, которые сохранил и передал в своей Хронике Георгий Пахимер.
Военное дело крымских татар, как это отмечается исследователями военного дела восточноевропейских кочевников, было наиболее приближено к таковому у монголов середины – конца XIII в. Поэтому в сочетании с аналогичным способом питания монголов в военном походе (как это описывается у Георгия Пахимера) описание Боплана представляет нам подлинный элемент военного быта как у монголов XIII в., так и крымских татар середины XVII в.

Портрет Георгия Пахимера из манускрипта XIV в.




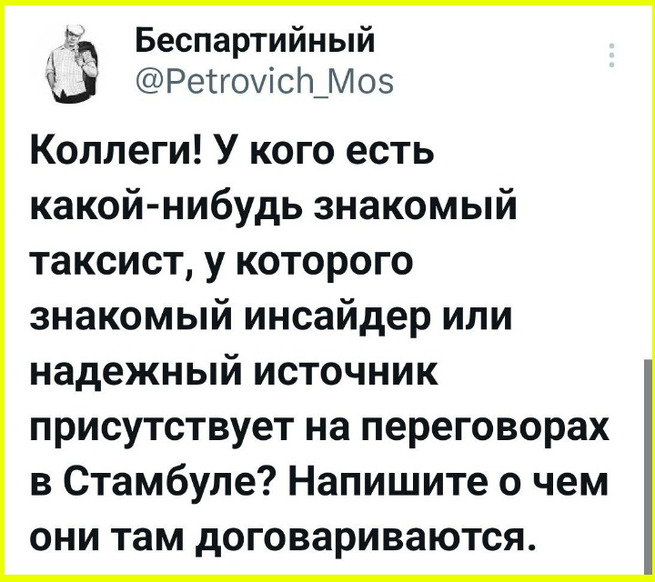







Оценил 21 человек
33 кармы