*Представьте себе мир, совершенно схожий с нашим, но сохранивший память о Тартарии. И блог омского тартароведа - любителя*
Статья Ю.Н. Хлебникова"Северная триада" ("Знание-сила", майский номер 1982 г.), которая потом, в дополненном и уточненном виде, была изложена в виде монографии "Северная триада: олени, люди, волки ледниковой эпохи" ("Наука", М. 1986 г.).
Для изучения Тартарии эта статья имела особое значение, так как в ней, с точки зрения официальной науки, в порядке гипотезы подтверждались сведения о существовании в древности особого уклада пастьбы диких стад - вожеловства, упомянутого в сказаниях предков славян и тартарийцев. Кроме того, статья достаточно верно отражает евразийские воззрения на взаимодействие человека и природы как средства достижения взаимной гармонии, а не борьбы за существование за счёт слабейшего.
Великий Ледник
Сто тысяч лет назад рельеф планеты был таким же и сейчас, но воды группировались по другому и тем самым кардинально меняли среду обитания животных и людей.
Береговая линия морей и океанов отступала далеко вглубь водных просторов, расширяя материки на сотни километров за счет берегового шельфа и образуя материки на месте архипелагов.
В Северном полушарии ледники расползались с севера и от горных хребтов, а там, где ледники и рельеф образовывали бессточные пространства – образовывались огромные водоемы. В разное время их очертания и размеры менялись, но и сейчас реликтовые соленые озера сохраняют память о бывших пресных морях. Они плескались на месте песков Такла-Макана, от Каспия до Алтая, перед Среднерусской возвышенностью, в Сибири и в сердце Северной Америки.
Во время оледенений ледовый панцирь сползал от хребтов Урала и Таймыра почти до устья Иртыша. Толща льда высотой в несколько сотен метров возвышалась горным хребтом над залитой водой равниной. Непреодолимая преграда препятствовала естественному стоку воды в сторону океана. Перед ледовой плотиной тогда плескалось настоящее пресноводное море. Его размеры постоянно менялись – оно усыхало и уходило к северу вслед за отступающим ледником во время потеплений, наращивало размеры и растекалось в сторону казахских и алтайских предгорий во время очередных наступлений ледника.
Нынешний Приполярный Урал тоже оказывался подо льдом, далее к югу голые вершины, с которых ветер сорвал всю растительность, торчали бесприютным архипелагом среди бесконечной воды. Скалы оживлял только гомон птичьих базаров.
Студёными зимами пресное море затягивало льдом и более полугода сплошной белый покров соединял берега с ледником. Торосы наползали на осыпающиеся края ледника и делали незаметным переход от сезонного льда ко льду вечному. Короткими стремительными веснами бурные мутные воды вспарывали изнутри ледяной покров, превращали море в ледяное крошево, по которому начинали дрейфовать отколовшиеся айсберги. Они никогда не достигали размеров морских, слишком уж мелким было Западно-Сибирское море, и, едва оторвавшись от массива, застревали на отмелях.
Летом море очищалось ото льда и свинцовые воды успокаивались между илистыми отмелями и далекими ледяными берегами.
Реки, впадающие в ледниковые моря, мало чем напоминали ныне существующие. Разве что в верховьях, вне влияния ледника и подпрудных морей. На месте Обь-Иртышской и Енисейской систем протекали водные потоки. Некоторые – Енисей, Обь, Иртыш, Тобол, Ишим несли воду горных ледников в пресное море. Их русла прослеживались не более чем наполовину, далее реки представляли из себя мощные подводные течения в глубине Мансийского моря-озера. Многочисленные таежные притоки Иртыша и Оби тогда были просто стоками из низин, переполненных водой. Ширина водотоков несколько раз превышала размеры нынешних русел. Когда ледник отступал, а за ним и пресные моря, равнина осушалась, а водотоки превращались в настоящие реки с полностью сформировавшимся руслом.
Очередное затопление вновь погружало наземные формы рельефа под воду, отдавало на волю наката волн и течений.
Все же общий контур рек на не затапливаемой плоскости сформировался уже в то время.
Море кишело рыбой, за рыбой в узкие извилистые проходы между ледником и горами проникали дельфины-белухи – они до сих пор заходят в Обь по старой памяти. Их промысел составлял когда-то важный промысел для обских остяков – из кожи дельфинов делали особо прочные ремни. Пресноводные тюлени вовсю хозяйничали среди косяков. Переход из состояния морских животных в ранг обитателей пресных водоемов был для них незаметен. Моря Северного Ледовитого океана и ныне характеризуются пониженным содержанием соли – так много пресной воды уносят в океан великие сибирские реки. Местные тюлени прекрасно чувствуют себя в опресненных губах и в руслах рек. Один из обитателей приледникового моря до сих пор благополучно живет в Байкале – туда он забрался вверх по Енисею и Ангаре. Относительно байкальской нерпы есть мнение, что это даже не отдельный вид, а просто подвид обычного морского тюленя, обосновавшийся в пресной воде.
Вальяжные хозяева ледяных морей и берегов, белые медведи, бродили по кромке ледника или неторопливо переплывали пресноводные моря – к южным увалам, где они рожали и выхаживали детенышей.
К пресноводным морям стягивались разнообразные птицы. Ледник отогнал на юг, на уральские и саянские скалы полярных ныряющих птиц – гагар, кайр, тупиков. Птичьи базары гомонили там, где ныне в сумрачном молчании стоит тайга. Перелетные птицы с весны до осени заполняли побережья и болотистые низины.
Южнее начиналась своеобразная южная тундра, она занимала примерно ту полосу, что и нынешняя лесостепь.
Условия для произрастания здесь были экстремальными. Ледяной ветер нес над плоской равниной колючий снег, который как абразив счищал все, что произрастало выше поверхности сугробов. Но солнце средних широт и вторжения теплых масс воздуха позволяли развиваться гораздо более богатой растительности, чем на нынешнем океанском побережье.
Растительность нынешней тундры угнетается вечной мерзлотой, тундровые растения развиваются в крохотном пространстве глубиной в несколько сантиметров над промерзшей на сотни метров вглубь толщей земли. Помимо этого растения вынуждены проходить полный жизненный цикл в условиях короткого – в несколько недель – полярного лета.
В южной тундре ледникового периода все-таки было и солнце средних широт, и отсутствовала вечная мерзлота. Поэтому растительность южной тундры представляла собой невероятно смешение заполярных растений и флоры степей. Дополнительно к этому заливаемая в половодье полоса и понижения рельефа превращались в болотистые низменности, тогда еще не настоящие торфяные болота, а лишь мелководья, поросшие тростниковой флорой. Были и леса всех видов – от поросли карликовой березы ближе к побережью до небольших лесков на южных склонах подальше от ледника.
Под стать этому на берегах ледниковых морей царило вавилонское смешение животных разных климатических зон.
Одних наступление ледника и морей отгоняло к югу – это были северные олени, овцебыки, пеструшки-лемминги и многочисленные хищники, живущие за счет них. Они населяли болотистые низменности, так как привыкли к пропитанной влагой тундровой почве и совершали относительно короткие перекочевки – зимою уходили южнее, где был тоньше снеговой покров над сухими стеблями, летом бежали от комаров и вдогонку взрывной зеленой волне прорастающей растительности к берегам морей.
По суходолам летом к морю спускались стада степных обитателей – северных антилоп сайгаков, диких лошадей, бизонов и туров. Зимою они возвращались в более привычные места обитания, подальше от ледяного веяния с ледника. Вымершие гиганты, мамонты, шерстистые носороги кочевали своими путями, о которых трудно сказать что-то определенное.
То, чем был приледниковый мир, можно представить только по отчетам путешественников, впервые увидевших африканские саванны, американские прерии, сибирскую тундру. Бескрайние просторы, по которым медленно перемещаются огромные стада копытных, озера и побережья, покрытые сплошь водоплавающими птицами; миграции стад копытных, которые сбиваются в плотные колонны длиной в десятки и сотни километров и целеустремленно идут к своей цели, не обращая внимания на потери от хищников, человека и тягот пути; рыба, идущая на нерест такой плотной массой, что вода вскипает и в воздух взлетают рыбины, выдавленные спинами своих товарок
Это не было хаосом, столпотворением стад. Природа оперирует тысячелетиями в изменение старого и установлении нового, при этом гибнет невообразимое число особей, но в итоге всегда появляется нечто, что поражает человека рациональной гениальностью. Сегодняшний уровень вычислительных операций не в состоянии обеспечить сбор данных, обработку информации и принятие решения, чтобы оптимизировать процветание сотен видов всех классов животного и растительного мира, которое наблюдалось тогда в южной ледниковой тундре.
Это была тщательно составленная мозаика, каждая деталь которой была пригнана к соседним, связана с ними - а вместе представляла целостную картину. Перемещение каждого стада со строго определенным количеством особей осуществлялось по четко разработанному маршруту в соответствии с жестким графиком, зависящим от погодных условий. На вожаках стад лежала ответственность за жизнь десятков – сотен - тысяч особей, а по большому счету - за существование популяций.
Также стоит заметить еще одно обстоятельство.
Один вид волка, подразделяемый на множество подвидов и рас, распространен на всем Северном полушарии, в Европе. Азии и Америке. Тяготея к открытым пространствам, степям и тундрам, волк при этом достаточно пластичен, чтобы приспособиться к жизни в лесу, в болотах и в горах.
Ареал северного оленя еще два-три столетия назад был ограничен южной границей тайги в Азии и северными широколиственными лесами Европы и Америки.
Вместе с человеком эти виды составляли весьма значительную часть биомассы Северного полушария. Можно говорить о триаде самых распространённых и взаимосвязанных множеством отношений видов Северного полушария – северного оленя, человека и волка.
И создаётся впечатление, что люди, волки и олени совместно изрядно потеснили другие виды травоядных и хищников в приледниковом ландшафте.
Они совместно обустроили для себя лесотундру, в которой просуществовали десятки тысяч лет, до следующих климатических изменений и отпадения человека от прежнего завета.
Мы сосуществуем десятки тысяч лет на территории трех континентов – и вряд ли это случайно.
Базис приледниковой экономики: северный олень
Обзор северной триады из почтения следует начать с ее базиса – с северного оленя.
Это самый распространенный сегодня вид из рода оленьих, кстати, и появившийся незадолго до появления на севере современного человека.
Правда, сейчас это утверждение следует сопровождать оговоркой – учитывая численность оленей в домашних стадах. Дикие олени сейчас почти исчезли.
Олень был одним из самых первых одомашненных животных в северных районах, но его массовое одомашнивание произошло всего лет пятьсот назад. С тех пор стада домашних животных стали вытеснять дикарей, пока в тундрах Европы и Азии дикий олень стал редкостью. Этому также способствовало его интенсивное истребление. В Северной Америке его не одомашнивали вовсе. Внешне домашний и дикий олень не отличаются так, как отличаются, к примеру, породы домашних и дикие виды лошадей – слишком мало времени прошло для такой радикальной селекции. Северные олени свободно спариваются, домашние важенки даже предпочитают диких самцов и уходят за ними в период гона.
Северный олень сейчас ведет тот же образ жизни, который определился еще в ледниковый период.
Он прекрасно приспособлен к обитанию в тундре и северных лесах. Копыта оленей приспособлены для движения по болотистой почве тундры. Северный олень – прекрасный пловец. Его густая шерсть удерживает множество пузырьков воздуха и играет роль своеобразного надувного спасательного жилета. Современные великие сибирские реки, которые в половодье разливаются на несколько километров в ширину и несут с огромной скоростью потоки ледяной воды – не препятствие для ослабленных зимней бескормицей оленей во время весенней перекочевки. Большинство из них благополучно форсирует водные преграды, даже преждевременно родившиеся мартовские телята отважно барахтаются в воде рядом с крупами старших родичей.
Лето не только время сытого блаженства – это время мучений для всех обитателей тундры.
Июньские комары и августовский гнус буквально изводят оленей. Безжалостный гнус откладывает личинки под шкурой, в дыхательных путях, в плоти несчастных животных. Личинки на последующих стадиях своего развития проедают насквозь внутренности, мясо и шкуры оленей. Помимо мучения животных, это ослабляет их настолько, что делает легкой добычей хищников. Волки, забивающие таких зараженных животных, являются не безжалостными убийцами, а сотрудниками службы эвтаназии, дарующие быструю и легкую смерть вместо гниения заживо.
Единственное спасение оленей – ветер, лучше всего тугой прохладный ветер с океана. Он относит комаров и гнус. Иногда в душном безветрии стада оленей бросаются в бег, создавая вокруг себя искусственный поток воздуха. Оленеводы сейчас таким образом теряют стада – они убегают так далеко, что не возвращаются. Иногда олени спасаются, забираясь по самые ноздри в воду и проводят в водоемах часы.
Зимняя тундра не предоставляет никаких шансов для выживания крупному копытному. Поэтому по осени вслед за перелетными птицами олени отходят на юг. В недалеком прошлом отдельные стада останавливались на границе лесотундры и тайги, другие проникали гораздо южнее в леса. В девятнадцатом веке в Европейской части России они доходили до Воронежской губернии, в Западной Сибири – до Васюганских болот на широте Тюмени и Томска.
Рога для оленей никогда не служили оборонительным оружием против хищников – как, например, у старшего южного собрата лося. Убойное оружие оленя – копыта, их удар калечит или убивает незадачливых человека или хищника. Но домашний олень никогда не поднимет копыто на человек и на его собаку.
О рогах северного оленя стоит упомянуть подробнее, поскольку для обитателей северных приледниковых областей именно они были воплощением жизни, ее вечности, изменчивости и неуничтожимости.
Рога появляются у оленя словно из ниоткуда – на гладком темени. Ничто не предвещает, что на черепе, покрытом кожей, по весне начнут набухать отростки, вытягиваться вверх, ветвиться, что поначалу мягкие, напитанные пульсирующей кровью под нежной кожицей – они приобретут размер приличного кустарника и костяную твердость, украсят голову благородного мощного животного, станут знаком его достоинства, оружием в схватках во имя продолжения рода. А потом с наступлением зимы рога становятся в тягость и их сбрасывают мимоходом. Шустрые пеструшки-лемминги мигом обгрызут их и к весне от отброшенных рогов не останется и следа.
Зато чудом, которое называется жизнь, они снова появятся на лбу оленя.
Рога живут в едином ритме с другим проявлением жизни, еще более высоким и более универсальным. Они начинают набухать когда солнце просыпается от зимней спячки и своими лучами призывает к пробуждению почки на деревьях, зверей – от спячки, птиц – от летовий на дальнем и загадочном юге, когда по-весеннему разверзаются пронзительно голубые небеса и нестерпимое весеннее сияние заливает снежное безмолвие. А когда уставшее солнце уходит в сумрак осенних вечеров и мрак кромешных ночей – тогда вместе с листопаом опадают и рога.
Вечная жизнь, которой пропитан самый воздух земли, ее почва и вода, дает зримый знак своего присутствия рогами северного оленя.
Ни тогда, ни сегодня человек, живший бок о бок с оленем не имел возможности сформулировать эти мысли на ученый манер - да и не имел нужды формулировать свои чувства. Если вечен олень, если мировым деревом произрастают его рога – то значит и сам человек через дружбу с оленем причастен к вековечной Жизни. Человеку остается только с благоговением и смирением принять этот щедрый дар природы.
Даже сейчас, когда десятки поколений оленеводов обстоятельства приучали относиться к оленю как к движимому имуществу, он остается для обитателей тайги и тундры символом жизни, смыслом существования.
Товарищ волк
Волк по наблюдениям тех, кто имел возможность наблюдать это прекрасное животное на воле, может служить примером во всех отношениях самозванному венцу природы.
Волки живут небольшими семьями. Их пары обычно устойчивы на протяжении долгого времени и держатся определенного места. Папа-волк сохраняет верность подруге и исправно снабжает свое семейство пищей. Мама-волчица принимает посильное участие в охоте, конечно, когда не занята выхаживанием и воспитанием подрастающего поколения. Частенько к паре прибиваются холостые молодые волки и играют роль дядюшек. Они всегда на подхвате – на охоте, в охране логова и в присмотре за молодняком. Волчата окружены заботой и лаской.
Для загонной охоты и для общения мелкие семьи собираются в крупные стаи. Такие временные трудовые коллективы строятся на жесткой иерархичной основе. Вожак выбирает стратегию, опытные волки служат организаторами и забойщиками, остальные деятельно служат загонщиками.
Распределение добычи – тоже в соответствии с рангом. Выяснение отношений обычной ограничивается демонстрацией клыков и общей крутизны путем мимики и взъерошиваем шерсти. Серьезные схватки между теми, кто не хочет уступать, редки, но тогда приводят к серьезным увечьям и даже гибели. Но это все-же редкость. Обычно на оскал старшего по рангу младший поджимает хвост или в знак покорности подставляет горло под клыки. На волка это действует как команда: «Фу!» на дрессированную собаку.
Волк в принципе не может причинить вред тому, кто изъявил покорность.
А на досуге волки разных стай сходятся на так называемые игрища – специально выбранные места. Там они вволю играют друг с другом, демонстрируют ловкость в прыжках и шутливых потасовках и, конечно, воют.
Последний обычай роднит их с людьми. Немногие животные имеют тягу к такому самозабвенному самовыражению – просто так, без физиологии и инстинктов, когда душа (спросите охотника или собачатника, есть ли душа у собаки или волка – получите ответ, который не совпадает с параграфами катехизиса) рвется наружу и требует песни. Сольные партии сливаются в дуэты и слаженные а-капельные партии – импровизации. Вой имеет определенную социальную функцию – он избавляет сообщество от лишней агрессивности и объединяет волков в единое целое.
Помимо эстетического назначения вой является средством общения на дальние расстояния. Существует свидетельство, что волки одной стаи сообщают так соседям сведения о перемещении стад, людей – маршрутах и сроках.
(Справедливости ради надо отметить, каким путем Фарли Моуэт получил эту информацию.
Молодого биолога канадское правительство сбросило в тундру, чтобы на основании его исследований определить какой урон причиняют волки карибу – североамериканским северным оленям. Фарли Моуэт обнаружил, что волки промышляют леммингов, олени для них добыча редкая, зато вокруг местообитаний людей земля устлана оленьими черепами и костями. И обвинение волков в истреблении оленей - злостная клевета. Для подтверждения наблюдений он поставил на самом себе эксперимент – сможет ли крупное плотоядное существо продержаться на грызунах. Поначалу он употреблял их выпотрошенными и сваренными, потом решил подражать объекту наблюдений и есть леммингов целиком. При этом он попутно уничтожал экспедиционные запасы пойла под жутким названием «Абсолютный спирт для консервации желудков», по-братски деля с приблудившимся эскимосом, проводником по штатному расписанию.
Вот этого-то эскимоса отец в пятилетнем возрасте отнес к волчьему логову, а через сутки забрал мальчика с задатками переводчика с волчьего языка. Однажды эскимос объяснил вой соседней стаи – волки предупреждали собратьев о приближении карибу и указывали направление маршрута. Образ жизни и питания еще не довели Фарли Моуэта до такого состояния, при котором он бы без скепсиса воспринял информацию о коммуникативном потенциале волков. На следующий день охотники из наблюдаемой стаи отправились в указанном направлении и вернулись с набитыми желудками.
Прекрасная иллюстрация к взаимоотношениям человека и волка в традиционных культурах и то, как взаимодействовали они на протяжении всего своего сосуществования).
У серых ангелов есть и черты, которые скорее приличествуют погрязшему грехах человеку. Например, часто волк во время охоты приходит в исступление и способен зарезать жертв гораздо больше, чем может съесть. Для хищников это редкость, обычно инстинкт ограничивает количество жертв непосредственными потребностями, а не эмоциями.
Волки неплохо сходятся с людьми – даже сейчас, когда тотальное истребление оставило в живых только тех, у кого недоверие к человеку заложено в генах. В таких ситуациях волк держит себя с человеком без собачьего подобострастия. Считается, что тундровые волки Старого и Нового Света считаются самыми крупными подвидами, отборными представителями своего вида, а в ледниковый период существовал особый вид или подвид северного тундрового волка.
Волки жили и живут в ритме перемещения оленьих стад.
На зиму волки сбиваются в стаи в десяток-полтора особей. Это размер двух-трех волчьих семей с подросшими детенышами летнего помета. Только так они могут загонять оленей и лосей. Волчьей добычей также является все, что движется и шевелится – от мышей до птиц. В обычных условиях маршруты стай часто пересекаются, но волки стараются избежать столкновений. В голодные годы стаи жестко конкурируют и встречи заканчиваются драками не на жизнь, а на смерть. Наиболее удачный сезон зимней охоты – по насту. В конце зимы перепады температуры превращают снежный покров в твердую корку, которая все же не выдерживает вес копытных. Копыта северных оленей и лосей пробивают корку и глубоко увязают в сугробах, острые края наста ранят ноги копытных. Зато волкам ничто не мешает мчаться на своих огромных плоских лапах по гладкой корке. Пожалуй, это единственное время, когда волк в состоянии догнать взрослое здоровое животное.
Весною олени уходят из заснеженных лесов в малоснежную тундру. Волки снимаются с зимовий и отправляются на свои законные участки. У каждой пары своя территория, границы которой прекрасно известны всем соседям, к тому же дополнительно помечаются мочой. Правда, это не означает, что волки не могут делать визиты к соседям или преследовать животных на чужой территории.
Весна к том же время спаривания. Волки отводят этому недели две. Потом волчица обустраивает семейное гнездышко (в тундре волки используют норы песцов – зато поэтому позволяют шкодливым и вороватым зверькам пользоваться своими объедками) и выхаживает двух-трех волчат. Она не покидает нору и вся забота на обеспечении питания ложится на отца семейства и на помощника, если он есть. Если охотничий участок лежит в зоне летних оленьих пастбищ, то волки предпочитают северных оленей – отбивают беспомощных телят или ищут ослабевших после кочевок животных. Догнать оленя волк не может, с трехнедельного возраста теленок способен обогнать взрослого волка. К тому же удар копыта способен изувечить или убить волка. Если волки обнаруживают животное, не способное на долгий быстрый бег, то они гонят его от одного волка к другому до изнеможения.
В других местах волки мышкуют леммингов, ловят сусликов и зайцев, освоили даже рыболовство в бесчисленных неглубоких тундровых протоках – загоняют рыбу на мелководье и хватают за спину.
Счастливое время для волков наступает во время осенних перекочевок. Нагулявшие жир олени уходят на юг сквозь боевые порядки волчьих стай. Волки внимательно наблюдают за вверенным поголовьем, а при обнаружении больного животного демонстративными наскоками отбивают его от стада и режут. Молодняк приобретает навыки охоты. Отфильтровав стада, волки с сознанием выполненного долга сами уходят в леса и лесотундру по оленьему следу.
Начинается зимовка – и новый годовой цикл.
Человек
Человек тогда, не мудрствуя лукаво, не стеснялся учиться у природы и следовать ее законам.
В течение ледникового периода в прилегающих местностях складывались и исчезали оригинальные богатые культуры. Они не были статичны: сохраняя общий характер, они менялись вместе с колебаниями климата и в силу внутренних импульсов. За протекающие тысячелетия сменялись расы, языки и культуры. Жизнь палеоазиатских – циркумполярных народов, которая еще несколько сотен лет назад протекала в изоляции от остального мира и почти в условиях неолита, то есть во многом совпадала с приледниковой жизнью, доказывает насколько многообразны могут быть жизненные уклады и занятия человека.
Искать следы этих культур бесполезно, особенно в Западной Сибири.
Циклы наступлений и отступлений ледника, связанные с этим колебания береговой линии и водных потоков, распространение тайги и болот, тотальная распашка степных и лесостепных пространств способны стереть с лица земли и более фундаментальные следы цивилизаций. Высококачественный камень для орудий труда на Западно-Сибирской равнине отсутствует, то есть ее обитатели строили свою жизнь преимущественно с помощью каменных и деревянных орудий, которые сохраняются гораздо хуже.
Керамика появилась когда ледник уже отступил, и столь любимые археологами черепки не обозначают место стоянок в южной тундре. К тому же таежные и степные обитатели отлично умели обходиться без тяжеловесной утвари – есть много способов хранения и приготовления пищи без глиняной и металлической посуды. Мясо варили в земляных ямах, в желудках и шкурах животных с помощью раскаленных камней, для хранения продуктов использовали поделки из бересты. Похоронные обряды не были развиты Археологические находки в таких условиях обнаруживаются только в результате сочетания счастливых случайностей. Практически все, что мы знаем о ледниковом периоде в истории человечества основано на находках в горных местностях. На равнинах следы жизнедеятельности человека той эпохи встречаются как исключение.
Большую часть ледникового периода процветали неандертальцы, двоюродные братья современного человека Homo sapiens sapiens. Они первыми проникли в Евразию и упорно держались своей второй родины, несмотря на натиск льда и холода. Настоящие люди волна за волной шли с южных земель к берегам ледниковых морей. Их влекли неисчерпаемые ресурсы южной тундры – или же они бежали от более сильных и многочисленных сородичей – или же в душе человека живет иррациональный зов объять необъятное, увидеть неведомое. Все вместе обеспечивало заселение южной тундры и внедрение новых творческих импульсов, исходящих из других регионов. Независимо от происхождения и внешнего облика все они были сильными и мужественными людьми, способными выживать в тех местах, которые в настоящее время считаются подходящими только для экстремальных путешествий.
Наиболее многочисленными из тех людей по роду занятий – как по численности, так и по разнообразию обычаев, которое в свою очередь определялось разнообразием охотничьих приемов.
Одни из них были оседлыми, их селения располагались в стратегических точках на пересечениях трасс миграций копытных. Всегда это были места у переправ стад через водные потоки. Таких мест – неглубоких, с невязким песчаным дном, с пологими склонами на подходах было относительно немного и в сезоны перекочевок сюда, как в перемычку песчаных часов, с фронта в сотни километров стекались гигантские стада и теснились на участках в несколько сотен метров. В воде копытные вынуждены бороться с течением, взбираться на крутые склоны берегов, то есть стадо, обеспечивающее достаточно эффективную круговую оборону, раздробляется на единичных животных, беззащитных перед хищниками. Покол – массовый забой животных на переправах – всегда считался самым эффективным способом охоты. Охотники поджидали выбирающихся животных на склонах или били их в воде с плотов. Охотничий коллектив, застолбивший себе переправу, обеспечивал себя дважды в год неограниченным запасом мяса. Точнее, объем запасаемого мяса определялся даже не количеством забитых туш, а возможностью их переработки и сохранения. Сколько бы зверей не забивалось на переправах – все равно это были проценты от того количества, которое гибло по естественным причинам и от других хищников, которым эти места были тоже ведомы.
В другие сезоны оседлые охотники занимались рыболовством или охотой на мелкую непрофильную добычу. Такая охотничья модель напоминала стратегию волчьих стай – волки держатся определенной территории и рачительно используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. По-своему это была комфортная жизнь для того времени – жизнь в теплых землянках в окружении стоек с вяленным мясом.
Кочевые охотники следовали за избранными стадами в течении всех сезонных миграций.
В какой-то мере их можно назвать пра-пастухами. От настоящих пастухов их отличало то, что опекаемые ими стада состояли из диких животных и сами животные самостоятельно выбирали пути перекочевок. Впрочем, и настоящие пастухи потом старательно следовали ранее проложенными маршрутами диких предшественников. В крайних точках перекочевок у кочевников возникали временные лагеря, совпадающие с центром территории кормовой базы стада. Все остальное время они проводили в пути, следуя за стадом и регулярно забивая необходимое количество животных.
Для экономии усилий по добыванию мяса насущного каждая группа охотников старалась опекать определенный вид или даже определенное стадо. В этом случае охотники могли с большой долей вероятности прогнозировать поведение животных и график миграции, а значит, планировать свои усилия. В тех условиях это давало лишние шансы на выживание. Поколение за поколением копытные и люди следовали одними и теми же путями, люди проникались повадками своих жертв, почти роднились с ними. Может, такой порядок устраивал и копытных. В какой-то мере люди заменяли собой многочисленных хищников, подстерегавших стада в пути, поскольку отпугивали их.
Конечно, такая узкая специализация давала эффект только если с животными все было в порядке. Уменьшение численности или гибель стада приводили к гибели охотников – если они не успевали изменить свою специализацию.
Сложение северной триады
Мир человека в тени великого ледника не был неизменен – хотя бы потому что сам ледник не был статичен. Он жил своей жизнью, менял размеры, направление движения, боролся с океаном и ветрами, вбирал в себя содержимое снеговых свинцовых туч и отдавал прозрачными ледяными ручьями. Еще более сложной была жизнь прилегающих морей и южной тундры. Если представить, что за десять тысяч лет проутюженная толщей льда земля и дно бывших подпрудных озер-морей стали тундрой, тайгой и лесостепью, то есть совершенно иными устойчивыми биоценозами, то за сотни тысяч лет похолоданий и потеплений, нескольких циклов отступлений и наступлений, такое происходило несколько раз.
Изменение природы после ухода последнего ледника совершенно изменило человеческую цивилизацию.
Изменение климата в конечном итоге вызвало такие изменения в ландшафтах, что обитающим в них человеческим сообществам пришлось находить новые способы пропитания – а именно скотоводство и земледелие. Нечто подобное происходило в периоды потеплений, только амплитуда таких изменений была не так велика как в последний раз. Всякий раз люди находили замену прежним занятиям – охоте, рыболовству и собирательству.
Скотоводство возникало неоднократно и многократно теряло свое значение, когда в зоне влияния ледника снова появлялись возможности для охоты – занятию при достатке дичи куда как менее утомительному чем скотоводство и тем более земледелие. Те навыки утеряны для современности,
Радикальное различие общественного устройства верхнего палеолита от того, что мы поднимаем под социальной сферой сейчас, и что справедливо только начиная с палеометаллической эпохи – то, что разрозненные человеческие общины находились во всем многообразии отношений в первую очередь с биоценозом, а уж потом - с группами себе подобных.
Человеческая община не выделяла себя из окружающего мира, в который входили одушевленные стихии, детали ландшафта, сообщества животных и растений, соседские человеческие общины. Сам характер взаимоотношения человека с природой требовал учета интересов других участников общего круговорота природы. В более позднюю эпоху человек за счет развития производящего характера своего образа жизни все далее абстрагировался от прежних технологий, которые могли работать только в естественной природной среде и требовали соблюдать все правила биоценоза. Человек создавал вокруг себя своим трудом искусственную сферу, внутри которой уже не было необходимости учитывать интересы природы.
Наиболее близки к человеческим охотничьим коллективам были волчьи стаи – одни из самых развитых общественных групп среди животных, к тому же занимавшихся весьма схожим с людьми промыслом. Более того, люди многое переняли от своих серых братьев. Нелишне отметить, что человек был знаком со стаями псовых еще по своей родине.
В саваннах Африки водятся гиеновые собаки, которые являются аналогом знакомым нам волкам. Гоминидам, решившим разнообразить вегетарианскую диету скоромным и решавшим «делать жизнь с кого», приходилось выбирать из соседей по саванне модель поведения и копировать охотничьи приемы. Конечно, после того, как роль падальщика была уже освоена и сдана на отлично.
Если бы гоминиды бродили многочисленными стадами, то они бы подражали павианам. Собакоголовые обезьяны сбиваются в огромные отряды, организованные как регулярная армия для тотального грабежа территории, по которой они идут. Самки с детенышами держатся в безопасной середине строя, а авангард, арьергард и боковое охранение составляют весьма боеспособные самцы. Их трофеями является все – от кореньев и плодов до крыс и зазевавшихся мелких копытных. Им предпочитают уступать дорогу все звери, да и люди до появления скорострельных ружей предпочитали не связываться со штурмовыми отрядами павианов – злобными самцами, которые с визгом наваливались кучей и рвали в клочья.
Все же человеческие стаи никогда не превышали нескольких десятков особей и люди никогда не могли сравниться по силе и длине клыков с собакоголовыми сородичами. Наверняка гоминиды завидовали мудрой и благоустроенной жизни павианов. Увы, это был недостижимый идеал.
Приходилось обращать взор на более мелкие охотничьи коллективы.
Многочисленные виды кошачьих, весьма удачливых охотников, не могли служить примером – они слишком специализированы в той степени, которую людям было уже не достичь и потому тяготели к индивидуализму. Это претило изначально заложенной в человеке тяге к коллективизму.
Подражание гиеновым собакам дало больше результатов. Любопытно, что средний размер стаи гиеновых собак, двадцать – тридцать особей (вожак, несколько самцов-охотников, немного больше самок и десятка полтора детенышей) соответствовал параметрам первобытной общины людей. Люди научились многим приемам охоты от своих учителей – загону, скрадыванию, выбору жертв. А также - заботе о подрастающем поколении, справедливой дележке и многому другому, что считается прерогативой рода человеческого, но на самом деле перешло к нему по наследству от зверей.
Когда современный человек покинул Африку и начал обживать иные ландшафты, он по старой привычке стал держаться прежних знакомых, хоть и в шкуре попушистее.
Трудно сказать, как восприняли сами волки новых сожителей – в любом случае люди и волки по способам охоты и способностям никогда не были конкурентами в пределах одной экологической ниши. Излюбленная добыча и тех, и других была одна – крупные копытные, но способы охоты слишком разнились.
Волки и люди, два разных вида, оказались в одной экологической нише, но при этом с уникальной возможностью взаимодействовать, дополнять друг друга. Каждый вид обладал определенными навыками выживания и добычи пищи, недоступными другому.
Тогда возник симбиоз человека и волка – две охотничьи стаи на одном маршруте опекаемого стада оленей решили не конфликтовать, а создать совместное предприятие по эксплуатации конкретного стада копытных. Волки вложили в качеств своей доли остроту чувств, люди – вооружение, способное противостоять самым мощным хищникам-конкурентам.
В тени Ледника развертывалась вечная драма сотрудничества и противоборства племен и родов, только на равных с человеком тогда выступали его ближайшие спутники – волки и олени. И сценариев могло быть много, а зависели они от индивидуальности людей и волков.
Волки и люди могли кочевать вместе, организуя при необходимости совместные облавы, могли бродить поодаль, соблюдая вежливую дистанцию и предупредительно уступая тропу при встрече.
Люди могли доходить до того маразма, который господствовал в общественном сознании в девятнадцатом - двадцатом веках – мол, волки истребляют копытных и оставляют человека без пропитания. Тогда начинались войны людей и волков на взаимное уничтожение.
Волки могли пользоваться ослаблением человеческих родов и приканчивать оставшихся в живых, расчищая себе жизненное пространство.
Могло быть иначе – в стычках людей волки принимали сторону «своей» человеческой стаи и вступали в бой плечо к плечу со своими. И вместе умирали на своей земле. Люди вскармливали осиротевших волчат, а волки могли принимать детенышей в свою стаю.
Правда, эскимосы скептически воспринимают сюжет с Маугли. По их мнению волки не могут настолько изменить природные свойства человека и воспитать из него полноценного охотника на волчий манер.
Два вида охотников пристально наблюдали за повадками друг друга и перенимали наиболее удачные приемы.
По своему, люди до сих пор считают, что находятся в особых отношениях с этими хищниками. Оленеводы признают за волками юридическое право на одомашненных оленей. Поскольку дикие олени к двадцатому времени в евразийских тундрах почти полностью выбиты, то волкам приходится искать добычу в человеческом имуществе. Возражений это не вызывает – разве что волки входят раж и истребляют оленей больше, чем могут сожрать. Тогда человек имеет право на ответные карательные акции.
С волками все было как между людьми. С одним только отличием – волки не умели лгать и за десятки тысяч лет не научились этому от человека.
В других местах роль оленей заменяли другие копытные – лошади, туры, бараны, козы. Неизменным оставалось сотрудничество с волками. Люди тогда умели быть благодарными и разумными.
Далее партнерство человека и волка, двух равноправных коллективов, были разорвано по вине человека. Он начал создавать искусственную оболочку вокруг себя, гомосферу, со свободного волка.
Точнее говоря, собака не является потомком волка. Она происходит от другого вида или подвида. Человек вырвал из естественной среды особей, способных к подчинению и создал из них одушевленный инструмент. Пра-собаки вложили в качеств своей доли остроту чувств, люди – вооружение, способное противостоять самым мощным хищникам-конкурентам.
Человек в благодарность возложил на нового партнера - в прямом и переносном смысле – обязанности перевозчика. Пешие охотники прерий, которые являлись аналогом тех древних кочевых охотников, до появления европейских лошадей использовали в качестве вьючных животных собак. В прерии на спины собак навьючивали переметные сумы и волокуши-павуа. На территориях, где существует большую часть года устойчивый снежный покров, пара положенных на спину жердей трансформировались в пару полозьев примитивных нарт.
Собака очень много значила для обитателей Евразии, но это уже был младший брат, а не равноправный партнёр северной триады.
Тогда же началось одомашнивание копытных. Первым этой сомнительной чести удостоились молодые или раненные животные – манщики, с помощью которых подбирались к стаду на расстояние броска. Северные олени – манщики вышли из обихода тундровых охотников пару столетий назад, то есть десятки тысяч лет исправно несли свою службу.
В западносибирской южной тундре разные группы кочевых охотников для перевозки немудренного скарба экспериментировали с северным оленями и дикими лошадьми. Точнее, сперва они отбивали молодняк для создания подручного резерва пищи, ну, а потом четвероногие консервы стали нагружать вьюками, волокушами и нартами. Самым простым способом долгое время было передвижение на лыжах за взнузданным упряжным животным. Разные изображения увековечили в этом качестве северного оленя, лошадь и даже лося. Правда, последний из-за независимого нрава не удержался в числе домашних любимцев.
В итоге северная триада распалась, дав начало современному укладу - скотоводству. Но это была уже совсем другая история...


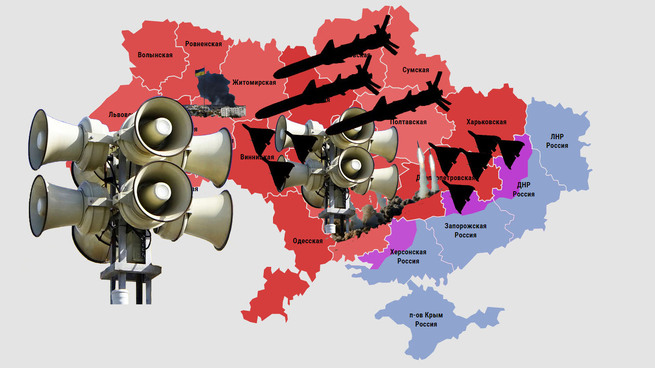


Оценил 1 человек
1 кармы