
Был такой рисунок эпохи народничества: идёт за плугом мужик-кормилец, а следом за ним въяривают в дикий пляс царь, поп, кулак, купец, генерал, учёный и нищий. Причём генерал, учёный и нищий, по мнению автора рисунка, находились в этом кордебалете где-то рядышком — как и царь с попом и кулак с купцом. И назывался рисуночек — «Один с сошкой — семеро с ложкой!» — «Вот проснётся сила народная, — мечтали “ходящие в народ” интеллигенты. — Вот прогонит она всех мучителей царских, истязателей русского мужика!»
«А там наступит райское блаженство и общество всеобщего потребления!» — так и хочется добавить к этим бесплотным мечтаниям земских статистиков, несостоявшихся протодьяконов, а также народных учителей и недоучившихся студентов наподобие Родиона Раскольникова. А ведь бояться им надо было этого пахаря, и ох как бояться. А то ведь придёт этот ваш пахарь — и все вы завоете, а не запляшете.
Кругом трусость, ложь и предательство
Самым неприятным событием в истории последних Романовых была смерть старшего сына Александра Второго — цесаревича Николая. Старший из внуков Николая Павловича, по общему мнению — самый красивый принц Европы, 21-летний Никса должен был вскоре жениться на симпатичной принцесске Дагмаре Датской. Ей было 16 лет. Но — увы! — 12 апреля 1865 года он скончался в Ницце от гнойного менингита позвоночника. Интересный был парень и неглупый. Судя по его письмам, из него мог бы получиться интересный журналист или даже писатель-сатирик. А сатирики в то время были в моде. После Гоголя кто только не писал у нас сатиры на тему плохого устройства «земли русской». Вот и Никса тоже мог бы. Но не судьба. Смерть Никса освободила дорогу к власти второму из сыновей Царя-Освободителя (известному под прозвищем Саша-Медведь), а заодно и его среднему сыну по имени Николай (тут имел место странный повтор ситуации: старший сын царя Александра Третьего, Георгий, тоже скончался). А мамой нового наследника престола Николая Александровича стала всё та же принцесска Дагмара из Дании — ну, не должно добру пропадать, правда ведь? А с другой стороны: кто её замуж-то возьмёт, раз она буквально вдова невенчанная?! Сами-то подумайте... Да и девушка была хорошая!
Именно от неё Николаю Второму и передалось те качества, за которое его станут называть «интеллигентом на престоле» — прежде всего демократизм и доброжелательность. Ну, простой он был человек, простой и незлобивый. Но и тот факт, что волей гнойного менингита императором стал именно он, а не кто-то другой из большого семейства, тоже чем-то неприятным ему не виделся. В конце концов, его ведь тоже с самого начала в цари не прочили, поскольку царём должен был стать его старший брат Георгий, тоже рано призванный в лучший из миров. Да мало ли волей чего мы тут правим Россией, правильно?! Да у нас в Зимнем дворце и не такое бывало, — например, в веке «осемнадцатом»! Вон, в той же Австро-Венгерии с принцами Габсбургами, которых была толпа под сто с лишним человек, вообще никто не считается — император Франц-Иосиф держал власть единолично (на пару с любовницей Екатериной Шраат, по профессии — акушеркой), а с некоторыми из родственников он даже и знаком толком не был. Иной раз, увидав очередного принца в золочёном мундире, этот весьма и весьма пожилой император прямо так и спрашивает: «Это хто такой?» — А мы в России… ну, будем считать, что нам ещё немножко повезло. Мы тут в принцах, как в сору, не копаемся.
Надо сказать, что династия Романовых делилась только на кланы Николаевичей (к которым относился покойный принц Никса) и Константиновичей (к коим относились все остальные Романовы), и при прежних «хозяевах» в Императорском доме Романовых царили нравы относительно ещё вегетарианские. Ну, разок скушали одного из крупных Константиновичей, обозвав его сумасшедшим и сослав в Ташкент наместником. Ведь он и вёл себя не всегда прилично, и на трон в Болгарии претендовал, и вообще рассматривался как старший из принцев в момент смерти своего двоюродного родственника Никса, ну и шайтан с ним! А с кем не бывает? В конце концов, он ведь сам загремел под суд, круто разругавшись с отцом, у которого завелась душечка-балерина (кстати, внебрачная дочь актёра Каратыгина), а ещё с немкой-матерью, любовницей Штрауса, — отношения с ней вообще ни у кого из Романовых не ладились… Зато потом!
А потом-то господ Романовых стало больше, и вместо двух «с половиной» семей, в которых состояло в общей сложности человек двенадцать пять, не больше, появилась так называемая «великокняжеская свора» или «собачья семейка», как называл это семейство несчастный ташкентский наместник Николай Константинович, — и, хоть почти они все и происходили всего лишь от трёх последних императоров, двух Александров и одного Николая Первого, тем не менее это была целая династия из шестидесяти великих князей и прочих персон императорской крови, половину из которых русское общество называло как в старь «княжатами». Ну, а в дальнейшем семья Романовых стала превращаться в полноценный «коллектив» родственников, а коллектив развивается по своим социальным правилам, часто не очень привлекательным.
Во-первых, корона на голове вовсе не гарантирует, что не вырастет из принца свин (если принц свинёнок). А во-вторых, 20 любого коллектива — хоть князей, хоть сантехников — это «свиньи», а в известных обстоятельствах процентное соотношение «свиней» и людей может и вовсе складываться не в пользу последних. Друзья-то приходят и уходят, а враги накапливаются, правда ведь? К тому же есть такой принцип — «что знают трое, то знает свинья» — другими словами, ты ещё можешь надеяться на дисциплину и вменяемость трёх или пяти членов своего сообщества (в разведке и в мафии предпочитают опираться на «пятёрки»), но когда сообщество разрастается до шестидесяти с лишним «голов», то уже ни на что надеяться вообще нельзя. Тебя там запросто запродадут за полцены, как никуда не годного полудохлого хряка на базаре, и даже не поперхнутся. Да и ты, обитая в таком «коллективе» (вернее, на этом «скотном дворе») тоже рано или поздно скурвишься как свинья, а потом вообще озвереешь, как император Тиберий:
«Служи Риму, Калигула! Хотя народ его — гнусные свиньи!»
Как тут не докатиться до примитивного террора в сталинском стиле?! Ну нет же, нет! Террор тогда воспринимался как нечто до крайности неразумное и свойственное в основном определённым историческим эпохам, — например, эпохе Возрождения, — а террор против родни и своего ближайшего окружения был и вовсе немыслим. У нас же не Римская империя, правда? А Россия всё подобное пережила в веке «осемнадцатом», и возвращаться в «славное» прошлое ко временам мятежей и дворцовых переворотов уже никак не собиралась. Императоры много раз сталкивались с нешуточной «фрондой» и «дворцовыми партиями», интересы которых почти не поддавались осмыслению, но предпочитали относиться ко всему этому просто и вполне терпимо — «по-вегетариански». В конце концов, всегда можно договориться, правильно? Можно убрать подальше гонористых мужей из старинных московских кланов, князей да бояр всяких, и можно заполнить кабинеты сената и генштаба удобными культурными немцами из Прибалтики, правильно? Они люди способные и часто по-настоящему преданные. И вполне можно создать разумную систему движения по чинам, которая выведет на высокие должности многих выходцев из мелкого дворянства или даже простолюдинов. Романовы тоже не всегда царями были, правильно? Система любит равновесие, однако не зацикливаться же на одних и тех же? Мы это видели в веке 18-м, и повторять «подвиги» годов Екатерины или — тем более — Анны Иоанновны нам вовсе как бы необязательно. И надо держать в узде принцев Дома Романовых. Вот они и есть самая большая проблема правящего семейства. Много их слишком.
Конечно, заводилами в семействе Романовых по-прежнему были Николаевичи с их саженным ростом и чудесными экстерьерами — это были прямые потомки Николая Первого, люди декоративные, этакое украшение династии. Вообще-то, их надо было бы на Варшавском вокзале выставлять в качестве украшения — пусть машут фуражками уходящим поездам, — но вместо этого им были даны высокие чины, посты и династические звания... А зря! Ведь наиболее масштабными и интеллектуальными в семье считались те же Константиновичи, династические генерал-адмиралы флота, а затем и авиации. Но главными «горланами и главарями» теперь выступали младшие отпрыски дома Романовых — те самые, которым почти не полагалось дворцов, чинов, корон и генеральства. По их милости новый государь Николай Второй ходил буквально оплёванный с ног до головы. Они говорили:
«Слышь, ты, царь! Чё ты меня в очередной гусарский полк суёшь? Я тебе — кто, лошадь, что ли? Назначь меня фельцехтмейстером, или на худой конец дай мне гвардейскую дивизию! И убери ты этих семинаристов, которые нынче все до одного в генеральских погонах шастают. А то куда в гвардии не сунь нос — ладаном пахнет и чернилами. А в армии вообще только они и командуют! Так глядишь, мы тут с такими генералами все до демократической революции допрыгаемся, а потом — кувырк с твоей головы корона! И всё!!!»
Вы посмотрите биографический справочник Залесского «Полководцы Первой мировой» и сами удостоверьтесь: к началу 20 века армия Николая Второго (как и общество в целом) демократизировалась так, как это не произошло даже в весёлой Австро-Венгрии, где цыган мог стать фельдмаршалом, а еврей — графом. При Николае Втором на ведущие роли в Империи быстро выдвигались люди, не имевшие ни роду ни племени. Доходило почти до смешного: в своих воспоминаниях генерал Деникин, сам внучок крепостного, писал, что знавал по службе несколько десятков евреев-выкрестов, некоторые из которых стали впоследствии генералами. И это, между прочим, в стране, где власть нередко занимала определённо антисемитскую позицию. Смешно, не правда ли?
Тут надо бы согласиться с мнением одного из критиков николаевского режима: конечно, сколько бы революционно настроенными не казались эти товарищи, сколько бы они не читали белинских, марксов и прудонов, однако попав на царскую службу, они сразу же усваивали модель поведения в стиле «Тащи и не пущай!», — и следовали этой модели даже там, где в этом не было никакой необходимости. (Отсюда и ядовитые сатиры Салтыкова-Щедрина.) Однако от «закваски фарисейской» этим сановникам и генералам избавиться было уж ой как непросто. Всё-таки на их молодость приходился расцвет народнического движения, а такое шило ни в каком в мешке не утаишь. В конце концов, именно по их милости «интеллигент на престоле» вынужден был от престола отречься, и именно они дружным строем пошагали на службу им же устроенной Февральской революции, провозглашая Свободу, Равенство… и — созыв Учредительного собрания! О так называемом «братстве» как о самой необходимой части новой демократической традиции они даже и не заикались — пустое это, батенька.
Вспомним, с каким настроением написаны знаменитые «Записки о Первой и Второй Государственных Думах» земского деятеля князя Владимира Оболенского. Их печатал в годы Перестройки журнал «Наука и жизнь». Так вот, этот знатный князенька из Рюриковичей изображал Первую, абсолютно мирную «булыгинскую» Думу как этакий русский Конвент, который вот-вот поднимет всю страну, и страна, взявшись за топоры, побежит искать какую-нибудь Бастилию, — например, Литовский замок — снесёт её к чёрту и, размахивая отрубленными головами палачей и тиранов, хором начнёт распевать «Марсельезу». Я б сказал — не очень смешно! Особенно приятно было читать, как революционный князинька свидетельствовал о визите в ГосДуму Николая Второго — найдите в тексте. О том, что революционно настроенная русская интеллигенция всегда отличалась воистину «поповской» нетерпимостью к чужому мнению, писали многие из критиков николаевской России. Революционность — как и прочие «заветы отцов» — исключала «братство» как таковое. У нас тут братьев нет, говорили революционные депутаты всех мастей и их сотоварищи из числа госаппарата бывшей Империи, а есть только друзья и враги. Это воистину манихейское деление на «белых» и «красных» являлось отличительной чертой всей нашей февральской революционности, а в дальнейшем и октябрьской. Вместе с демократизацией правления и со значительным упрощением общественных отношений в нашу страну пришла гражданская война.
Ну, а чтобы эта война началась как можно скорее, отечественные манихейцы решили обойтись без какого-либо президентства и даже без постоянного правительства. Они забабахали Учредительное собрание, предоставив каждой «твари по паре» право участвовать в судьбе родного государства. Кстати, «учредиловка» — то была идея, явившаяся прямо из времён народничества, и первоначально она выглядела примерно так: вот соберётся вся Русь-матушка горемычная, весь народ православный, все-все придут на звон колокольный (даже Кащей Бессмертный примчится верхом на скелете царя Николашки Окаянного) и сядут они в палатах светлых и станут думу думати и придумают-таки соборно, как жизнь нашу украсить — и чтоб мужик не стонал и не плакал, и чтоб капитал «его препохабие» не высовывал свой еврейский нос из-под коряги, под которую мы его всем миром загоним. А никакого президента у нас на святой Руси не будет, а буде «соборность», и царя не буде, а буде «народность». А чё будет-то на самом деле? А будет на Руси правление, принципы которой излагались в «Голубиной книге» Стеньки Разина — то есть вольный казачий круг во главе с Соловьём-Разбойником, а вместо двуглавого орла будет у нас трёхглавый Змей-Горыныч. Поняли?
Такая вот русско-народная халтура на тему всенародного счастья и социальной справедливости. Теперь уже нет смысла доказывать, что у нас всё примерно так и получилось, притом уже безо всякого Учредительного собрания. Левые социал-демократы разогнали это сборище при первой же возможности, тут же взяв курс на создание «мужицкой» державы под комиссарским руководством — это был гибрид Парижской коммуны с «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным». Но ведь и ставка на смуту и «топор» как «заменитель правды» и «инструмент диалога сторон» тоже ведь была придумана интеллигенцией 60—70-х годов 19-го века, той самой, из которой вышли многие общественные и государственные деятели эпохи последнего императора Российской империи, тоже, между прочим, интеллигента. А горькая ирония всей этой ситуации в том, что в стране, а которой принято было любить, скорее уж, не царя, не поэта и генерала и даже не купца-капиталиста, а — мужика, настоящим ангелом-хранителем Императорского дома оказался… да-да, он самый, мужик, притом — такой как есть. Пятьдесят лет революционные интеллигенты хором орали: «Проснись, силушка народная!» — и он проснулся.
«Гришка-Асахара»
У всех похожих людей история простая — им часто приходится оправдываться в стиле «не был, не знаю, не привлекался». — И не то чтобы правосудие имеет к ним много вопросов, — как правило, вовсе нет. Просто их отношения с законом выглядят довольно парадоксально, ну, а правосудие шарахается от них как чёрт от ладана. Вспомним, сколько раз попадал в поле зрения полиции преподобный Сёко Асахара, лидер японской секты «Аун синрикё». Да его знали как облупленного! Знали все организации, к деятельности которых этот ангел имел отношение, и всех его спонсоров и духовных покровителей, коих, кстати, всякий раз оказывалось немало. Тем не менее это ему совсем не мешало заниматься незаконной деятельность, общаться со всякими деятелями из религиозных и промышленных кругов японского государства и вообще считаться «просвещённым старцем», которому чуть-чуть осталось до последнего поворота колеса Сансары, после чего и Вишну, и Кришна и Шива, и все прочие идолы запросто признают его за своего и родного и вознесут на крыльях в страну Шамбалу. Но он возмечтал стать религиозным диктатором Японии, за что и расплатился своей свободой. Он посажен пожизненно. А по некоторой версии событий уже и повешен. Так же и наш Распутин, некто Григорий, а по отчеству Ефимович.
Как в Государстве Японском уважаемо быть «просвящённым старцем», так в Государстве Российском никогда не зазорно было искать бога в самых неожиданных местах его пребывания, притом и то, и другое представляло собой нечто среднее между цирком и фармазонством. Первые проявления талантов Григория относятся к его счастливому детству — он лечил «внушением» заболевшую скотину. Хорошо что не иглоукалыванием, как это делал с кошками маленький Асахара. И как Сёку Асахара с младых ногтей был «друг стакана», так и Григорий с 15 лет пил водку, и пил хорошо, а пьяный дрался и сквернословил на всю Тюменскую губернию, в коей, — в селе Покровском, он и родился где-то между 1864 и 1872 годами. Уцелели метрические книги волости за 1862—1868 годы, в которых отмечено рождение нескольких детей у местного жителя Ефима Яковлевича Распутина. В записях Всероссийской переписи населения за 1897 год тоже есть упоминания о «старце» Григории. Григорий Ефимович в тот момент указал, что ему 28 лет. Если верить сказанному, то получается, что родился он в 1869 году, однако возможно, что ясный сокол был всё-таки на несколько лет старше. Грамоты Григорий почти не знал и в датах не разбирался. Впрочем, день рождения своего он знал неплохо — благодаря церковному календарю.
Отец преподобного Асахары тоже был очень традиционным и малограмотным человеком — он плёл татами, жил в плохости и низко-пренизко кланялся всем сильным мира сего, обращавшим внимание на его приверженность старине и японским традициям. И жили они тоже не где-то в центральных префектурах Японии, а на самом дальнем южном островке возле Кюсю, где, собственно, кроме старины и традиций ничего и не бывало. Впрочем, на этом сходство между великими жуликами заканчивается. На тот фигов остров, на котором родился Асахара, даже птицы не залетали, потому-то преподобный и рвался из кожи вон, добиваясь денег и всеобщего внимания. А село Покровское было наоборот местом небезызвестным. Побывал там ссыльный Александр Радищев, прокатились через те места многие декабристы, а потом и несчастный Фёдор Достоевский, побывала там Елена Дьяконова, та самая Гала, жена Сальвадора Дали.
И ещё!
В реке Туре, прямо возле этого села, был злодейски утоплен большевиками епископ Гермоген (Долганёв), тот самый, один из покровителей Григория. Смешно, не правда ли? А ещё этот же владыка Гермоген прославился тем, что был в прежние времена инспектором образования в Тбилиси и курировал духовные учебные заведения. Так вот, под актом об отчислении из семинарии некоего Джугашвили стоит его, Гермогенова подпись. Сам Распутин рассказывал не менее интересный анекдот о «божьем провидении». В молодости Гришка был ямщиком и возил до Тюмени и Тобольска разных «государственных» людей. Так вот, одним из его пассажиров оказался тогдашний ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Сергий (Старогородский), в прошлом — руководитель русской православной миссии в Японии, а в будущем — второй по счёту советский патриарх. Когда в 1904 году Гришка Распутин приехал в Санкт-Петербург, он поселился… как вы думаете — где? Да-да, у Сергия Старгородского, в общежитии духовной академии.
В начале 20-го века в селе Покровском было под 300 дворов, две церкви, школа, речная пристань с телеграфом и фельдшерским пунктом, и казённая контора. Жили хоть и патриархально, но очень неплохо. У Ефима Яковлевича Распутина был дом из восьми комнат, двенадцать коров, три бычка, полсотни голов другой крупной живности и полный курятник несушек. И — полный дом кошек, кстати сказать! И Григорий Распутин тоже всю жизнь был самым страстным «кошатником». Местная контора подсчитала, что доход в их волости ровнялся примерно 30 рублям на члена семьи (и не менее чем по рублю на кошку-мурку) — неплохо, не правда ли? В многочисленных обанкроченных «кулаками» и часто в дрыну спившихся больших сельских общинах центральной России о таких деньгах только мечтали.
Но это ведь была Сибирь, притом «самая изначальная», через эти места Ермак прошёл, а следом за ним — все воеводы и атаманы, присоединявшие Сибирь к России, так что нищих да убогих в Покровском никогда не водилось. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что сохранилось немало фотографий, на которых увековечился и молодой Распутин, и его сестра Параскева, девушка симпатичная, но — типично русская «кулачка», и их родители, и дети сестры, и соседи, и даже местный дьякон Митрофанов. Это откуда же в их сибирской деревне взялся фотоаппарат, вещь в те годы дорогая и в Сибири очень редкая? Может, у крестьянина Ефима Распутина не было «Кодака», но у дьякона — был точно.
Откуда «пришли» Распутины в Покровское?
То доподлинно известно. Так вот, тюменский краевед Смирнов «раскопал», что Гришкины предки носили фамилию Фёдоровы и проживали в селе Палевицы Яренского уезда Вологодской губернии (сейчас это Сыктывдинский район Республики Коми), а в Сибирь они направились вместе с самой первой волной переселенцев, следом за первопроходцами края — в первой четверти 17 века. «Пионеры прерий», как их назвали бы, родись они в каком-нибудь диком штате Америки. Пращур Гришки Распутина Изосим Фёдоров числился в 1657 году крестьянином Покровской слободы. Жил с женой и тремя сыновьями — Семёном, Насоном и Евсеем. О Семёне Фёдорове и младшем его брате Евсее можно сложить целый роман в стиле Майн-Рида и Фенимора Купера (если б это была дикая Америка, а не наша Тюменская область) — считается, что они прожили беспокойную и очень увлекательную, полную приключений жизнь, — но нас интересуют в данном случае сыновья среднего из братьев Насона — Филипп и Яков. Именно они и стали зваться Распутиными, и, вероятно, от семейного прозвания Распута — грязь, распутица. Куда их носило по распутице и зачем, история умалчивает.
Судя по фотографиям, Григорий был очень похож на своего отца. Похожесть на кого-то не может достоверно свидетельствовать о личных качествах человека. Но это всё-таки подчёркивает некую человеческую индивидуальность. Отец — бородатый, цыганистый, с «хозяйским» взглядом. Так глядели только сибиряки да «кулаки» — то есть материально независимые хозяева-единоличники. Зато его фамилия действительно — почти документ с печатью. Если жулик Сёку Асахара звался на самом деле Тидзуа Мацомото и очень не любил, когда вспоминали его настоящую фамилию (она переводится примерно как Сосновский), то Распутин — это действительно родная фамилия, а не «псевдоним», взятый ради «красного словца». В метрических книгах села Покровского эта фамилия встречается аж семь раз, притом все жители села делились на «старожилых», «пришлых» и «ссыльных», а семья Распутиных считалась именно «старожилой», а не какой-то другой.
Можно предположить, что на местных кладбищах похоронено не менее трёх поколений этой семьи. Интересно, не правда ли? Кстати, одна из записей за 1862 год зафиксировала брак Гришкиных родителей — Ефима Яковлевича Распутина и Анны Васильевны Паршуковой. В той же книге есть записи о бракосочетании Григория с Прасковьей Васильевной Дубровиной, уроженкой соседнего села Дубровное, и о скором рождении у них сына Дмитрия и дочерей Матрёны и Варвары. Как не трудно догадаться, родители очень постарались, чтобы женить сына. Больно уж он шумел, пил и распутничал (согласно своей фамилии). В соседних сёлах, куда парни из Покровского ходили за девками, и где нередко устраивали «махач» с местными парнями, за Григорием прочно закрепилось прозвище «Гришка-вор». Да и девушку ему сосватали из семьи очень бедной и даже по местным понятиям «бесфамильной» — их село называлось Дубровное, вот и фамилия Прасковьи тоже была Дубровина. А откуда они пришли — было уже неважно. Она была старше Григория на целых три года. Мамка Распутина использовала Прасковью как работницу и относилась к ней с воистину русской патриархальной жестокостью. В их доме плеть висела на самом видном месте.
Тайны молодого Распутина
Тогда-то, в молодые годы, Гришка и уразумел, кто в доме «хозяин», и что надобно, чтобы стать таким же «хозяином» в своём собственном доме. А своего-то дома у Гришки с семьёй как раз таки и не было — вот в чём проблема. И ещё! Он родился 9 января — на день святителя Григория Нисского, одного из трёх идеологов византийского православия. Причём здесь православные идеологи? А дело в том, что 9 января рождаются люди со «скорпионьим» темпераментом и — «умеющие использовать очевидные слабости других». Но всем известно, что использовать чужие слабости можно только в одном случае — если ты и сам ими «слаб», и прекрасно отдаёшь себе в этом отчёт.
Помимо бесконечных измен в стиле анекдота: «Мужик покупает в сельпо бутылку водки, закуску, а потом, немного подумав, спрашивает пачку презервативов. Продавщица — ему: “А зачем? Светка уже взяла!”» — были в их селе и другие тайны — «нетрадиционные». Потом, пребывая в качестве послушника в сибирском Верхотуринском монастыре Гришка чуть было не станет любовником (нательником) двух местных священнослужителей, отцов Сергия и Иосифа. Кто они были такие и чем вся эта эпопея закончилось, толком неизвестно, однако влечение Григория Распутина к мужчинам было делом столь же обыкновенным, что и к женщинам. Видите, каким «передовым» человеком был простой русский старец крестьянин Григорий Ефимович?
А была и другая сельская тайна, кроме частых измен. Считается, что Гришка Распутин являлся членом шайки конокрадов. Многие потом говорили, что это миф, сельская сплетня, порождённая всеобщей завистью и соседскими подглядками. Однако это информация появилась не просто так — это было сказано односельчанином Распутина, неким Ильёй Картавцевым, утверждавшим, что как раз по этой-то причине Гришка и слинял из деревни, оставив и жену, и двух дочерей (его сын в том же году умер). Местная полиция задержала злоумышленников, коими оказались буквально соседи и родственники пострадавших, всех задержанных приговорили к публичному дранию задницы, но как раз Григорий-то этого наказания и избежал. В 1915 году одна из сибирских газет напечатала об этом случае материал в полколонки — типа знай наших! — но Григорий Распутин обратился к редактору и попросил привести факты — докажи, мол, любезный. Газета ничего доказать не смогла и редактор поспешил извиниться перед авторитетным земляком. Сам же «старец» никогда не скрывал, что жизнь у него была шумная и весьма разнообразная. Недаром же одно из наиболее подробных описаний его внешности хранилось в полицейских анналах Тобольска и Тюмени.
Итак, в каком-то году (а точно датировать эти события не смогли ни попы, ни жандармы) Григорий Распутин становится жуликом. А именно — «ходоком по трудным местам» — он ходит туда да сюда, общается с полезными людьми, ищет бога и «взыскует града» в церквях и постоялых дворах Российской империи. Этим занятием занимались сотни тысяч тогдашних россиян, как верующих, так и не очень. В старину их называли «каликами перехожими». Вполне возможно, что Григорий пользовался некими «связями». Населения в тогдашней Западной Сибири было немного, поэтому каждый кабак и притон были известны на сто тысяч вёрст в округе — буквально: «Будешь в Тюмени, айда в трактир “Кедровка” и спроси Ефрема — это жены Егора Дырина брат. Он тебе всё что надо и расскажет. А ко мне не ходи! У меня тут — свято».
Ну, а куда такие связи могут привести, известно из тех же анналов губернской полиции. Например, считается, что Григорий Распутин был замечен в связи с деятельностью запрещённой в России секты хлыстов. Кто такие хлысты, или «христоверы», как они сами себя называли? Это деструктивная секта тоталитарного толка, со строгой конспиративностью и внутренней дисциплиной, имевшая близкое отношение к бизнесу, притом к самому настоящему русскому — патриархальному, бородатому, купеческому. А появились хлысты во времена столь незапамятные, что одна только дата смерти почитаемого у них «пастыря» Данилы Филипповича, и та заставляет присесть и задуматься — 1700 год! Здесь самое интересное, что одно из ответвлений этой «конторы» имело прямой выход «наверх» — в начале 19-го века им оказывал протекцию «сам» министр просвещения князь Александр Голицын, столичной «кормщицей» у них служила Екатерина Татаринова (урождённая баронесса Буксгевден), а одним из наиболее известных адептов оказался художник Боровиковский.
Нам известно, что эта группировка как-то устояла после полицейского разгрома, устроенного ей Николаем Первым, и продолжала функционировать даже тридцать лет спустя. Кроме того, нам известно, что были другие группировки этого толка, в которых состояли, например, любимые племянники графа Милорадовича, а также кавалергардский подполковник граф Фёдор Уваров, он же сибирский старец Фёдор Кузьмич, но об их деятельности мы знаем только из жандармских донесений. Трудно сказать, существуют ли хлысты-христоверы сейчас, но в те времена целые города России — в Поволжье и в Сибири — буквально контролировались хлыстами и прочей нечистью примерно этого же толка. Как нетрудно догадаться, хлыстовство и все прочие похожие течения зародились в середине 17 века где-то на периферии старообрядчества и замечательно с ним соседствовали.
Эту религиозную организацию — или, вернее, окружающий её социум — очень интересно описал Максим Горький в третьем томе романа «Жизнь Клима Самгина» (там одна из героинь повествования, богатая купчиха Марина Зотова, является лидером общины хлыстов — «кормщицей корабля»). И весьма подробно (как бы в укор Мельникову-Печерскому) описано их «богослужение», в котором участвуют не только беглый убийца, работавший дворником у «кормщицы», и не только неграмотная прислуга, но и люди вполне благородные, — например, богатая женщина из Петербурга, жена американского судовладельца. Кстати, хлыстовское «богослужение» могло заканчиваться свальным грехом, а уж там кто благороден, а кто неблагороден, значения не имело.
Там имели значения совсем другие качества и навыки
Обычно Российскую империю считают страной, в которой преследовалось иноверчество. Ну да, иногда преследовалось. Но, в принципе, секту хлыстов никто не трогал. Их было очень много, и в хлыстовской среде наверняка водилось немало информаторов, поэтому при желании можно было одним махом позакрывать половину из действующих «филиалов» этой богатой и очень шумной организации. Тем не менее царские сатрапы как-то не спешили хватать их за цугундер. В то время за решётку можно было попасть за пропаганду хлыстовства или за тайный сбор денег в пользу организации, но за принадлежность к секте сажали нечасто.
В 1903-м году Тобольская Духовная консистория, ведомство в те годы чрезвычайно серьёзное, проводила своё «внутреннее» расследование на предмет Гришкиной принадлежности к местному «филиалу». Но вот тут получилась незадача. То ли руководство местной епархии было близко знакомо с Григорием, то ли Гришку сильно возлюбили на просторах Тобольской губернии, однако наскрести на него компромат так и не удалось. Все знакомые царского фаворита заявили, что он — «муж честный и глубоко верующий», и в сектантстве никак не замешан, и вообще — чист, аки голубь. Да хоть молись на него, встав задом кверху, как рак на мелководье. Ну нет же! В ходе расследования обнаружилось, что Распутин и пьёт, и устраивает в бане свальный грех с бабами, и вообще человек он чрезвычайно шумный, но о принадлежности к хлыстам это никак не свидетельствовало. Повторно к этому делу обратились в 1912 году по требованию Государственной Думы — в год, когда в Российской империи разрешили функционировать масонским ложам и когда Григорий стал уже не просто фаворитом царя, а почти богом во плоти. Следствие вели «знатоки» — поп Никодимом Саврасов и протоиерей Дмитрий Смирнов, оба служившие в Тобольской консистории.
По существу, это были следователи, а не священники. К делу также привлекли Д.Б. Берёзкина, инспектора Тобольской духовной семинарии. Был запросто обыскан дом Распутина в селе Покровском, а потом допрошены подозреваемые в вредном «недоносительстве» — то есть те, о ком знали, что они участвуют в радениях. Результат — близок к нулю. После чего Тобольский епископ Антоний (Кержавин) постановил произвести доследование по «делу», поручив его опытному миссионеру-священнослужителю. Зачем это нужно было делать? Был бы Распутин просто пьяным «тусовщиком» — это ещё ничего! Но он-то претендовал на святость, а святость — дело серьёзное. В России свят ты или не свят, решают их преосвященства епископы. К тому моменту за Гришкой Распутиным уже вовсю следили. Кто следил? Во-первых, у «святого» не сложились отношения с полицмейстером столицы, а затем и с полковником Герасимовым, начальником по секретной части, а ещё им заинтересовалась контрразведка в лице в то время ещё полковника Оскара Карловича Энкеля (это будущий русский генерал-лейтенант, а потом, после 1917 года, начальник генштаба Финляндии). Вредный сыщик полковник Герасимов тайно интересовался прошлым Распутина, а полковник Энкель не скрывал, что Гришка у него «попадёт под трамвай». Однако же принадлежность «божьего человека» к сектам доказать всё-таки не удалось.
Даже переданное по службе письмо царской сестры Ксении, в котором Распутин прямо обвинялся в хлыстовстве, и то не возымело никакого действия. Тогдашняя Россия была уважаемой империей со всеми признаками «правового государства», поэтому письма высочайших особ никем всерьёз не рассматривались. А на вопрос же всем известного генерала Алексеева: «Что вы, ваше величество, находите в этом грязном мужике?» — император Николай запросто ответил: «Я нахожу в нём то, чего не вижу в большинстве наших священнослужителей».
А нам не страшно!
Есть на Руси старинная такая забава — «играть в Гришку». Что значит «играть в Гришку»? И в какого Гришку? Знамо дело — в Гришку Отрепьева! Таким образом, «играть в Гришку» — значит быть самозванцем. Например — липовым ревизором в уездном городе или же маклачить липовыми лекарствами на провинциальной барахолке. Преподобный Асахара путешествовал по Индии, довольно долго торчал во всевозможных кружках и сектах, из которых его всякий раз выдворяли за пьянство, а потом успешно торговал «лекарствами» — от импотенции, от паранойи, от неудач на Токийской фондовой бирже. Тем не менее преподобный дважды сидел в тюряге за обман и очковтирательство, и к моменту своего долгожданного прыжка наверх, прямо на самую вершину общественной иерархии Японского королевства, он давно воспринимался как жулик, каких ещё поискать надо. Но кому-то он очень нравился, этот шулер с его пилюлями от всех болезней, поэтому даже сейчас о преподобном Асахаре известно далеко не всё. А впрочем, ну его в болото!
Наш Гришка Распутин тоже промышлял чем-то очень подобным — и заговорами-наговорами, и «лечением» молитвами, и «святой водой», и даже знаменит был «светопреставлениями» в стиле «а вижу я сглаз на тебе и порчу такую, что и не уразумею, кто ж на тебя так обиделся, мать-перемать!» — У провинциальной миллионерши Башмаковой, с которой начинается восхождение Гришки во власть, а так же у глубоко провинциальных барышень в очках и стареющих купчих в шубах со стеклярусом подобные народные фокусы вызывали неизменный восторг и одобрение — в начале века «чудеса» были в большой моде, — но кочевать по интеллигентским гостиным в далёких городах и проповедовать Христа перед торговцами табаком и кожевенными изделиями было и скучно, и не доходно очень.
Ведь все деньги, они — там, в столице, в Петербурге или в Москве. Даже старая дура Башмакова, и та держит капиталы свои в процентных бумагах, а за процентами ездит на Пресню. Да тут ещё попы сильно-пресильно заедают, выискивая в кабаках всяких «святителей» и «чудотворцев». А как найдут, так сразу — в полицию! А в полиции «шьют» дело по статье шарлатанство. И не дай бог, в кармане лежит что-нибудь такое, что попам не понравится, — например, бумажки с еретическими текстами какой-нибудь «матушки» или «пророчицы» (а всевозможные сочинения, отражающие чьи-то религиозные или утопические воззрения — это отдельный пласт русской письменной культуры), или там спрятан портретик какой-нибудь, на икону похожий, или талисман какой-то на шее висит — «Этим, что ли, тебя мать благославляла, да?!» — И тут же — в тюрягу, клопов кормить. Ведь «церковь воинствующая» не просто так носила чёрный свой мундир. К тому же в Уложении о наказаниях уголовных были все необходимые статьи и пояснения, да и опыт их применения был достаточен — тебя, чудотворец, мигом запрут, ты только квакни!
Кстати, и граф Лев Толстой с его собственным пониманием русского социализма, и Лев Шестов, и Николай Бердяев, и Василий Розанов («Брехун, еретик и чувственник!» — как о нём иногда отзывались), и русский «космист» Николай Фёдоров со всеми другими «космистами» — Чижевским, Вернадским и Циолковским, и Николай Рерих с его самодельным буддизмом, и даже самая первая в этом ряду русская «матушка-пророчица» — она же «русский сфинкс» Елена Блаватская, тоже жулик ещё тот, — это люди в нашей стране далеко не чужие. Они — плоть от плоти и кровь от крови русского народа. Если б не мечтал горьковский Челкаш о какой-нибудь звезде или комете, да разве русские люди полетели бы в космос? А разве случился бы на Руси социалистический дебош 1917 года, не будь у нас утопических воззрений в стиле всем известных сказаний об «Опоньском царстве»? — Но светские фантазёры и господа учёные, конечно, не принадлежали к мистерии русского православия, поэтому самое «страшное», что попы могли с ними сделать, так это отлучить от церкви — иди, мол, в свой рай, там ты весь, а тут не шляйся!
Страшно ли было Гришке?
Да, страшно. Так можно и кандалами загреметь. Но он был сотворён из того же «материала», что и многие другие авантюристы, промышлявшие на поприще публичной «святости». Потом из этого же «теста» будет слеплен преподобный Сёку Асахара, однако каждый из них выбирал всё-таки свой жизненный путь. Сёку пошёл создавать секту и на этом деле поскользнулся, как на кожуре от банана. В общем-то, и Распутин, человек знакомый с неформальными конгрегациями, тоже был недалёк от деятельности на этом поприще. Но за ним стояло не только тёмное прошлое шута, конокрада и торговца БАДами.
Во-первых, ему было знакомо дореволюционное ЛГБТ-сообщество, а в гомосексуальной «тусовке» правят мэтры и «метрессы» не всегда голубых кровей. Это ведь не парад на Марсовом поле, а — затхлый «полусвет» или, вернее, «другой Петербург» Сергея Дягилева и Вацлава Нежинского, поэта Михаила Кузмина и будущего наркома Чичерина (а также циничных мужиков-банщиков, красивеньких юношей-парикмахеров и прочих «голубей» такого рода). Непричастных там не бывает, зато связи гомосексуалистов играют чрезвычайную роль в общественной жизни любого государства — и не только России. Кроме того, в Империи начался процесс упрощения нравов и обычаев — всё ж таки 20-й век на дворе! Класс господ уже значительно разбавился за счёт класса «рабов», всевозможные фирмачи легко становились камергерами, скрипачи и гусары штурмовали придворные Олимпы, любовницы были в цене и в огромной силе, а ещё недавно широко распространённые в Петербурге околополитические кружки и «тусовки», за принадлежность к которым можно было и тюремный срок схлопотать, теперь перерождались во что-то иное и новое.
Начался этот не скорый процесс ещё во второй половине 19-го века, в эпоху шквального нигилизма, существовавшего под лозунгом «человеку, как и скотине, всё дозволено», а также гремевшей в цивилизованном мире англо-американской промышленной революции. Под глубоким впечатлением от венских баррикад 1848 года и по причине не менее глубокого разочарования в революционных идеях люди стали больше уделять внимание себе и своей «персональной» жизни, — например, сексуальным отношениям. Притом Российская империя не была одинока в этом странном стремлении «жить хорошо» — ей немного фантазии не хватало, только и всего. Если представить себе тогдашнюю Европу, то эта картина выглядела бы примерно так:
Лондон увлекался педофилией и гомосексуализмом (а ещё скрытыми формами рабовладения, берущими начало в колониальных порядках),
в Берлине и в городе Гамбурге процветало большое БДСМ-сообщество,
Париж был городом «без комплексов и предрассудков», куда ездили «гулять с бабами»,
а столица «самой дурацкой в мире империи» цесарская Вена была этаким гей-курортом для богатых — ведь только там официально одобрялась гей-проституция всех мастей и расценок, и именно в столице Австро-Венгрии находились самые знаменитые в тогдашней Европе ЛГБТ-сообщества.
А что творилось у нас?
Говоря прямо — ничего не творилось. В плане секса и проституции Российская империя была по-прежнему скучна и до крайности несовершенна. Вот в плане политики — это совсем другое дело. Вот здесь мы бешено скакали впереди всей планете. Вот только … на чём? Или на ком? Но — однако же! После того как народовольческие «тусовки» обнаружились даже в Училище правоведения и в Морском корпусе, консенсус между властью и некоторой частью правящих кругов страны был окончательно утрачен. В конце концов, графиня Софья Перовская прикончила бомбой Царя-Освободителя, и следующий царь, на этот раз Александр Миротворец, объявил в стране «перемирие». Всем залезшим на стенку было предложено аккуратно спуститься на пол и заняться решением повседневных дел, — а то ведь живём не ахти как! — И в нашей стране произошёл уход в так называемую «русскую народность», представлявшую собой «козью морду» из тех же революционных народнических убеждений, только теперь вывернутых наизнанку и поставленных на службу обществу и государству. В Российской империи настало время «малых дел». Кстати, «эпоха малых дел» — это вполне официальное называние эпохи правления Александра Третьего. Интеллигентам предложили строить школы и учить детей грамоте, а не перевороты устраивать, и интеллигенты охотно приняли это предложение. Правил Александр довольно долго и это были весьма продуктивные годы в истории Отечества. Но самое главное достижение царя-миротворца — это была, конечно же, коренная перестройка русских финансов. А вместе с финансами заметно усилились и капиталистические настроения.
В год коронации Николая Второго русские барышни с суровым видом цепляли на нос синие очки и всем гуртом записывались в «эмансипэ», а не успевшие загреметь в ссылку дурно воспитанные семенаристы-нигилисты-полемисты уже не стеснялись хамства и цинизма, притом и те, и другие остро полюбили науку, религию, философию и… личную свободу! Что ж, «освободить» весь мир бывает не так уж и просто. А «освобождение» и правда лучше всего начинать с себя самого. А главное — деньги! «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа! А без денег жизнь плохая, не годится никуда!» — они золотыми жилами пронизывали все без исключения социальные отношения, и даже там, где прежде правила Пиковая дама, теперь утвердилась в правах «Катька» сторублевая. Но тут надо сказать, что не всё было так просто. Люди знатные и традиционных взглядов тоже денег никогда не боялась, — а как без них? — однако в скандальные аферы и спекулятивные операции бросались далеко не все из тех граждан империи, чьи кареты были украшены княжескими шапками, баронскими гербами и графскими коронами. Однако эти люди хорошо знали двор и все исконные его обычаи — многие из которых как раз зародились в игорном салоне пушкинской Старухи — поэтому деньги в их самом циничном амплуа стали восприниматься как средство быстрого проникновения в те участки государственного аппарата, где обнаруживались разные «интересы», а также где находились интересы делавших «карьер» разночинцев. И как встарь, при Александре, так и в начале нового 20-го века, главными проводниками в те служебные чащи и кущи были придворные фавориты — гусары, цыгане, «полудевы», некие скрипачи из румынских оркестров и юноши-девушки полусвета.
До появления Григория Распутина какого-то общепризнанного коррупционного, да и политического «явления» в российской столице не было. Были придворные с разной степенью крутизны и продажности, и были фигуры, так или иначе близкие к правящей элите — те же самые гусары и цыгане. Но так, чтобы «пришёл льстец и обольстил» — об этом в те годы могли только мечтать. Ну, разве ж только балерина Кшесинская смело делала свой «гешефт» с великими князьями, да и та находилась далеко за пределами всеобщего внимания. Вот и получается, что в начале 20-го века в Россию валом валили инвестиции из союзных стран Антанты, но никто — да-да, никто — не представлял интересы иностранных банков в Российской империи. В смысле, этих «представителей»-то было сколько угодно — даже Матильда Кшесинская, и та вела дела с иностранными банкирами, — но на практике всегда получалось, что в России никто за это дело как бы не отвечает. То есть как бы и обращаться не км кому. Но кто он, загадочный человек, которого так долго ждали? И какой он должен быть? Ну не с Кшесинской же вести дела, право же?! Она-то всего лишь балерина, и с бизнесом по-настоящему не знакома. А загадочный человек должен быть близко знаком именно с купцами, а не с балетом. Чем не Гришка Распутин, правильно?
Столичные миллионщики его, небось, заприметили уже в тот момент, когда он слез с подножки поезда на Московском вокзале и полез обниматься со знакомыми попами — «святой старец» Григорий, «человек божий, обшит кожей». А что в нём должно быть, кроме этого? Ну да, ведь не только деньги правят миром — правильно? Когда у людей много денег, на передний план выползают «секс, ложь и видео». В столице круглосуточно функционируют десятки светских салонов, в которых богатые и пресыщенные люди всех мастей и рангов, — в сущности, рантье, дураки и бездельники — наслаждаются обществом импортных спиритов, — а верчение столов нынче в большой моде. И всякие русские Матрёшки-Босоножки тоже туда захаживают прям как в богатый купеческий дом на окраине Сызрани или Царёво-Кокшайска, повергая в шок запахом крепкого русского алкоголя, и никто их в кухню не гонит — ведь это ж наша «русская мистика», волхвы, изиды и осирисы, исконная наша культура и первооснова всех первооснов!!!
А во-вторых, тот человек должен быть в некоем роде монахом, и монахом грамотным. Чтоб он и смотрелся хорошо, и человеком был вполне «демократическим», то есть не из князей. Но человека из попов — нам тоже не надобно. Был тут у нас красивый такой иеромонах Иллиодор (Труфанов), почти поп Гапон, только чуть поумнее, — образованнейший церковник из донских казаков и замечательный специалист по нечистой силе. Черти от него в ужасе разбегаются! Но увлёкся он высокой политикой, влез в отношения с православными антисемитами и вообще стал каким-то неродным и неровным. Какие тут могут быть антисемиты, если у нас половина банкиров — евреи? С печки он, что ли, брякнулся, этот иеромонах Иллиодор?! «Был у нас бал — чёрт с печки упал!» — Так пускай лезет назад на печку, а к нам — ни ногой! Ему всё ясно? Мы найдём себе совсем другого такого иеромонаха.
Ну, вот опять — чем не Гришка?
Человек он был абсолютно русский, но к евреям относился с абсолютным спокойствием — ты «бабло» гони, и баста тут. Что касается ещё одной стороны проблемы — его величество секса — то и в этом плане Григорий тоже не мальчик в коротких штанишках. Как-никак был он хлыстом, а там мальчики не очень ценятся. Питерская салонная «тусовка» густо населена неприличными юношами и женщинами, она глуповата и довольно распущена, с какой стороны на неё не смотри. Тут и раньше-то, при строгом Николае Павловиче, некуда было деваться от всякой беспутной публики, — да то и дело кого-нибудь от дворцовой службы с треском отставляли! — ну, а уж теперь-то, в эпоху повальной демократизации отношений, люди только об «энтом деле» и мечтают на всех великосветских мероприятиях. Свобода, мать её так за ногу!
В Петербурге даже «лежбище котиков» появилось — в смысле гомосексуалистов — чего вообще никогда раньше не было. «Котики имели свой променад» на одной из сторон Екатерининского канала и гуляли они там тёплым вечерком в широких пальто, в цилиндрах и непременно в лайковых шведских перчатках жёлтого цвета и при белых шарфах, повязанных особым образом, притом «котики», которые состояли на военной службе, пользовались большей популярностью, чем, к примеру, ловкие трактирные юнцы и красиво завитые мальчики-парикмахеры (вспомним портреты тогдашнего Сергея Есенина). Вот тут как раз старче Григорий-то Распутин с его опытом и пригодится, правда ведь? Он подходит к нравам «нового» Петербурга как «рука и перчатка» (по меткому английскому выражению). Но как бы «зафутболить» Гришку во власть? И как бы сделать из него того самого «лучшего друга короля», которому по средневековой английской традиции давалось право гонять стада овец через любые лондонские мосты и посты, а в случае преступления его можно было бы повесить только с большими извинениями и только на шёлковой верёвке?!
Вот это непросто!
Итак, в 1904 году «старца» Григория представили правящей элите страны как очередного ведуна и прорицателя. В стране, где религия была образом жизни, не могли не относиться всерьёз к ведунам и прорицателям. Это ж, ясен пень, «волхвы и осирисы»! Вам всё понятно? Сперва с Григорием «знакомились» в салонах, близких к бизнесу и старообрядческому движению, — например, в доме старосты Исаакиевского собора генерала Богдановича по прозвищу «Рычаг», — а потом настала очередь людей, представлявших госаппарат Империи. Продвигали «святого человека» такие любопытные люди — тобольский владыка Варнава (в миру Василий Накропин, архиерей из простых крестьян, буквально за несколько лет взлетевший из иеромонахов в епископы) и учёный ректор Петербургской духовной академии Феофан (Быстров, один из друзей царя). Вот последний-то и свёл его, в конце концов, нос к носу с безусловным лидером романовского клана Николаевичей — с великим князем Николаем Николаевичем. А тот, в свою очередь, выпил с Распутиным литр водки и быстро «дослал шар» прямо в «лузу». Все Романовы знали, что после знакомства с отцом Иоанном Кронштадским (в миру Иван Сергеев) у правящего семейства наблюдалась неумеренная тяга к православным чудесам и кудесникам. И популярный кронштадтский поп Иоанн в тот момент тоже громко рекомендовал «старца» Григория — выдающийся-де он странник и молитвенник, и такой человек, «чья молитва всегда богу угодна». Куда старца Григория запихивали? По существу, его толкали на должность второго домашнего попа царской семьи.
Первым и весьма многолетним домашним священнослужителем семьи Романовых был протоирей Иоанн Янышев, однако практика «приближать» к своей персоне других служителей культа была принята в Зимнем дворце ещё со времён царя Петра, так что Николай Александрович, став императором, немедленно возвысил своего личного духовника Ивана Рождественского, с которым гонял чаи с рогульками, а то и водочку пил, советуясь по всем общечеловеческим вопросам. После внезапной кончины отца Ивана Рождественского он на время приобщил к престолу позапрошлого духовника, служившего ещё при Николае Первом — столетнего старика, человека богатого и в делах многоопытного. Ну что ж, это была практика весьма отлаженная. Потом настала очередь двух новых духовников — протоиереев Александра Васильева (он тоже из крестьян, один из руководителей монархического «Союза Архангела-Михаила») и некоего Николая Кедринского, которого, надо сказать, очень не любили царские дочери. Вот где-то у них под ногами и должен был находиться этот новоявленный «человек божий» Григорий, «самородок» из «простых сибирских мужиков».
«Самородок» был беден, как все авантюристы, одет был в простой серого цвета пиджак с оттопыренными карманами, и всюду таскал с собой две большие кожаные рукавицы — «для кулачного боя». Конечно, попы и купцы вскоре поприодели своего «пророка» и превратили его в популярный в те годы «лубок» — на нём была то чёрная суконная косоворотка, служившая «мундиром» всех русских социал-демократов, то малиновая рубаха «со звёздочками», туго подпоясанная шёлковым шнуром, — но брюки его, как дружно свидетельствовали встречавшие на вокзале очевидны, сидели на Гришкиных ногах строго по-военному, без пузырей, а опойковые сапожки отличались невероятной красотой, чистотой и блеском. Шагал Григорий широко и уверенно. По словам тех же очевидцев, в одной руке он нёс огромный фанерный чемодан чёрного цвета, притом далеко не пустой, а в другой — узелок из чистой тряпицы, в котором хранился большой каравай деревенского хлеба и толстый круг деревенской колбасы. Одним словом, мужик приехал в город, и приехал — навсегда! Сколько ж их, таких же, как он, каждый день приезжало в столицу Империи?! Да по десять тысяч, небось. Ведь на то он и Питер, который «людям бока повытер»!
Появившись в столице, он поселился сперва в общежитии духовной академии, а потом — у епископа Феофана, с которым вёл длительные религиозные беседы. Далее его путь лежал к инженеру и придворному деятелю Лохтину, жена которого почти сразу стала горячей поклонницей «божьего человека». После Лохтина и проживания у известного в придворных кругах предпринимателя Лопатина Гришка поселился у чрезвычайно влиятельного журналиста Сазонова, прохиндея, каких ещё поискать надо. Притом духовных (и бездуховных) покровителей Григория Распутина совершенно не интересовали подробности его прежней жизни. Их даже не смутило то обстоятельство, что волынский епископ Антоний, раз взглянув на «старца», сразу его узнал: «Не верьте ему. Он в Казани пьяный на бабах ездил!» — нет, «божий человек» Распутин никак от его слов не пострадал. Знакомство с царской семьёй произошло 1 ноября 1905 года. Это был просто разговор за чаем. Почти ни о чём. Григорий показал себя собеседником простым, но хорошо знающим жизнь, и чрезвычайно почтительным.
Надо отметить, что тогда он был ещё довольно молод и ничем не напоминал те лохматые изображения, по которым судят о нём и его довольно-таки своеобразной внешности. А ровно чрез год в декабре 1906 года Распутин подает прошение на высочайшее имя об изменении своей фамилии на Распутин-Новый, ссылаясь на то, что якобы многие его односельчане носят ту же самую фамилию. Этим Гришка как бы перешёл в собственность семьи Романовых — точно так же, как это сделал некогда доносивший на декабристов уланский унтер Шервуд, ставший в один час Шервудом-Верным. Прошение домашнего любимца было удовлетворено.
Надо сразу сказать, что «старца» очень скоро невзлюбили. И дело даже не в зависти. Дело в корысти. Его толкнули наверх Николаевичи в лице царского генерал-адьютанта Николая Николаевича Младшего по прозвищу «Лукавый», но они же потом начали выживать «божьего человека» из дворца. Вообще же, Николай Николаевич был редкостным интриганом и провокатором, и каким образом он желал использовать Гришку — как девочку, или как мальчика? — никому не известно. Зато известно, что он получил с этого — ровно шиш (если не меньше)!
Распутин оказался лицом почти неподатливым. На него строчили доносы, против него возбуждали «дела», а в последствие перечисляли и все его пьяные загулы с бабами и без баб, а «старец» Григорий как бы отвечал своим поносителям: «Я — такой, да, но я такой и нужен!» — Надо сказать, что с императором он водку не пил, и вопреки тому, что о нём принято было говорить, с семьёй Николая Второго он обходился много тише и вежливее, чем тот же великий князь-кавалерист. Но ведь и Николай Николаевич — вот настоящий гусар! — тоже не был святым. Он много пил, отличался злым и мрачным юмором, был хамоватый такой товарищ, неприветливый, иногда агрессивный. Они с Григорием — как сапог с валенком: как ты их не крути, а всё едино обувь.



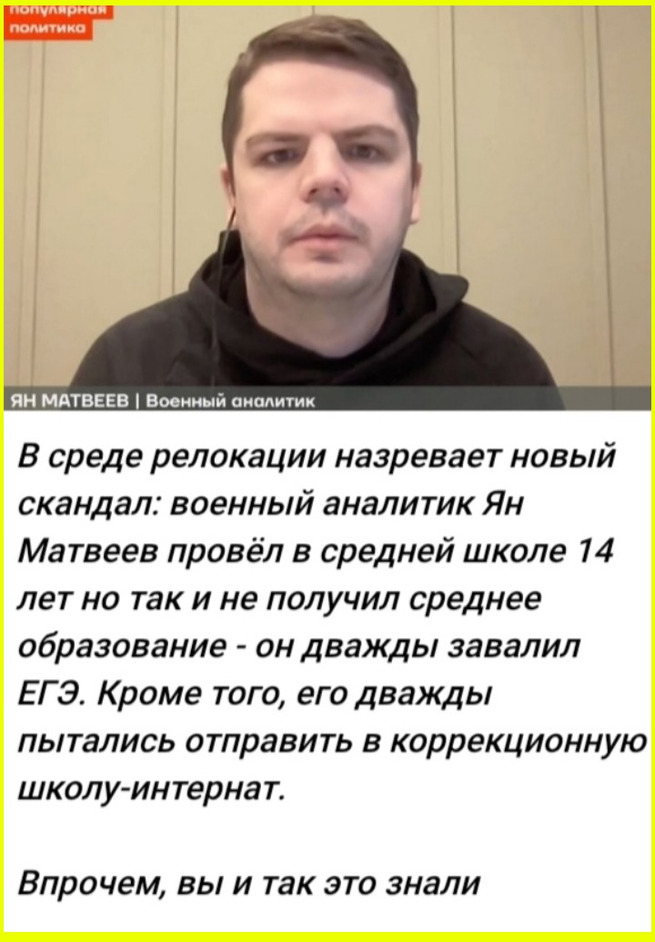

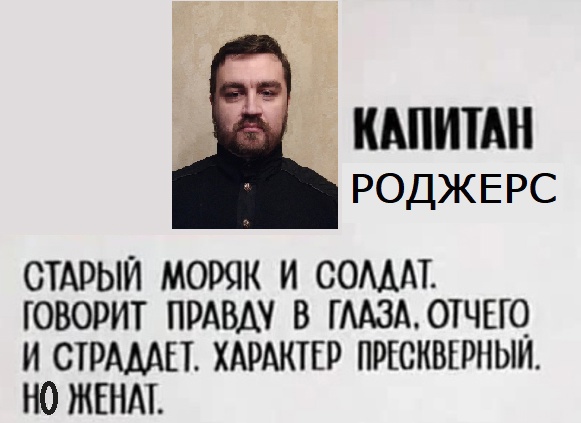




Оценили 15 человек
22 кармы