
Король
Итак, самый главный на Руси «враг народа» — некто Николай Александрович (фамилия у него очень длинная) — родился 20 октября под знаком Весов. «Император был человеком простым в общении, безо всякой аффектации... между тем, он имел чуть сентиментальное и совестливое простодушие старинного русского дворянина» — вот свидетельство одного из очевидцев эпохи.
Николай Александрович прекрасно говорил по-русски, каждый день выкуривал один небольшой портсигар турецких папирос и любил самую простую человеческую пищу (даже гречневую кашу). К примеру, царь Александр Первый предпочитал только немецкую еду (а ещё трубку покуривал и крепкие сигары иногда), а по-русски он говорил с иностранным акцентом, а Николай Первый и Александр Второй, большой любитель кальяна, предпочитали только дорогие ресторанные блюда — вот их гречкой не накормишь, не едят... Если Николая Первого ещё можно было накормить котлетами «под коньячок» с картошкой, то царь Александр Николаевич был очень разборчив и «что попало» не вкушал даже на охотах. Однако дичь нередко жарили прямо здесь, на костре.
Что увлекало Николая Александровича? Технические новинки — автомобиль и фотоаппарат. Автомобиль был в то время не столько новинкой, сколько предметом роскоши, тогда как фотокамер в тогдашней России было уже довольно много. Здесь надо отметить, что никто из европейских монархов начала 20 века так не «документировал» свою жизнь, как это делал Николай Александрович. После него осталось более тысячи фотоснимков. По тем временам это много. Есть даже такие фотоснимки, которые не принято публиковать. На них царь запечатлелся... в голом виде. И благодаря им мы знаем, что у царя было несколько больших татуировок — дракон, меч на груди и имя любимой супруги. До Николая Александровича татуировки из правителей России носила только Екатерина Вторая, что известно в основном из частных записок её любовников, и еще «татуха» в виде топора была у Петра Первого — вот и всё.
Также царь считается одним из основателей всего нашего почившего в 90-е годы всесоюзного филателистического движения. Отдельные экземпляры из коллекции императора десятилетиями бродили по рукам советских воров, спекулянтов и коллекционеров как этакая продукция сорта «пруф» — высший класс! К сожалению, в современной России никакого «движения» филателистов больше нет, и не предвидится. Огромное количество коллекций — в том числе составлявших предмет всесоюзной гордости — когда-то уплыло за рубеж, а само увлечение марками стало признаком «старого» русского человека — буквально «совка», бомжа, интеллигента... Воистину прав был замечательный писатель Виктор Пелевин, когда говорил, что в современной России выродилось даже то, что успешно сохранилось в СССР. Но из этого факта следуют определенные исторические выводы, на которых я с Вашего позволения не стану останавливаться. К тому же это я чуть отвлёкся.
Продолжим!
В любом гороскопе вы прочтёте, что Николай, родившийся 20 октября 1868 года, то есть довольно «глубоко» в 19-м веке, являлся «прирождённым дипломатом, имеющим склонность к командной работе». Что ж, очень похоже на правду. Его отец, рождённый ещё «глубже» — и под знаком Рыб — считался согласно гороскопам «обаятельной Рыбой» и совсем не хотел видеть принцессу Алису Гессен-Дармштадскую, свою же крестницу, своей же и невесткой. Кстати, внешностью и фигурой солнечная Алиса очень походила на свою тётку, английскую королеву Александру, сестру Дагмары Датской и супругу женолюбивого Эдуарда Седьмого, а по гороскопу была Тельцом, притом довольно простой конфигурации — её гороскоп ничего особенного о ней не «говорит». В общем-то, царь Александр Третий надеялся на династический брак с Близнецами по имени Елена — с дочерью одного из Орлеанов, графа Шартрского, внука Луи-Филиппа Орлеанского.
Это была тоже девушка яркая (с очень «гордым» носом), но она происходила из династии «романской», а не из англо-саксонской, и была «принцессой» республиканской Франции — и прямой потомок Филиппа Эгалитэ, — что тоже не совсем подходило русскому двору. Впрочем, породниться с герцогами Гессен-Дармштадскими тоже было весьма не стыдно. Напрашивался как минимум экономический союз с Францией и Бельгией — почему бы в этих условиях не породниться с Домом Капетингов? Однако этот союз с Францией был союзом с банкирами, а не с Капетингами. До Антанты было еще далеко, а женитьба на Алисе, внучке королевы Виктории, означало быстрое сближение с Винзорами (то есть с герцогами фон Саксен-Кобургами, как они, вообще-то, и назывались с самого начала), с которыми Романовы и так были близки, как ни с кем другим на свете — английский король Георг Пятый и русский царь Николай Второй были не только двоюродными братьями (поскольку их матери были родными сёстрами), но даже и на внешность они оказались весьма похожими.
Вот это выгодный брак, правильно?
И «молодые» не против. Кстати, внешность «пришла» к ним благодаря принцессе Дагмаре Датской: оба правителя были очень похожи на своего дядю, принца Вольдемара Датского, женившегося, к слову говоря, на той самой девушке «с носом» — на принцессе Марии-Амелии-Елене из рода орлеанских герцогов. Не пропадать же добру, правильно? К тому же все знали, что будущего русского цесаревича можно женить на английской принцессе, и в этом случае впору будет говорить даже о «слиянии двух лун» — то есть об объединении двух (и частично пяти) древних династий Европы и образовании некоей новой очень большой династии Виндзор-Романовых. Перспектива интересная, не так ли?
Но на уровне отцов это произойти, разумеется, уже не могло. Все «отцы» были люди немолодые, толстые, давно женатые, они довольно легко заводили подруг на стороне — как это в открытую сделал Александр Второй, некогда, кстати, чуть не ставший принцем-консортом при той же королеве Виктории, — но уподобляться древним германским рыцарям и жениться на молодых принцессках они уж и не собирались: «Пусть всё решают наши дети!» — с улыбкой рассуждали потомки этих самых рыцарей и, запахивая шинели, усаживались в санки с медвежьими одеялами.
Ну, а дальше — всё как в анекдоте об Иване Ильиче Батове, личном кучере Александра Первого. В известных случаях царь отдавал распоряжение кучеру с помощью кивка головой. Кучер однажды ответил: «Знаю, ваше величество!» — на что Александр Павлович сказал по-русски: «Кучер должен знать только своих лошадей!» — и отправил его на три дня под замок. А чтоб тому веселее сиделось — велел прислать побольше выпивки и закуски. Отдыхай!
В тот раз правил лошадьми Антон Логинов, «персональный» кучер командующего гвардейским корпусом. А повод поменять кучера, к слову говоря, был. В дороге к императору прямо с улицы подсел Николай Павлович, будущий император. И куда они вместе поехали, постоянному кучеру Его Величества знать было вовсе не обязательно. А что, по-вашему, общего у Александра Первого и Николая Первого (кроме некоторых домашних секретов)? У них было много дочерей. У царя Александра сыновей не было вообще (даже царская подруга Надежда Нарышкина — и та была мамой двух девочек), и по этой самой причине с какого-то момента царские братья, и прежде всего Николай Павлович, стали величать себя наследниками, а царю Александру как бы сказали: «К Её величеству близко не подходи! Лучше гуляй себе на стороне!» — А мы «поможем».
А тут ещё приключилась история со штаб-ротмистром Охотниковым, наставившим «рога» чуть ли не всей фамилии. Короче, закончилось это очередным дворцовым переворотом, — пардон, выступлением масонов, которых мы называем «декабристами» — и приходом к власти Николая Первого, правление которого определило будущее нашей страны лет на сто и более: «Хорош-то он был хорош, а дураков на сто лет понаделал!» — говорили современники.
С Николаем Вторым — история «почти» такая же и даже сложнее
Если у Александра было не более десяти родственников, то у царя Николая их уже было тридцать семь, один другого страшнее, и каждый из них считался «большой шишкой»... И чем больше времени царь Николай находился у власти, тем больше они все его не любили, — тем более что наследника у Николая долгое время не было, и многим казалось, что никогда уже и не будет. А что у царя было? Четыре дочери. Все родились летом или весной. Старшая Ольга довольно заурядна, зато легко училась. О ней говорили как о «хорошей русской девушке», но не больше. Её любимцем и фаворитом был беспородный кот по имени Васька — ну, а как его ещё называть?! Сначала Ольгу хотели отдать замуж за румынского короля Карла Второго, но Карл был немец из правящей в Берлине династии, поэтому о браке с ним и речи быть не могло. Вторая по старшинству дочь звалась Татьяна — это была девушка довольно высокого роста и с безупречно красивым профилем. Как все Татьяны, она отличалась твёрдым характером, а ещё любила поиграть в теннис и погонять на «велике».
Во время Первой мировой войны в принадлежащих династии пустующих помещениях (а таких нашлось немало) были организованы казённые аптеки и три госпиталя. Принцессы дома Романовых прошли под руководством доктора Боткина курс обучения сестринскому делу и стали младшими медработниками, притом Татьяна Николаевна попробовала себя в качестве операционной медсестры (оперировал тоже Боткин). Так вот, в госпитале она установила близко-приятельские отношения с сыном наказного атамана кубанского казачьего войска лейб-уланским штаб-ротмистром Дмитрием Малама, родом из пажей (в последствие он погиб в бою с красными на юге страны.) Дмитрий Малама подарил ей красивого английского бульдога белой масти. В 1917 году, когда всё семейство царя и царицы оказалось под арестом в Александровском дворце, их бросят все — и генералы, и придворные, и вся многочисленная прислуга, а в первую очередь — династические родственники, и рядом останутся только они, самые преданные друзья — кошки да собаки. Потом останки бульдога Оретино (тоже убитого большевиками) будут найдены следователем Соколовым в доме инженера Ипатьева, что и определит весь дальнейший ход следствия.
Третьей дочерью Николая второго была Мария, типичная русская боярыня, девушка довольно крупного телосложения и большая любительница сладкого. Если Татьяна была маминой любимицей, то Мария была настоящая «папина дочка», и в основном именно с ней Гришка Распутин и вёл свою переписку в стиле «вот мир как день, а мир есть суета!» Лорд Джордж Маунтбеттен, сын чрезвычайно импозантного контр-адмирала Луиса Маунтбеттена, начальника британской военно-морской разведки, был откровенно влюблён в эту завидную красавицу, но он был тоже немец, родом из поселившихся в Англии гессенских принцев, поэтому и с ним, «англичанином», брак был также невозможен. Зато во время Первой мировой войны у Марии завязался почти настоящий роман с пухлощёким офицером флотской авиации Юрием Деменковым. Конечно, из всего этого тем более ничего получиться не могло. Хотя... кто знает? Дворянин Деменков был не менее знатен, чем худородные бояре Романовы.
Что кается наследника Алексея, то он появился на свет самым последним, чем вызвал у династических родственников чувство глубочайшего разочарования. Они-то думали, что дочерей там родится ещё пять штук, ну, а в дальнейшем можно будет воспользоваться каким-нибудь «случаем» и определить в «наследники» кого-то из авторитетной родни — да того же Николая Николаевича. Но не тут-то было! Алексей (о котором как о ребёнке мужского рода даже и сказать-то нечего) родился 12 августа (знак Льва). Как все мальчики он был очень похож на своего деда и, как все Романовы, готовился стать гвардейским офицером. А что ещё о нём известно? Любил он хорошо пожрать солдатской каши в столовой гвардейского сводного полка (впрочем, это была «доблесть» многих Романовых), а ещё считался почётным атаманом всех казачьих войск Российской империи... Ну, и почти всё!
Тут надо обратить внимание вот на какой факт — шефство в семье Романовых никогда не выходило за пределы гвардейского корпуса, но Николай изменил семейной традиции, поэтому некоторые заурядные и даже провинциальные полки неожиданно оказались под покровительством фамилии. Взрослые сёстры Ольга и Мария были шефами в армейской кавалерии, и одна из них даже получила прозвище «Улан», а юному цесаревичу Алексею «принадлежал» 1-й железнодорожный батальон (две военно-строительные и две эксплуатационные роты и полусекретное подразделение «охраны путей»). В ознаменовании сего факта батальон стал называться лейб-железнодорожным. Что с того? А «то с того», что в этот батальон гуртом рванули служить все, кто был поучёнее, познатнее да ещё со связями. Господа офицеры-железнодорожники впервые со времён Николая Первого стали присутствовать на всех государственных мероприятиях, а финансирование батальона выросло раз в десять, а то и больше.
Что касается самой младшей из принцесс, любимицы всей России Анастасии, то она получила в «подарок» на своё четырнадцатилетние 148-й Каспийский пехотный полк (который тоже стал «лейб»), а во время Первой мировой ей довелось стать по существу «патронессой» всех дворцовых госпиталей. Никто не спорит, что непосредственное руководство и пехотным полком, и многочисленными медучреждениями осуществляли люди куда более компетентные, чем царевна Настя, но дополнительные деньги для них «находила» именно она. А наглости у неё хватало! Принцесса Анастасия была настоящим «живым моторчиком» царского семейства. Имя она получила «демократическое», да и вела себя соответствующим образом. Ну, например, своего чёрного шпица она называла Швыбзиком... пардон, Штыбзиком, как это произносится на языке советских школьников. А другая её собачка получила имя Джимми — в то время так называли только негритят и обезьянок. Что ж, если в семье Романовых помимо трёх собак-колли могла проживать и беспородная лейб-кошка по имени Зубровка, подруга лейб-кота Васьки, устраивавшая дикие набеги на царский стол, то здесь и удивляться особо не нечему.
Итак, вот что представлял собою последний русский царь и его ближайшее окружение
Внешне это очень напоминало семью и прислугу богатого помещика в погонах полковника гвардии (принцы-Романовы так его и называли — «полковничек»), а на взгляд изнутри это выглядело и вовсе демократически — будто семейство отошедшего от дел богатого помещика. Во всяком случае, его родственники никогда не окружали себя крестьянами (царский камердинер Чемадуров и погибшая вместе с Александрой Фёдоровной горничная Демидова, несмотря на дворянские фамилии, дворянами не были) и даже не пытались производить «приятное» впечатление на всю огромную крестьянскую Россию-матушку. Интеллигентами они тоже как бы не были — почти вся родня царя-батюшки состояла из «силовиков» с разной степенью культуры и образованности — поэтому отношения с родственниками частенько напоминало если не трагедию и не комедию, то уж точно мелодраму в трёх частях.
Но самое интересное, что отношения с родственниками не сложились даже у дочерей Николая Александровичаи даже у его сына (тому было проще дружить с сыновьями повара и горничных, чем с ровесниками из числа «великокняжеской своры»). Ладно, ещё можно понять взаимную неприязнь людей толстых и уже давно не молодых. Но почему же молодёжь-то взаимно не любила друг друга? А почему плохо складывались отношения Николая с его сёстрами, Ольгой и Ксенией?
Впрочем, царские сёстры — это отдельная тема. Как раз они-то, две «одинокие женщины», и шагали (вернее, скакали вверх ногами) в самом авангарде демократизации отношений в «верхах» Российской империи. А рядом с ними в этот глупый процесс были вовлечены две не менее глупые черногорские принцессы, Стана и Милица, одна из которых была замужем за великим князем Николаем Николаевичем, и прочие дамы и светские барышни-эмансипэ, глядя на которых народ делал определённые «выводы». Когда-то легендарный Победоносцев говорил царю Александру Миротворцу: «Под вами — сто миллионов дикарей! И необходимо, чтоб они считали, что вы сделаны из какого-то другого теста!» — но это было «когда-то». В новейшую эпоху никто не слушал Подедоносцева.
И напоследок — ещё немного о цесаревиче Алексее Николаевиче, о нашем несостоявшемся монархе. Итак, вы, конечно же, помните фильм «Кавказская пленница». Там есть забавная сцена у автобочки с пивом, где Моргунов, Никулин и Вицин по эстафете передают кружку с пенным напитком некоему пьяненькому старичку в шляпе (или он был не в шляпе?). А потом давайте вспомним другой легендарный гайдаевский фильм — «Бриллиантовая рука» и сцену, последовавшую за ресторанной пьянкой Миронова-Козодоева с Горбунковым-Никулиным — помните пьяненького старичка в шляпе, размещавшего на стенде стенгазету «Пьянству — бой!» Как вы думаете — кто это такой? А это был один из детских друзей царевича Алексея, и звали его Григорий Данилович Пеньковский-Светлани.
К сожалению, о нём очень мало информации. Известно, что он написал книгу, которая называется «Товарищ его Высочества» (или как-то в этом роде), но до сего дня она так и не издана. Родился Пеньковский в крестьянской семье (по другой информации его отец был исполнителем-виртуозом на народных музыкальных инструментах, что, впрочем, ничего в его происхождении не меняет). В 1907—1908 годах «Гринька», как его называл царский сын, состоял в отряде юнг, прикомандированных к императорской яхте «Штандарт». Юноши — как знатные, так и не очень, — осваивали морские специальности и готовились к поступлению на те самые внеклассные гардемаринские курсы, которые семью годами позже заканчивал будущий советский адмирал Исаков, чтоб со временем стать, как и он, младшими офицерами нелинейного флота (эти курсы носили обиходное название «Паралан», и, закончив их, проще всего становились офицерами-подводниками). Но Григорий Пеньковский с флота уволился, став всего лишь унтер-офицером, а потом взял артистический псевдоним Светлани (вероятно, по имени подруги сердца) и со временем стал дирижёром в одном из императорских театров. Его довольно близкая дружба с Алексеем закономерно прервалась в 1917 году.
Что было потом?
Далее была долгая работа в театрах и обширная фильмография, которая парадоксально начинается в 1941 году с одной из главных ролей в фильме Григория Рошаля «Дело Артамоновых» (это самая первая роль Михаила Пуговкина). Почему — «парадоксально»? А потому что по некоторым сведениям один из друзей цесаревича Григорий Пеньковский-Светлани снимался в фильмах и раньше, чуть ли не в немом кино, притом он лично знал и видел всех корифеев русского экрана, включая красивую москвичку Верочку Коралли, о которой мы вспомним немного позже, и к 60-м годам Григорий Пеньковский-Светлани был в числе старейших деятелей российского кинематографа. Вероятно, в этом качестве он и оказался в «Бриллиантовой руке» и в «Кавказской пленнице» и т.д. Вообще же, он снимался до самых 80-х годов, когда ему довелось сыграть Федосия Викентьевича в «Каникулах Кроша» и некоего Ювелира в «ТАСС уполномочен заявить». Главную роль Григорий Данилович Пеньковский-Светлани сыграл только однажды — в 1970 году в документалке Элема Климова «Спорт, спорт, спорт» (его роль озвучивал Ролан Быков). Прожил товарищ цесаревича Алексея без малого сто лет.
Лучший друг короля
«Божий человек» Григорий Распутин не был лейб-котом Васькой, но он был «приближен» к семейству на неких очень похожих условиях. Получив в 1906 году фамилию Распутин-Новых, Гришка был зачислен в «ближний круг» семьи императора — вместе с камердинером Чемадуровым, домашним врачом Боткиным, личным водителем Адольфом Кегрессом, священником Васильевым, поваром Харитоновым, с двумя камер-фрау царских дочерей, Тютчевой и Вишняковой, и с прочими то ли ЕЩЁ слугами, то ли УЖЕ друзьями — непонятно! В «хороших домах» эта социальная грань вряд ли различима. Например, Евгений Боткин был полковником и профессором медицины, Васильев — протоиреем, а господин Кегресс — инженером-изобретателем, известным в те годы журналистом автомобильных изданий... Неужели они похожи на собак и кошек? А разве кошки и собаки — это не «члены семьи»? Считается, что даже у погибшего вместе с государем лакея Алоиза Труппа тоже было полковничье звание (это ему царь подарил, чтобы тот потом получал сразу две пенсии вместо одной, придворной), только он об этом никогда никому не рассказывал. Он молча исполнял свои обязанности и постоянно находился в «ближнем кругу» Николая Александровича и его семьи.
А чем там занимался Григорий?
Сначала он был как бы игрушкой. Он был обязан всех «удивлять». Например, Григорий умел «толкать» речи. А проповедник и оратор он был знатный. Речи Григория были настолько образные, а суждения настолько независимы и интересны, что император после одной из бесед со «старцем» записал в своем дневнике: «Всё бы слушать и слушать его без всякого конца». Ещё Гришка умел показывать «фокусы». Он мог довольно точно определить дату или час, — например, кто, когда приедет в гости — или мог угадать лицо, которое ждут в царском Селе. Немаловажную роль здесь сыграли его странные народно-целительские способности: пару раз Григорий чуть ли не спасал жизнь болевшего гемофилией цесаревича Алексея. В «ближнем круге» государя дураков не было, поэтому даже профессор Боткин вскоре признал лекарские способности Григория — тем более что медицина была не в силах решать те проблемы, с которыми умудрялся как-то справляться этот «божий человек» Григорий.
Один из неплохо знакомых с «этим делом» людей, граф Сергей Витте, — двоюродный брат «провидицы» Елены Блаватской, — утверждал, что к 1912 году влияние Распутина вымахало до таких пределов, что «божий человек» даже умудрился отговорить государя императора от вмешательства в разразившуюся на Балканах войну. Собственно, влезать в неё или не влезать, царь обсуждал со своим «ближним кругом» — буквально с семьёй, с присутствовавшими при разговоре горничными и с двумя попами — и решающее слово при обсуждении этой проблемы оказалось именно за Распутиным. Ведь годом раньше он совершил паломничество в Иерусалим и приехал назад с шикарными рекомендациями от тамошних священников — святой! Кроме того, Гришка, как и прежде, запросто выступал в роли народного целителя и занимался «врачеванием». Многим это дело не нравилось.
К тому ж обзавелся «старец» ценным помощником — неким коммерсантом Бадмаевым, тоже народным целителем, да ещё свято уверявшим, что он привозит из Монголии некие травы и снадобья, какие правдой и неправдой добывает у тибетских «старцев» (на самом деле этот русский Асахара варил свои зелья из неких корешков и порошков, которые брал у дружка-аптекаря). И как после всего этого к нему относиться?! Ладно, «лечение молитвами» — это дело, угодное Богу. Но почему же тогда Гришка в монахи-иноки идти принципиально не хочет, хоть это было ему было и выгодно?! А это просто объясняется: в качестве духовника Григорий был, конечно же, самозванцем — он «играл в Гришку». Когда-то в молодости на пострижении в иноки сильно настаивал священник Покровской церкви отец Иван Чемагин, а в 1911 году к Григорию Распутину обращались с точно таким предложением все знакомые иерархи во главе со «скороспелым» епископом Варнавой.
А что Григорий?
«Он говорил, что ему не по душе жизнь в монастыре, что монахи не блюдут нравственности и что лучше спасаться в мире», — рассказывала на следствии дочь его Матрёна. В 1909 году полиция за что-то осерчала на «святого» и собиралась выслать его из Петербурга к чёртовой матери, однако Распутин шустро опередил её действия и сам сбежал на родину, в село Покровское. К тому моменту он был уже богат и успел построить там большой дом — свой дом!!! — в котором поселил двух своих дочерей, Варвару да Матрёну. Кстати, приехав домой, он первым делом предупредил их: «Вещички свои складывайте в сундучки. Скоро все вместе поедем!» Случилось это после двух событий, одно из которых очень сильно повредило репутации «старца» — во-первых, выяснилось, что «божий человек» Распутин буквально замучил двух сестёр своей деревенской жены — считается, что он их «залечил» насмерть, — а во-вторых, произошла открытая стычка со Столыпиным. А Столыпин — человек «с характером».
Позже в одном из писем Пётр Аркадьевич назвал Распутина «отвратительной гадиной». Гришка ответил примерно тем же самым. После взрыва дачи Столыпина на Аптекарском острове и многих других вылазок, направленных эсерами и анархистами против первых лиц государства, положение Петра Аркадьевича представлялось некрепким. Он не нравился наиболее агрессивным «левым», но точно так же его персона не устраивала и государыню императрицу (а ведь не дай боже нажить себе такого врага, как она!). Российская империя не была в то время конституционной державой, однако полноценный парламент в ней к тому моменту уже существовал, как и все политические партии, с которыми Столыпин поддерживал деловые и конструктивные отношения. Так вот: Александре Фёдоровне, как и многим другим «блюстителям престола», представлялось, что Пётр Аркадьевич слишком уж популярен и открыто лезет в диктаторы — во как оно бывает!
К тому моменту Александра Федоровна называла Распутина «Другом» и боготворила его как святого, и влияние «старца» уже не ограничивалось только домашними делами. Уже ни одно крупное назначение не обходилось без совета этого «друга». Правительство в то время состояло-таки не просто из людей, а как бы из младших «друзей» государя и государыни, а поэтому мимо Григория Распутина никто в Зимний дворец не проникал даже ползком. В связи с этим нетрудно представить себе самоощущение Петра Аркадьевича. Он — никого не боялся. О Столыпине говорили — «мужчина он видный», но — «грубо напыщен, балбес и втайне либерал». И друзья его из числа чиновников и губернаторов, только что пережившие Первую русскую революцию, тоже никого на Руси не боялись, и прямо опирались на работу полицейского аппарата Империи — или, как тогда говорили, «а как же жандармы забудут, пока не истребят?»
Но аппарат полиции в Империи плохо соответствовал тем требованиям, которые к нему предъявлялись столыпинской «партией». Когда-то страшные для интеллигентов господа жандармы были лишены самостоятельности и представляли собой межведомственный придаток Департамента полиции, целиком состоящий из армейских офицеров с подмоченной репутацией, а всем известное Охранное отделение было организовано, в сущности, из грязных стукачей, провокаторов и «шерлоков холмсов», половина из которых решала свои дела, поддерживая точно такие же «деловые и конструктивные отношения» с лидерами русских социалистов. «Смерть ходит за ним, смерть!» — догадывался Распутин, наблюдая за карьерными и конъюнктурными хитросплетеньями в жизни русского премьер-министра. Так и оказалось.
В 1912 году Пётр Столыпин был убит неким Дмитрием Багровым. Убийца оказался не шантрапа какая-нибудь, а — состоятельный юрист и домовладелец еврейской национальности, отлично знакомый с шефом киевских жандармов подполковником Кулябко. Убийца был, по существу, безработным в ранге «кандидата на должность» в одной из правоохранительных структур, и в этом качестве он попал в сферу интересов кого-то из функционеров партии эсэров, был подвергнут шантажу и принужден к сотрудничеству. Это примерно то же самое, если б воры-бандиты поймали бы засланного к ним стукача и послали бы его с ножом к прокурору. Но самое интересное даже не в этом. С Багровым были лично знакомы Александр Вертинский, Михаил Булгаков, да и вообще многие из знатных и находившихся «на виду» киевлян.
Александра Фёдоровна никак не могла убедить мужа в том, что Столыпина необходимо «убрать», зато Распутин в тот раз нашёл, чем покоробить премьер-министра. Он убедил царя: «Когда этот ещё кой раз явится, надень самую простую рубашку, да выдь к нему, потому как сам Бог в простоте обитает!» — Николай Второй так и сделал. Пётр Аркадьевич наверняка догадался, что это за форма давления (князь Григорий Потёмкин встречал подчинённых вообще в исподнем, накинув поверх соболью шубу, да ещё при этом качался на качелях, как девочка), но вынужден был признать в одном из писем супруге: «Когда я это увидел, я ощущал полную подавленность». Впрочем, не прошло и месяца, как Столыпина не стало, а «божий человек» Гришка тут же свёл знакомство с одним из самых любопытных петербуржцев того времени — с Герасимом Дионисиевичем Папнадато, учёным, «экстрасенсом» и психологом. Никто не знает, о чём они там беседовали на его квартире. Наверное, обсуждали гибель Столыпина. А ведь психолог он был вполне настоящий. Русские психологи-фрейдисты и даже Владимир Михайлович Бехтерев считали Герасима Дионисиевича не только «экстрасенсом», но и замечательным «политтехнологом» предреволюционной эпохи. У господина Папнадато «паслись» русские масоны.
Вообще же, в 1911 году Распутин был просто на грани «вылета из обоймы» — притом навсегда. Его прежний покровитель епископ Феофан предложил Святейшему Синоду официально выразить неудовольствие императрице Александре Федоровне в связи с пьяным поведением Распутина, а ответственный член Святейшего Синода митрополит Антоний (Вадковский) лично доложил царю Николаю о негативном влиянии «божьего человека» Григория Распутина на русское общество. 16 декабря 1911 произошла ещё одна крайне неприятная для «старца» стычка — теперь уже не со Столыпиным, а с епископом Гермогеном и с иеромонахом Илиодором Труфановым. Они требовали от него или принять монашеский сан, или убираться куда подальше! К тому моменту Распутин был отлично знаком и с тем господином, и даже с этим, притом красавец Илиодор, буйный антисемит, патриот, известное в России духовное лицо, открыто называл Распутина «святым чёртом», имея в виду хотя бы тот факт, что по традиции слово «чёрт» считалось на Руси нецензурным.
Что там у них произошло?
Епископ Гермоген пригласил Распутина к себе на подворье на Васильевском острове и этак запросто двинул ему в лоб медным крестом. Между ними завязалась драка — ну, то есть епископ мутузил его крестом весом в пуд чистой меди, а Гришка в ответ «шибко» размахивал руками. Именно тогда ему и пришлось внезапно покинуть столицу и рвануть в паломничество по «святым местам» в Иерусалиме. Почему? А потому что стычку со Столыпиным он ещё мог пережить, спрятавшись у психолога Папнадато. В конце концов, Пётр Аркадьевич не имел к духовным делам никакого касательства. Но «получить по ушам» от епископа — это совсем другое дело. Тут того и гляди анафему пропишут на мягкое место и без того больное. То-то уж!
Но Распутин не был бы Распутиным, если б он увлекался только политикой, педагогикой и лжецелительством. Мужчина он был популярный и склонный к разгулу. И несомненно нигде его страстная натура не находила такого отдохновения, как с бабой в койке. В истории человечества было немало сексуальных авантюристов (а галантный 18-й век населён ими, как древний замок привидениями), но Гришка Распутин мог бы многим из них дать фору. Однако пока он был довольно молод — это было ещё ничего. Но Григорий приехал в столицу как раз в тот момент, когда у большинства мужчин наступает своеобразный «климакс», после которого жизнь или замирает в окостенении, или начинается заново. Но у Гришки произошло что-то непонятное. Он начал превращаться в то самое, что сейчас носит название «тусовщик» — в странное существо, ведущее ночной образ жизни. Не поэт, вроде бы, и не артист, а — туда же!
Корова
В этот момент ближе всех к нему оказалась фрейлина Анна Вырубова, или «Корова», как он её называл. Эта праправнучка фельдмаршала Кутузова и единственная дочь композитора Танеева была из категории «брошенок» — её муж, морской офицер, слегка «поматросил» да бросил, свалив в неизвестном направлении (кстати, а не тот ли это был «лейтенант Сашка Вырубов» в «разорванном кителе нараспашку», который при Цусиме командовал артиллерией на крейсере «Светлана» и лихо гонял японские миноносцы?). И, как истинный моряк, больше он не появлялся. В связи с этим стоило бы сказать пару хороших слов об её отце-композиторе.
Танеев стал отцом дочери уже относительно поздно, поэтому вошёл в историю как «маленький толстенький старичок, умевший говорить только приятные вещи». Звали его Александр Сергеевич, он занимал должность Главноуправляющего собственной Его Императорского Величества канцелярией (известный нам в этой должности генерал Мосолов появился значительно позже), причём для дворян Танеевых эта должность была в известном роде фамильной — ее занимали при трех императорах дед, прадед и один из двоюродных родственников композитора. Вообще же, все дворяне Танеевы были очень похожи то ли на Каренина из романа Льва Толстого, то ли на главного героя романа Андрея Белого «Санкт-Петербург» с его «стародворянским гербом, на котором единорог пронзает рогом рыцаря», — это были типичные обитатели высших присутственных мест Российской империи.
Близкое знакомство царя и царицы с Вырубовой произошло примерно тогда же, в начале 1905 года. Брошенная мужем молодая женщина весьма приглянулась Александре Фёдоровне (и была, по словам графа Витте, буквально «влюблена» в неё), но вскоре она стала, по словам английского посла Бьюкенена, почти «бессознательным орудием» в руках «хитрого крестьянина» Распутина, а потом и одной из тех, с кем он всегда имел «дело». Впрочем, «бессознательной» она если и была, то не в полной мере. Дело в том, что императрица обожала «женское общество» — типа как сидят бабы на скамейке возле подъезда и болтают весь вечер — и Вырубова шикарно соответствовала этим государственным требованиям. Тогда ещё молодая и не шибко толстая фрейлина из известной дворянской семьи очень быстро стала одним из главных действующих лиц личного дневника Николая Александровича. Её неудачные семейные отношения с хамоватым моряком обсуждаются на «семейном совете», при этом один из Гришкиных «корешков», банкир Филиппов, говорил в столичных салонах: «Дружба Вырубовой с государыней и с некоторыми из придворных сфер объяснялась их близостью на почве сексуальной психопатологии». — О какой-то «неестественной дружбе» царицы с Анной Вырубовой не раз напишет со слов мужа (того самого, по кличке «Рычаг») всесильная генеральша Богданович.
Ну, а дальше — больше!
И в момент окончательного развода фрейлины с моряком — «бедная наша императрица рыдает, как московская купчиха, выдающая дочь замуж!» — насмешливо писал об этом граф Витте в своих мемуарах... Одним словом — бабы! Из показаний Анны Вырубовой:
«В 1907 году я вышла замуж за лейтенанта Александра Васильевича Вырубова, и по возвращении из свадебного путешествия мы сняли дачу сначала в Петергофе, затем в Царском. Мой муж был зачислен в походную канцелярию, и в том же году мы сопровождали царскую семью на море».
В тот момент влияние Вырубовой растёт как на дрожжах, и вот рядом с «подругой государыни» появляются личности, в чём-то корыстно заинтересованные — спекулянты бриллиантами, а после них банкиры и артисты. Публика — замечательно выгодная. А потом... «прожив с мужем полтора года, — рассказывала Вырубова поэту Александру Блоку, секретарю Чрезвычайной комиссии, - я развелась, так как он, оказалось, садист — и страдает психической болезнью...». Следователь Руднев (один из двух следователей-однофамильцев) сочувственно вспоминал:
«По словам матери Вырубовой, муж ее дочери оказался импотентом, при этом с извращенной половой психикой, выражавшейся в различных проявлениях садизма, чем причинял ей нравственные страдания и вызывал чувство полного отвращения».
Сложно сказать, что думал об этом следователь, но поэт Александр Блок знал это придворное обществу чуть получше. Блок свидетельствовал, что бывший супруг Анны обзавелся новой семьей и с 1913 по 1917 год преспокойно жил в своем поместье на юге страны, где неоднократно избирался предводителем дворянства. Зато Александра Викторовна Богданович излагает в своих мемуарах «Три самодержца» (советую почитать — очень смешно!) вполне определённую причину развода Анны Вырубовой со слов романовской родственницы княгини Долли Кочубей, урожденной герцогини Лейхтенбергской:
«Неестественная дружба существует между царицей и Танеевой... муж этой Танеевой Вырубов имел “случаи”, которые наводили на Размышления… У молодой царицы сильная неврастения. Это приписывают ее аномальной дружбе с Вырубовой. Что-то неладное творится в Царском Селе».
Ещё смешнее и злее генеральша Богданович отзывалась о «божьем человеке» Распутине, считая его следующим её «мужем», притом уже вполне «настоящим». Однако если это утверждение верно, то уж совсем непонятно, почему же эта вполне симпатичная (но быстро полнеющая) молодая дама и в 1917 году оставалась девственницей, что нам известно благодаря справке о медицинском осмотре... Или справка всё же врёт?
Вообще же, у стареющего Гришки к тому моменту было уже две жены и даже две семьи, так что его отношения с Анной Вырубовой и правда могли быть ещё более оригинальными, чем её отношения с государыней Александрой Фёдоровной: во-первых, он перевёз в Петербург своих дочерей и устроил их в гимназии. А во-вторых, обзавёлся экономкой, бывшей тюменской уроженкой Дуней Бекешовой, с которой и жил вне закона. Прежде она была горничной у приятельницы Вырубовой, молодой и красивой супруги пожилого генерала Кубасова, и по некоторым сведениям Дуня знала «божьего человека» ещё по его прежней тюменской жизни. Именно от неё нам известно, что кроме «Гришка-вор» у Распутина там, на родине было ещё одно прозвище — Вытул, и что «чужое сено украсть, тумака задать, да дрова у дьякона увезти» — это были любимые Гришкины занятия. За что тот же самый крестьянин Илья Картавцев, который обвинял Григория в конокрадстве, как-то раз так вмочил «старцу» доской из забора, что до волостного правления «святой человек» едва доковылял, кровью умываясь. Вот такие новости! «Суета — суёт!» — как сказал один сатирик. А с другой стороны — хорошо, когда у человека две жены... Если одна промолчит, то вторая всегда «всю правду» скажет! Так ведь?
Постепенно вокруг Григория сложился своеобразный кружок почитателей и почитательниц. Благодаря той же Дуне мы знаем, что кружок у Распутина был и раньше, в городе Тюмени. После возвращения из Верхнетуринского монастыря «старец» Григорий искренне «искал бога» — молился, постился, даже не мылся и не стригся, зато водружал кресты на деревьях и вообще вёл себя как «подвижник церкви». В этом деле ему помогали некоторые родственники и односельчане, и священник Чемагин. С односельчанками Григорий был особо близок. Они составляли, может быть, самую приятную половину его «кружка». В 1903 году Григорий, которому явно надели крестьянские девицы, побывал в Абалакском монастыре, где «утешил» недавно овдовевшую купчиху Башмакову, родом с села Реполова, что на Иртыше. Баба ввела его в некое довольно сомнительное тюменское общество, состоявшее по большей части из состоятельных, но уже немолодых «брошенок» и неудовлетворенных «разведёнок», а уж те, в свою очередь, познакомили его с отцом Иоанном Кронштадтским.
Теперь же, оказавшись прямо у горнила власти, Григорий о тех временах уж и не вспоминал, а сплетницу Дуньку старался держать при себе, называя её своей «женою». Другой его «женой» упрямо называли праправнучку графа Голенищева-Кутузова, а потом уж появились и прочие «жёны». Иеромонах Илиодор даже составил полукомический список женщин, с которыми Григорий имел дело. Кстати, вопреки тому, что писали критики николаевской эпохи, фигур замужних, да ещё родовитых в этом списке почти не встречается, как нет в нём и прекрасных юных девушек (а вы думаете, что их очень интересовал старый мужик Распутин, да?) В джентльменском списке Григория доминируют дамы «опасного возраста» — средних лет и старше, и все до одной — представительницы дворянской мелюзги и богатых буржуазных фамилий. Самое интересное, что «божий человек» и относился-то к ним соответствующе. Он страдал в жизни только двумя проблемами — энурезом и очень плохой памятью на имена и фамилии, поэтому своих поклонниц фиксировал в памяти не по именам, а по прозвищам, часто приличным только для овец, лошадей и коров — Красотка, Звёздочка, Машка, Вымя, Хрипуха и так далее — и вёл себя с ними очень просто и демонстративно, как актёр на провинциальной сцене. Зато бабы боготворили его и составили целую свиту, получив название «распутинки». «Кто отдается этому Богу, сам становится божественным, соприкасаясь с его телом!» — как-то заявляла инженерша Лохтина, одна из постоянных «жён» Григория. Кружок этот вскоре приобрёл форму некоего кружка садо-мазохистов, или как это теперь называется «сообщества BDSM». [Запрещённая в РФ организация.] Тут надо сказу сказать, что «божий человек» ничего нового не придумал. Молитва да поцелуи с лёгкими унижениями — это даже не маркиз де Сад с его разогретыми на огне плетьми из стальной проволоки и глумлением над церковными предметами, а нечто вроде тихого и красивого притончика «чисто для своих».
Подобного рода кружки существовали в России во все эпохи (царь Иван Грозный был по существу лидером такого сообщества, да и Пётр Первый тоже был человек в этом плане не вполне ординарный). Также стоило бы упомянуть поэта-классициста времён Екатерины Великой Николая Струйского, автора «эротиидов», и другого поэта, Гришкиного современника Фёдора Сологуба с его подругой Анной Чеботаревской — и этот Струйский, и Сологуб были, каждый в своё время, активными деятелями BDSM-движения, причём о характере и составе сообществ, в которых они состояли, мы ничегошеньки не знаем. В сущности, это личное дело взрослых людей, правильно ведь? Кстати, Александра Фёдоровна в его джентльменском списке... не значилась. В пьяном виде Григорий мог городить всё, что ему вздумается, однако на ясные очи «Мамы», как он её называл, «старец» являлся чистеньким, трезвеньким, учтивым и богоугодным, как ангел небесный, и кланялся ей по-поповски всем туловищем: «Вот, которые ёрники брешут, будто я с царицей живу, — как-то раз говорил он своей поклоннице, журналистке княжне Шаховской — молодой даме давно замужем, и, наверное, самой знатной из его списка. — А того, лешие, не знают, что ласки-то там много боле этого есть. Да ты сама поразмысли про царицу? На черта ей мой (…)?».
Мифы остаются мифами
И не больше... Однажды он заявил, что было зафиксировано секретарём: «Только две женщины в мире украли мое сердце — то Вырубова и Сухомлинова!» О Вырубовой мы уже «всё знаем». А Сухомлинова — кто такая? А это не «кто-то», а — Екатерина Сухомлинова-Гошкевич, жена военного министра, которая чем-то заведовала в военном Красном кресте. Когда-то Виктор Васнецов рисовал с неё младенца Христа для росписи Владимирского собора в Киеве, а в те годы, когда «божий человек» Григорий штурмовал «вершины» власти, это была милая такая платиновая блондинка с трудным характером, бывшая жена самого богатого человека в Полтаве — «полтавского короля» Владимира Бутовича. Один из убийц Распутина — Пуришкевич — писал о ней:
«Не выношу Сухомлинову. У неё на портомойне работает целый муравейник девиц и дам. Работа, видимо, спорится, но там же в качестве адъютантов неведомо для каких поручений, примостилось множество прапоров ускоренного выпуска из богатых семей всяких фамилий и званий; всё это воинство ходит в защитных френчах, пороху не нюхало и нюхать не станет».
Начальник царской контрразведки генерал-майор Бонч-Бруевич писал об этой даме совсем неприязненно:
«Кроме подполковника Мясоедова, Екатерине Викторовне в её скандальном разводе с первым мужем-миллионером помогали австрийский консул в Киеве Альтшюлер, убийца Столыпина Багров и ещё несколько лиц, столь же сомнительных».
Ну, вы фамилию Багров заметили, да? Здесь необходимо пояснить, о ком именно идёт речь. Подполковник Мясоедов был повешен по обвинению в мародерстве и шпионаже. По прежней своей службе на германской границе он рекомендовался как грамотный контрразведчик (об этом свидетельствовал доставленный в 1945 году в Москву бывший начальник кайзеровской разведки полковник Вальтер Николаи), но в дальнейшем он уволился в запас, женился на богатой еврейке и ударился в спекуляции. С началом войны Мясоедов был приглашён обратно на службу и состоял в не очень понятном качестве при особе военного министра генерала Сухомлинова (или при его жене?) Считается, что он занимался неблаговидным делом — проверял на предмет «благонадёжности» офицеров и генералов русской армии, на чём и «споткнулся» — притом очень больно. Кроме того, он был «человек Сухомлинова», а генерал Сухомлинов по определённой причине не пользовался расположением главкома русской армии великого князя Николая Николаевича (хоть и был изначально протеже его отца, Николай-Николаича-старшего, тоже главкома, да и начинал службу вместе с младшим Николай-Николаевичем у него же и в адьютантах)… Кто такой Альтшюлер? Это был киевский резидент «Хаупт Гунштафт Стелле» — то есть австрийской военной разведки. Что же касается последнего лица, указанного генералом Бонч-Бруевичем — Дмитрия Багрова, юриста и богатого киевского домовладельца, — то здесь комментарии излишни. Мы ничего о нем не знаем. Лучше уж вспомнить, что писал поэт Александр Блок, секретарь назначенной Временным правительством Чрезвычайной следственной комиссии:
«На днях я с Муравьёвым обходил камеры — обошли их 18, в том числе Сухомлинова (и жены его, стервы), Штюрмера, Протопопова, Маклакова, Курлова, Беляева, Дубровина и даже Анны Вырубовой... M-me Сухомлинову я бы повесил, хоть смертная казнь нынче и отменена навсегда».
В 1921 году «мечта поэта» в известном роде воплотится в жизнь — генеральшу Сухомлинову и её любовника офицера Габаева расстреляют большевики. Как водится, без суда и следствия. А тогда, накануне Первой мировой войны, Екатерина Сухомлинова была замужем за военным министром (далеко не самым бездарным в русской истории) и бросалась в опасные финансовые авантюры, многие из которых не могли состояться без участия царской подруги Вырубовой и, конечно, её бой-френда Гришки Распутина. И вот, в самый разгар этой свистопляски — прямо накануне Великой Войны — «божьему человеку» Григорию пришлось «зализывать раны». Летом 1914 года он получил ножом в живот от бывшей поклонницы, от неведомо откуда взявшейся на горизонте сызраньской уроженки Хионии Гусевой. Согласно бродившим в «верхах» сплетням, это покушение организовал кто-то из тех, в ком Распутин никак не сомневался — кто-то из друзей.
Да уж, теперь уже сам «божий человек» оказался в том же уязвимом положении, что и Пётр Аркадьевич Столыпин два года назад. «Знаешь ли, что я вскоре умру в ужасных страданиях? — говорил Растутин кому-то из своего окружения. — Но что делать? Пожил я довольно, и хватит!». Но в тот раз старцу Григорию Распутину всё же повезло. У «божьего человека» образовалась дырка в нижней части живота, но врачи быстро её заштопали.
Выйдя из частной больницы, Григорий Распутин мигом нанёс визиты главным своим «партнёрам» — банкирам Манусу и Филиппову, заключив с каждым из них некий «пакт о ненападении» с условием в случае чего помогать друг другу в «беде»: «Ежели до тебя кто, то мне звони, а коли я опять, то вы меня не забудьте. И другим передайте. А то соберите их всех. Я им своё слово скажу». — Именно тогда он начал пить запоем. В марте 1915 года, находясь в Москве, он посетил ресторан «Яр», нажрался до сложения риз, потом показал свой (…) и заявил, что «делает с царицей все, что захочет»... Народ безмолвствовал!


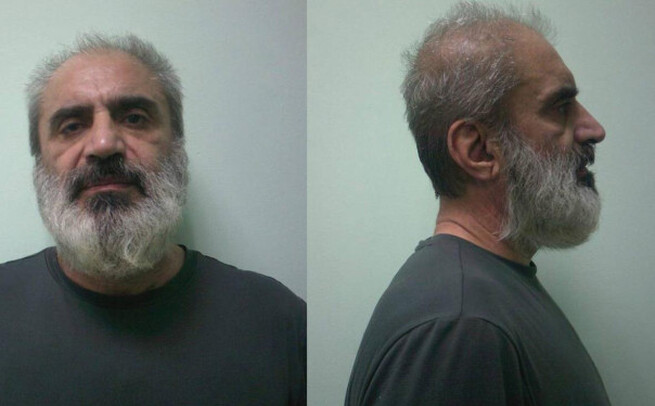
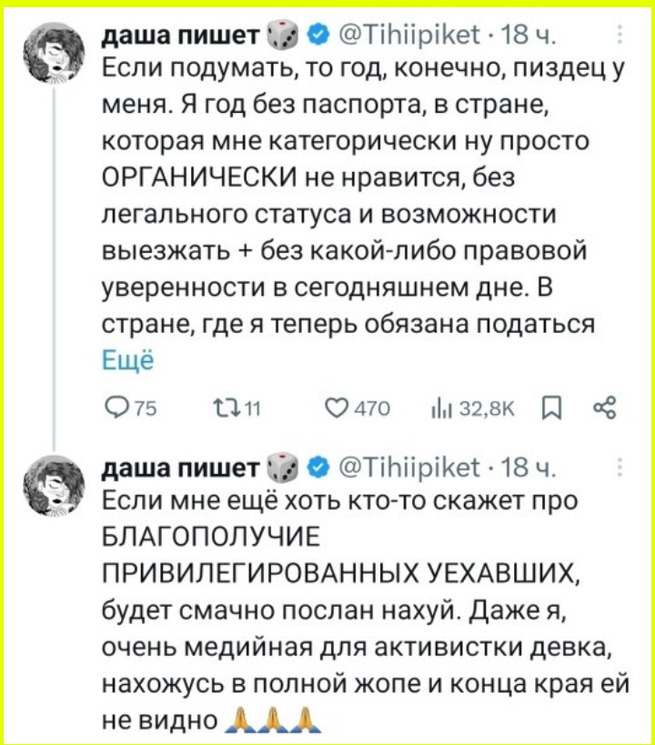



Оценили 9 человек
9 кармы