
В заметках о Великой отечественной войне и ее окончании очень часто встречается словосочетание «маршал Победы». Иногда — в единственном числе, когда оно употребляется в отношении маршала Жукова, чей 1-й Белорусский фронт сыграл главную роль в захвате столицы Третьего рейха. Нередко используется и множественное число «маршалы Победы», — когда говорят о соседях Георгия Константиновича севернее и южнее — Константине Рокоссовском и Иване Коневе.
А то и обо всех военачальниках РККА времен войны, имевших это наивысшее воинское звание. Но, пожалуй, если бы столь же широко использовался термин «диктор Победы» — множественного числа для него бы не существовало. Потому что эта роль в памяти сотен миллионов советских людей однозначно закреплена и по сей день лишь за одним человеком — Юрием Левитаном. Конечно, не потому, что он был единственным диктором Всесоюзного радио — коллег у него там было немало. Ведь озвучивать всю, без исключения, сетку вещания — это воистину титанический и неподъемный для одного человека труд. Некоторые коллеги Юрия Борисовича даже принимали куда более тесное участие в реальных боевых действия, в отличие от него, всю войну проведшего за микрофоном, — проявляя при этом незаурядную личную храбрость. Как, например, Владимир Борисович Герцык, в 1941 году ушедший на фронт вначале командиром роты химической защиты, согласно одному из своих дипломов, — а потом ставший «полевым диктором». С безупречным немецким произношением озвучивавший предложение вражеским солдатам отказываться воевать за Гитлера, складывая оружие — с борта самолета У-2 с мощной звуковой аппаратурой. И пусть полеты и проходили ночью, — но все равно у линии фронта, на крошечном фанерном самолетике, практически беззащитном не то что от возможных атак немецких истребителей или зенитного огня, — но даже и обычных винтовок пехоты Вермахта.
Тем не менее самым знаменитым диктором СССР по сей день заслуженно является именно Левитан. В первую очередь потому, что именно ему доверяли сообщать по радио на всю страну новости о наиболее важных и судьбоносных событиях на фронте. И печальных — как о тяжелых боях и оставлении Красной Армией советских городов в первые годы противостояния. И радостных — как победы в важнейших битвах, освобождение от фашистов ранее оккупированных ими территорий. И, конечно же, — сообщение о самом главном событии Великой Отечественной — такой же Великой Победе, чей свет озаряет нас до сих пор. Кстати сказать, то, что самая главная радиопередача, благодаря которой, даже ей одной, Левитан однозначно вошел бы в историю, удалось вовремя передать в эфир едва ли не чудом, в самый последний момент. Ибо улицы майской Москвы, после предварительного оповещения о том, что скоро будет передано важное правительственное сообщение, наполнились толпами людей — в радостном предвкушении ожидавших того, что было главной их мечтой на протяжении четырех с лишним лет. И прорваться из Кремля в помещение Всесоюзного радио Юрию Борисовичу просто не позволяли тесно стоявшие на Красной площади и по улицам столицы москвичи. Не станешь же кричать каждые несколько метров: «Пропустите, я Левитан — через несколько минут мне надо передать новость о капитуляции Германии!» — Так что диктору пришлось возвращаться назад, в Кремль — на запасную «аппаратную». Предварительно на бегу попросив коменданта Кремля предупредить охрану, чтобы та не тормозила для проверки документов группу людей, стремглав куда-то бегущую. К заветному микрофону Левитану удалось добежать буквально лишь за минуту до выхода в эфир. После чего он, едва переведя дух, своим обычным торжественным голосом произнес: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза…»
***
Но прежде чем дожить до такого триумфа, 17-летнему юноше, приехавшему в 1932 году «покорять Москву», пришлось изрядно потрудиться. Сыну портного из Владимира достался от родителей не только уникальный голос с редким тембром, — но и характерное для малой родины «оканье». Так что приемная комиссия в кинотехникуме, где поначалу хотел учиться парень, не захотела видеть его в числе своих студентов. Соответственно, работа на радио стала, что называется, «запасным вариантом». Где, впрочем, нового сотрудника оценили куда более адекватно, — чему немало поспособствовал сотрудничающий с радио известнейший актер и чтец МХАТа, корифей еще с дореволюционных времен — Василий Иванович Качалов, взявшийся оттачивать врожденные таланты Левитана до настоящего профессионального мастерства. В этой связи довольно смешно читать некоторые краткие описания карьеры Юрия Борисовича, — дескать, о нем в 1934 году узнал Сталин, после чего сделал его своим любимцем. Право, это что-то из «той же оперы», что и утверждение «раз таблица Менделеева великому ученому приснилась, — значит, и особых его заслуг в открытии нет». Да ведь, чтобы увидеть этот сон — гений десятилетиями размышлял над проблемой классификации химических элементов! И только потому в финале и смог увидеть этот самый сон…
Так и молодой Левитан — первые годы на радио тренировался едва ли не по образцу знаменитого древнегреческого оратора Демосфена. Который с рождения был застенчивым, косноязычным, да еще и имел неприятную привычку время от времени подергивать плечом. Но благодаря упорным тренировкам громкости голоса на морском берегу при крике чаек, отработке дикции с положенными в рот камешками, подвешиванию меча над своим плечом для страха пораниться им при подергивании, спустя несколько лет стал самым знаменитым оратором древних Афин.
Молодой диктор упорно избавлялся от своего «окания», иногда даже подолгу учился говорить, стоя на руках, подняв ноги вверх. И все равно, ему поначалу доверяли лишь чисто «технические»» задачи — вроде чтения по слогам передовиц газеты «Правда» по ночам — для наборщиков текста в региональных типографиях. Ведь хотя технологии факсимильной связи и начали появляться еще в начале 20 века, — но из-за несовершенства телефонных линий даже в США их впервые использовали для передачи информации для СМИ лишь в 1936 году. А в СССР такие технологии для прессы начали широко использоваться только с 50-х годов. Так что содержание значительной части советских газет для печати в отдаленных регионах необъятной страны до этого передавалось чаще всего по радио, ночами.
С другой стороны, лидер страны Иосиф Сталин, как известно, по хронотипу был ярко выраженной «совой». То есть имел пик трудоспособности в вечерние и ночные часы — соответственно, поздно ложился и поздно вставал. А совещания с его участием, начинающиеся в полночь, были довольно заурядным явлением. Кстати, те, кто видят в такой «ночной работе» некую якобы «присущую только тиранам особенность», глубоко ошибаются. Такой хронотип как раз характерен для элиты, аристократов. И той ее части, которая преимущественно развлекалась на балах до утра — и той, что занималась государственными делами. Как, например, имевший десятки поколений знатных предков знаменитый британский премьер Уинстон Черчилль — даже в годы войны чаще всего просыпавшийся лишь ближе к полудню.
***
Вот и получилось, что однажды в 1934 году вождь Страны Советов решил немного послушать лично, что там будет завтра опубликовано в «Правде» еще до появления газеты в киосках. И был очень впечатлен голосом Левитана, — который после этого стал неофициальным «главным диктором страны» и «голосом ее лидера». В эпоху, когда не было ни интернета, ни даже телевидения (да и традиционных пресс-конференций почти тоже) — такая должность по значимости была практически аналогичной «пресс-секретарю» главы государства. Закономерно считающейся в политических системах самых разных стран одной из самых значительных. Хотя, кстати, первая личная встреча Иосифа Виссарионовича и Юрия Борисовича произошла лишь в июле 1941 года — до этого они были знакомы лишь заочно.
Конечно, сам Сталин тоже не так редко произносил речи — на самых важных партийных и государственных форумах, например, которые тоже обычно транслировались по радио. Но все же, заниматься таким регулярно-ежедневно, — как говорится, «не царское это дело». Особенно если доклад или речь занимает много времени, — когда ж делами страны заниматься? Поэтому с 1934 года сообщения по радио о наиболее важных событиях поручали озвучивать именно Юрию Левитану. Доклад 17-му съезду партии, события героической эпопеи спасения моряков с затертого льдами в Северном Ледовитом океане парохода «Челюскин», после успешного завершения которой в стране появились первые Герои Советского Союза, — спасшие 7 наших летчиков. Трудовые подвиги «стахановцев», все новые почины тружеников первых «пятилеток», высадку «папанинцев» на Северный полюс и многое другое.
Либеральные источники, конечно, не без скрытого злорадства смакуют и то, что Левитан сообщал советским радиослушателям и о ходе «московских процессов над врагами народа», всякими там «троцкистами» и иже с ними — или о победах немецкого генерала Роммеля в Северной Африке над англичанами буквально еще утром 22 июня 1941 года. Ну, так а чего здесь удивительного — или предосудительного? К тем же «врагам народа», осужденных в ходе открытых судов 1937—38 годов, иронические кавычки стали применяться лишь после того, как недобитый тайный троцкист Хрущев начал после 20 съезда КПСС срочно реабилитировать всю эту публику, что называется, «оптом и в розницу». А те же англичане, несмотря на свое якобы «участие» в войне против Германии, до мая 1940 года носившую ироническое название «странная», и финским фашистам в войне против СССР активно помогали, — и даже всерьез рассматривали идею бомбардировок советских нефтепромыслов Баку и Северного Кавказа. А о том, что Лондон рассматривает Москву в качестве своего союзника, Черчилль заявил лишь после 22 июня…
***
С началом войны Юрий Левитан стал и главным военным диктором страны. Все те же злобствующие либералы, конечно, и тут не упускают шансов уколоть его лично и все руководство СССР в целом, — дескать, да кто ж эти сообщения мог слышать, приемники-то вскоре после вероломного гитлеровского нападения у населения отобрали? Кстати, это было сделано не только для полного отсечения любой возможности геббельсовского ЦИПСО сеять панику и пораженческие настроения среди советских людей на фронте и в тылу. Просто лозунг «все для фронта, все для победы» — он не только мобилизованных для армии с предприятий и колхозов автомобилей и тракторов, но и мгновенно ставшей дефицитной электроники касался тоже. Особенно на фоне того, что в 1941 году даже в ВВС РККА радиостанции стояли лишь на машинах от командира эскадрильи. Пусть и не все изъятые под расписку радиоприборы были разобраны за запчасти (с последующей денежной компенсацией после войны владельцам) — многие были нетронутыми возвращены обратно уже после 15 марта 1945 года, даже не дожидаясь взятия Берлина.
Ну, так собственный полноценный ламповый приемник в то время был для большинства предметом роскоши, вроде навороченного компьютера или смартфона сегодня. Большинство обходилось проводными радиоточками в своих жилищах — или вообще установленными на площадях репродукторами. А «те, кому надо», приемники имели. В том числе — и командование подразделений РККА, находящихся на фронте. Собственно, непосредственно на линии фронта бойцам сидеть у радио было особо некогда, — но вот при ротации в тыл, слушать Москву было вполне возможно. Еще большее значение имели сводки Совинформбюро для жителей временно оккупированных советских территорий. Которые, если у них были приемники, могли узнавать важнейшую для себя информацию, — что страна продолжает бороться против захватчиков, а не сдалась им, как уверяли народ гитлеровские пропагандисты. Что вселяло в людей надежду, — а самых смелых вдохновляло подниматься на борьбу в подполье или партизанских отрядах.
Да, в общем, поддерживать надежду и в нашем тылу в самые трудные 1941—42 годы было не менее важно. С чем отлично справлялся голос Левитана, — ставший для десятков миллионов наших сограждан голосом борющейся с мировым злом фашизма страны. Когда надо — ликующим от радости одержанной победы, когда надо — несущим оттенок «оптимистического трагизма» поражения или отступления нашей армии. Но и тогда — без «всепропальщества», как это любят ныне «впаривать» аудитории немалое количество блогеров, специализирующихся на освещении хода СВО.
Юрий Борисович мастерски мог придать своему голосу нужный оттенок. Недаром среди его наставников были лучшие актеры МХАТа и других театров Москвы — во главе с великим Качаловым. Недаром также существует легенда, что Гитлер считал его своим «личным врагом номер 1» — так что даже Сталина ставил лишь на пусть почетное, но все же второе место. И даже назначал за голову советского диктора награду то ли в 200, то ли даже в 250 тысяч марок.
***
Можно заметить, что хотя документальных подтверждений об этой баснословной сумме пока еще не найдено, — но тем не менее отдельные документы относительно того, что гитлеровцы «неровно дышали» к Левитану, все же имеются. Например, «Специальный розыскной список», имеющийся в федеральном немецком архиве, — где указано 5 256 фамилий лиц, подлежащих немедленному аресту в случае захвата вермахтом Москвы. Пусть и не пронумерованный по порядку, — но сгруппированный по алфавиту, но имя Левитана там действительно есть, как и Сталина (точнее — Джугашвили) тоже. Еще косвенно подтверждает, как минимум, часть рассматриваемой легенды и то, что большую часть войны Юрий Борисович находился не в Москве, — а… в Свердловске! То есть даже в более глубоком тылу, чем эвакуированные в Куйбышев из столицы большинство правительственных учреждений, иностранных посольств. Да и режим секретности, охраны радиостанции, на которой работал Левитан был, мягко говоря, крайне серьезным. Вплоть до того, что в одиночку она в эфир не выходила — сигнал одновременно ретранслировался действительно почти по всем радиостанциям Советского Союза. Конечно, в те годы у немцев не существовало высокоточных ракет, способных наводиться по радиосигналу, — Фау-1 Вернера фон Брауна реально стали бить по Лондону лишь ближе к концу войны. Да и точность у них была «плюс-минус лапоть» — отчего, собственно, и направляли их гитлеровцы лишь на столь крупную цель как британская столица — авось куда-нибудь да попадет.
Но вот запеленговать место работы главного передатчика Всесоюзного радио вместе с его таким же «главным диктором» в случае несоблюдения вышеописанных мер предосторожности немцы вполне могли — после чего послать туда отряд диверсантов или использовать «спящую агентуру». Видимо, у органов государственной безопасности были агентурные сведения на этот счет, — возможно, и с фигурированием пресловутой награды за голову Левитана. Отсюда — почти беспрецедентные (а потому и недешевые) меры предосторожности — уровня едва ли не обеспечения безопасности первых лиц государства.
***
К слову сказать, несмотря на частый эпитет «любимчик (или любимец) Сталина» в отношении к Левитану, особых преференций самый известный диктор страны от ее лидера так и не получил. С другой стороны, Иосиф Виссарионович и сам не был «мещанином-вещистом», — искренне считая, что настоящему коммунисту горы барахла и прочих «атрибутов красивой жизни» не нужны. А потому при нем не только наркомы жили в пусть хороших казенных квартирах, но с казенной же мебелью, — но и сам вождь после смерти оставил после себя на сберкнижке всего 50 рублей. А немалые гонорары за публикацию своих работ в стране и за рубежом отдавал на выплаты Сталинских премий наиболее заслуженным людям страны.
Так и Юрий Борисович в особой роскоши тоже не купался, — несмотря на личное благоволение к нему вождя. Живя до начала войны в комнате в коммуналке, — правда, площадью 30 квадратных метров (на уровне общей площади однокомнатной «хрущевки») — и рядом с Кремлем. Но все же с учетом того, что в этой комнате проживали с диктором его жена, мать и сестра — особо комфортным такое жилье не назовешь. А отдельную квартиру ему дали лишь под конец войны — после возвращения из Свердловска.
По сути, единственная полученная награда из рук Сталина — это Орден Трудового Красного Знамени в 1944 году. Даже «заслуженного артиста РСФСР» Левитану присвоили лишь в 1959 году — уже при Хрущеве (Народным артистом СССР он стал в 1980 году при Брежневе). И кроме орденов Знак Почета в 1964 и Октябрьской революции в 1974, грудь самого популярного работника советского радио украшали лишь юбилейные медали.
С другой стороны, тот же Хрущев, рьяно принявшийся искоренять все, что было связано с именем Сталина, под предлогом «борьбы с культом личности» — и не думал посягать на того, кого называли его «любимчиком». Так что и о полете первого спутника в 1957 году, и о первом в мире космонавте Земли Юрии Гагарине, и о многих других великих достижениях послевоенного СССР советским людям сообщал все тот же торжественный голос Левитана. Видимо, даже печально известному «кукурузнику» хватило ума понять: любимцем диктор был не только у Иосифа Виссарионовича, — но и всего советского народа тоже, по сути, став для него таким же «национальным достоянием», как и многие другие символы страны.
Так что плодотворная работа Юрия Борисовича на радио длилась больше 60 лет. Он и умер-то фактически «на боевом посту» — во время встречи с фронтовиками, участниками Курской битвы, непосредственно в местах памятных событий. Августовская жара 4 августа 1983 года, доходящая до 40 градусов, оказалась роковой для уже не самого здорового сердца Левитана… Который так и остался в памяти и современников, и потомков, как единственный в своем роде «диктор Победы», — возвестивший о ней по радио и своим согражданам, и всему миру 9 мая 1945 года.



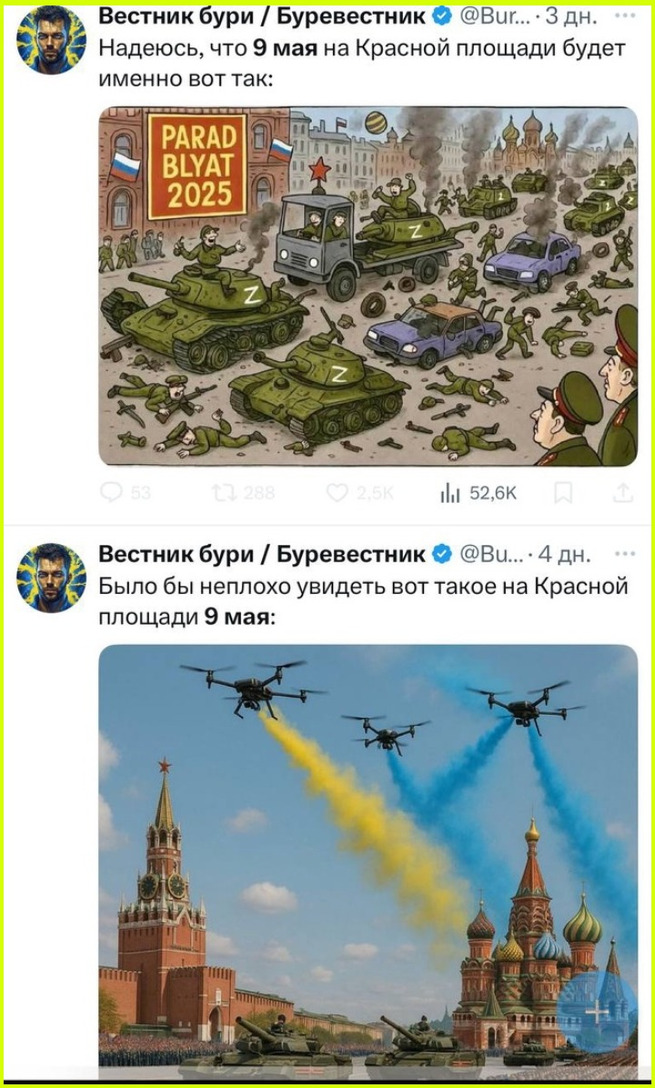


Оценили 3 человека
4 кармы