
Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.
В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.
Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.
Если тот выдерживал испытание — вечером комиссар знакомился с ним еще раз.
— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.
Удивленный командир называл свою фамилию.
— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку. — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.
В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.
Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.
Вечером возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.
Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.
Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.
Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.
Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав под мышкой, повернулся.
Ему стреляли в спину. Две пули попали в флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.
Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.
— Напоите!
— А вдруг дошли бы, а она пустая? — заинтересованно спросил кто-то.
— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.
Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке.
Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.
Через пятнадцать минут он неожиданно окрикнул командира батальона.
— Ну, отправили в санбат?
— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.
— Дотемна он умрет. — И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.
Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.
А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя, и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.
Красноармейцы шли смело, не припадая к земле. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.
Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.
— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга.
Корневу казалось, что на воине все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.
И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.
— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?
Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.
Хирург пожал плечами.
— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен, — сердито повторил он. — Плохо работаете.
И, не простившись, пошел к машине.
Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки была в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, что он плохо работает.
— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.
Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.
— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить. — Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами…
Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди от него уходили сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая их, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, — лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.
Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не жалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.
Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.
Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой, грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если идти рядом с ним, то ничего не может случиться.
Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.
Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.
— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.
Почти у самых окопов их «взяли в вилку». Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.
Комиссар встал, отряхиваясь.
— Вот видите, — сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку. — Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед идти.
— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так… — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.
— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они уже по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили и опять был бы недолет.
Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю.
Так состоялось их первое знакомство.
Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми.
Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.
Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал у железной печки свои забрызганные грязью сапоги.
Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.
— Ну, хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он, видимо, прерванный разговор, — ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как, по-вашему?
— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.
Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:
— Ну, выживет, хорошо — едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?
— У меня нет теории, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, — хорошая теория.
В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.
— Кто вместо него? — спросил комиссар.
— Лейтенант Васильев из пятой роты.
— А кто же в пятой роте?
— Какой-то сержант.
Комиссар на минуту задумался.
— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.
— По правде говоря — сильно.
— Выпейте водки.
Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.
— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте.
Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.
— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами. — Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?
Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.
— Да, — сказал он.
В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.
Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту — всю, до последнего человека.
Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку.
Тронутый первыми заморозками гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Гитлеровцы были убиты или взяты в плен. Многие, пытавшиеся добраться до своего берега вплавь, потонули в ледяной зимней воде.
Бросив уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.
Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.
Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.
Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана — пулевая или штыковая.
Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.
Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.
— Штыковая, — сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.
Когда он поднялся, на лице его было удивление.
— Еще дышит, — сказал он.
— Дышит?
Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого, оказавшегося живым, человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он, наверное, бежал. И все-таки — нет! Не может быть. Он очень редко ошибался в людях.
— Двое сюда! — резко приказал он. — На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.
И он, повернувшись, пошел дальше по полю.
«Выживет или нет?» — этот вопрос у него путался с другим — как себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле. И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро, — значит, выживет, непременно выживет.
И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую руку.
— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты, — сказал адъютант, — застрял на переправе, еще шагов сто оставалось, когда…
— Знаю, — прервал его комиссар, — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.
Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:
— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой…
Константин Симонов, «Третий адъютант»


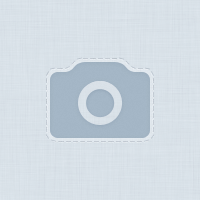



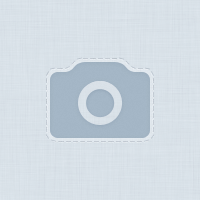

Оценили 6 человек
6 кармы