
На скошенном борту «тридцатьчетверки» крупно белым выведено: «Корпус № 1». Башни нет, дыру от нее закрывает лист металла в сантиметр толщиной, прикрученный через дырки проволокой к бревенчатой раме, которая охватывает весь корпус машины. От задних буксирных крюков на раму загибаются два толстых троса с петлями на концах. Если бы не гусеницы, все это здорово смахивало бы на огромную колымагу для вывозки сена. Но это не для сена, это тягач для вытаскивания с передовой подбитых, но не сгоревших машин.
Я заглядываю в черноту под крышку люка. Там на днище лежит, закинув руки за голову, парень в черном комбинезоне с чумазым угловатым лицом.
— Тебе чего? — спрашивает он.
— Комбат послал к тебе.
— С какой машины?
— Со сто двадцатой.
— Вот так перец! Когда ее вытаскивали, снайпер сцепщика уложил. И ты с этой же машины! Ну залезай!
Несколько дней мы шлепали в самом хвосте тэповской колонны, стояли где-то больше суток, но вот с гулом и грохотом несемся по широкой улице только что отбитого у немцев города. Впереди в открытом люке из-за плеча механика я вижу совершенно целые и потому непривычные улицы и кварталы. Бог ты мой! Неужели и я когда-то ходил вот по таким же улицам? В брючках и в кепочке! Но вот замелькали обычные развалины, везде они одинаковые: груды кирпича и мусора, куски стен и фасадов с пустыми дырами окон. Но здесь уже глубокий тыл, от нашей машины шарахаются в обе стороны какие-то уж очень веселые солдаты и офицеры, много и цивильных немцев со своими рюкзаками и велосипедами. Механик то и дело вынужден сбрасывать газ, хотя нам велели гнать на четвертой скорости.
Бой идет, как нам сказали, за окраиной, среди сосняка за коттеджами. Вот в люке замелькали эти коттеджи, некоторые разбиты и дымят, летят мимо проволочные заборчики, зеленые изгороди — Европа! Промелькнул опрокинутый «оппелишка», и вдруг мы чуть не врезались в подбитую «пантеру»; дымит что-то, а что, мы увидели с механиком, лишь когда, дав тормоза, юзом чуть не ткнулись в наклоненную пушку с уродливым надульником. Объехали мы горевшую «пантеру», летим дальше, и я вижу, что цивильных тут уже нет ни одного, а наших солдат и офицеров только единицы.
Но вот из-за изгороди выбегает на дорогу капитан-помпотех{16} в кожаной курточке и поднимает над головой скрещенные руки — танкистский сигнал «стоп». Машина опять катится юзом, подняв вокруг тучу желтоватой пыли, помпотех неожиданно появляется из нее весь припорошенный, как мельник, нагибается к люку и тихо, сдерживаясь, говорит:
— Едешь по этой же дороге. Едешь на четвертой. Постреливают. Увидишь подбитую машину, на крюк — и сюда! Быстро! В ней раненые!
И снова мы с гулом и ревом несемся по желтой дороге, покачиваясь на неровностях. Изгороди и коттеджи кончились, вокруг ни души, никаких солдат и офицеров, постреливают здесь, передовая близко. Только стоят стройные сосны с золотистыми стволами и много свежих воронок, много поломанных и расщепленных стволов, веток на дороге. Вот густая крона преграждает дорогу, механик опускает крышку люка, в машине темнеет, он прилип лбом к перископчику, и кажется, что слился с машиной, лишь подергиваются его оттопыренные локти, когда он жмет то на один, то на другой рычаг. Я сижу на днище, привалившись спиной к горячей моторной переборке, я уже надел брезентовые рукавицы, и держу в руках большой гаечный ключ, и жду, подняв голову. Там откуда-то сифонит лучик света и гулко погромыхивает неплотно прикрученный лист железа. Два удара ключом по броне — стой, три удара — готово, а сам сразу прыгай в подбитую самоходку, — помню я весь инструктаж механика.
И вот машина резко тормозит, с ревом и крупной дрожью крутится на одной гусенице и сразу же на малом газу, чуть подергиваясь, медленно идет назад. Я стою на коленях рядом с механиком. Неужели он все-таки с закрытым люком точно подойдет к самоходке?
Механик откидывает крышку люка, в глаза бьет резкий свет, сквозь рокот дизеля он выпаливает мне:
— Два удара — стой! Три — готово! Ну, скорее!
Я выскальзываю из люка и сразу же распластываюсь на земле. Кругом неприятно, нехорошо! Ярко бьет солнце, повсюду поломанные стволы, ветки и гулкая тишина, какая обычно бывает между двумя разрывами снарядов. Ползу в мягкой пыли у самых медленно двигающихся катков, обгоняя тягач. И тут неподалеку, справа, с оглушающим протяжным хряском рвется снаряд. Осколки противно шаркают по броне, один обессилевший поднимает пыль у моей рукавицы с гаечным ключом. Да, отвык я за последние дни от всего такого. Скорее, скорее! Ведь убьет же! Убьет! Скорее! Я поднимаю голову и вижу, что тягач сейчас ткнется задом в самоходку. Ловок, дьявол, точно нацелил. По своему же следу, наверное. Приподнимаюсь и ключом два раза грохаю в броню, машина тут же замирает. Вскочив, я срываю один буксир, мгновенно цепляю за крюк под задней дверцей самоходки и луплю ключом изо всех сил по броне тягача. И в этот момент слева протяжно рявкает второй снаряд. Что-то, словно дубиной, бьет меня в левую руку пониже плеча, я кидаюсь в открытую дверцу подбитой машины и вижу сбоку, метрах в тридцати, другую самоходку, прижавшуюся к разбитой стене сарая. Экипаж испуганно смотрит на меня, чуть высунувшись из-за брони, один что-то орет и машет мне рукой. Неужели и мы при обстрелах были такими же испуганными и так же выпучивали глаза?
Механик дал газ, тягач взревел дизелем. Я отворачиваюсь от черных клубов из выхлопных труб и в углу под панорамой вижу Веньку.
Венька! Здесь! Взяли все-таки из резерва! Он полулежит, раздвинув ногами гильзы, и равнодушно, без всякого выражения смотрит на меня. Шапки на нем нет, лицо, как белая маска, губы серо-синие, глаза остановившиеся. Левого плеча у него нет, вырвано оно вместе с погоном. Видны темно-красные мышцы, белая косточка и обожженные края фуфайки. Я смотрю вверх на панораму, чуть выше, почти в самом углу светится дыра. Болванка. Вошла над Венькиным плечом.
Машина уже трясется и прыгает, механик гонит назад, и мы у него на буксире болтаемся из стороны в сторону, как детский воздушный шарик на ветру. От толчков Венька кривит губы, я бросаюсь к нему и, подсунув под спину правую руку, приподнимаю его и втискиваюсь в угол. Венька лежит на мне, я пруж-иню всем телом, стараясь смягчить толчки и удары. Может быть, от этого Веньке хоть чуть-чуть да полегче. А в руку-то мне долбанул осколок, она начинает неметь, и меж пальцев я чувствую что-то липкое. Кровь. Чего же еще?
И тут я вижу заряжающего, вернее, его выпуклую спину. Он скорчился, подогнув колени, в своем углу. Головы не видно: он обхватил ее руками и, наверное, пытался спрятаться в груде стреляных гильз. И его той же болванкой...
А лейтенанта в боевом отделении нет. Успел выскочить? Не он ли сказал капитану-помпотеху о раненых? Я выворачиваю голову налево и вижу, что в моторном отделении светлее обычного, хотя люк и закрыт. И там лежат двое. Лейтенант и механик. Оба покачиваются безвольно от толчков и тряски. В крышке люка на месте перископчика светится такая же дыра, как и у панорамы. Тоже болванка. Что-то здесь было в последние секунды. Что-то случилось. Какая болванка была первой? И зачем лейтенант полез в моторное отделение?
Машина пошла ровнее, механик тягача сбавил скорость. Наверное, чтобы нас поменьше мотало. С трудом левой, еще сильнее онемевшей рукой я достаю из кармана штанов перевязочный пакет и рву его зубами. На такую рану пакет? Но надо же что-то делать! Венька видит пакет и тихо что-то говорит. Из-за шума дизеля и лязга гусениц я не слышу и склоняюсь ухом к его губам.
— Не надо, Димка... все, Димка... пакет не надо... Все, все... ты пришел... хорошо... не одному... хорошо... мать одна осталась...
Внезапно он словно оживает и, резко повернув голову, почти кричит мне в лицо:
— Но я им тоже дал, Димка! Ты же видел, я их... много... много...
Он склоняет голову, мякнет в моих руках и затихает. Я держу его голову на груди. Машина идет почти ровно, я глажу Веньку по влажным волосам, по еще теплому уху и смотрю поверх брони в чистое голубое небо, где проплывают ярко-зеленые макушки сосен, а между ними светятся чистые белые облака. Ладонь у меня мокрая, я вижу — она в крови. Чья она? Моя? Венькина?
— Вот они! — неожиданно раздается резкий вскрик, и над задней броней появляется темный силуэт, потом замелькали чьи-то головы.
Звенят гильзы, черная фигура склоняется надо мной. Все это я вижу в пелене, нечетко, и звуки доносятся откуда-то издалека. Но я понимаю, что мы уже приехали, что надо вылезать. Вылезать. Я начинаю вставать, крепко прижимая к себе Веньку, и совсем не чувствую его тяжести. Мне кто-то помогает, поддерживает под локоть. Да не надо, не надо, ради бога, все уже, все! Все! Я сам, сам... И я вылезаю из машины, нечего мне в ней больше делать, мертвого Веньку я довез, теперь надо осторожно, не задев за углы брони, вынести его из машины. Я медленно, очень осторожно вылезаю через калитку, кто-то говорит мне прямо в ухо: «Положи его вот сюда». И я осторожно кладу Веньку, куда мне показывают, на чистое, белое. Опять, наверное, немецкая скатерть, как тогда с семью самоходчиками. «Иди вот сюда, сядь, покури. Постой, да ты же ранен! Сиди здесь, я сейчас!» — раздается над ухом все тот же знакомый голос, и я сажусь на подножку автомашины. Мне дают папироску, вспыхивает огонек, я затягиваюсь, но дыма не чувствую, затягиваюсь еще и еще, курю, но ничего не чувствую. Рука начинает болеть.
Потом я поднимаю голову и вижу, как двое кладут на белое еще одно тело, наверное, это заряжающий. Тело с поджатыми коленками, вот его положили, и оно не выпрямилось.
И тут я слышу неподалеку, за автомашиной, все тот же знакомый раздраженный голос:
— Зачем ты их сюда привел?! Гони их отсюда куда подальше! Нечего им тут смотреть!
— Сейчас, товарищ капитан. Эти пленные бежали долго, отдохнуть присели, — отвечает звонкий мальчишеский голос.
Пленные! Надо смотреть! Всем смотреть! А вдруг! Вдруг он здесь! Я вскакиваю, бегу за автомашину и четко, ясно вижу у задней стены коттеджа плотную серо-пятнистую группу сидящих немцев, а рядом пацана-конвоира и нашего комбата, стоящего спиной ко мне. Я подскакиваю к пленным, конвоир орет: «Назад! Нельзя!» Я, нагнувшись и крутясь между ними, поворачиваю к себе за уши, за волосы головы пленных, сбиваю с них шапки и ору: «Во ист Гитлер? Во ист Гитлер?»{17} Но ни один не похож на Гитлера, все или белобрысые, или горбоносые, или очень молодые.
Они шарахаются от меня, некоторые падают на землю, стараясь увернуться от моих рук, неожиданно я чувствую резкий удар под колено, но удерживаюсь на ногах, поворачиваюсь и вижу злобно-ухмыляющегося рыжего немца средних лет. Он не отводит глаз и продолжает ухмыляться. Я кидаюсь на него и, несмотря на тупые удары в живот и грудь, успеваю вцепиться пальцами в его горло и ору прямо в его мгновенно побелевшее и ставшее испуганно-напряженным лицо:
— Мразь! Эсэсман! Ты что? Ничего не понял?! Ты же пленный! Пожалели тебя! В плен взяли! Так сиди! Сиди и не...
За плечи, за руки меня отрывают от рыжего, поднимают и несут куда-то. Последнее, что я вижу, — рыжий на коленях, рукой он держится за измазанное моей кровью горло и уползает спешно в самую гущу пленных.
...Очнулся я в госпитале. Через месяц стал гулять у тихого немецкого озера. Поздней осенью был демобилизован из госпиталя на Урале инвалидом второй группы. Там тоже было тихое лесное озеро.
Теперь я нередко сижу у тихого озера. Часто с Ниной.
А Коля умер в госпитале. С Гришей встретились один раз. И все. Обмениваемся письмами.
Какими они были?
Лучше бы войну не вспоминать. Это понятно. Или лучше вспоминать так, чтобы поменьше переживать и огорчаться. Это тоже понятно. «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, — услышал однажды Василь Быков, писатель-фронтовик, от читателей, — ведь были же на войне и веселые моменты, и шутки, и смех». Наверное, Василь Быков мог бы что-нибудь рассказать и про «веселые моменты», но ради них ли он и его товарищи по литературе и окопному прошлому вот уже тридцать лет памятью и воображением возвращаются на войну? Шутки и смех? «Но ведь во все времена, — ответил В. Быков, — жаждущие развлечений шли на торжище, в скоморошный ряд, но никогда — во храм».
Храм искусства? Храм памяти? Возможно, это звучит чересчур торжественно и высокопарно. Но разве, вступая в пределы Литературы, мы не оставляем за порогом всё мелкое, низкое, своекорыстное? Разве не светлеем умом? Разве наши идеальные побуждения и надежды, столь теснимые обыденностью, не получают там простора и подтверждения? И если, попадая в те высокие пределы, мы оказываемся на войне, всегда кровавой, серьезной и трудной для человека, то, наверное, не в угоду чьим-то частным прихотям или каким-нибудь утилитарным целям. Мы оказываемся там, потому что в свой час в том пространстве войны, Великой и Отечественной, были наши деды, прадеды или отцы, и не чья-нибудь, а их кровь течет в наших жилах, и не чья-нибудь, а их память отзывается в нас, если не отучились чувствовать глубоко и сильно. Не за победными трофеями возвращается настоящая литература на поля давних сражений, и если ищет кому славы, то обыкновенному человеку нашей страны, сумевшему выстоять и восторжествовать. Да и не славы она ищет, а хочет понять, каким он был, тот человек, спасший нашу землю от фашистского нашествия? Какими они вообще были, вставшие от края и до края? Ведь было в них, наверное, что-то, что не позволяет угаснуть вечной надежде на лучшие и светлые, чистые силы человека?
А были они чаще всего молодыми. И книга эта — о молодом человеке на войне. Или даже — о совсем молодом. Разве что Сашка из повести В. Кондратьева чуть постарше (с девятнадцатого года), а остальные, что ж, — мальчишки почти. Так вот: какими они были, эти мальчишки? Разве нам все равно? Разве не важно для нас, для нашей собственной жизни, представить себе, о чем думали они, чего хотели, к чему стремились?
У Сергея Никитина нет ни слова о том, как его герой повести Митя Ивлев воевал. Вместе со всеми Митя поднимется в атаку и через несколько шагов упадет, чтобы не подняться уже никогда. Но писатель рассказал, как Митя жил до этого последнего мига, что жило в нем и что оборвалось. Он рассказал так, чтобы мы почувствовали: оборвалась жизнь, полная юных надежд и больших возможностей; исчез мир, поэтический, чистый, единственный в своем роде, мир — бесценный.
Повесть Константина Воробьева «Убиты под Москвой», опубликованная впервые А. Твардовским в журнале «Новый мир» (1963), принадлежит к числу лучших произведений «военной прозы». Она рассказывает о тяжелом времени, о трагических событиях, о гибели молодых, полных жизни людей, но если мы ценим воспитание правдой, то это оно и есть. Мы, несомненно, почувствуем, как там было на самом деле, и потому действительно благодарно и восхищенно будем думать о героях К. Воробьева. Бравурные и примитивные представления о поведении человека на войне, о героизме окажутся смятыми напором этой твердой и прямой правды, укрепляющей духовное мужество человека. Тяжело придется герою повести Алексею Ястребову, но тем дороже его победа над собой, над своей слабостью и страхом.
«Сашка» В. Кондратьева и «Самоходка номер 120» К. Колесова — это как бы «арьергард» нашей «военной прозы». Оба автора — участники войны, и оба пришли в литературу поздно, совсем недавно. Повести выдержаны в традициях, восходящих к опыту молодого Ю. Бондарева, В. Быкова, Г. Бакланова, В. Богомолова, того же К. Воробьева, В. Астафьева. Но в них нет эпигонства, в них — свой неповторимый и необходимый нам опыт. Повести насыщены почти предельной художественной конкретностью, воссоздающей труд и быт войны. И Сашка, и герой К. Колесова — молодые люди, сохраняющие, наперекор тяжелым обстоятельствам, высокие нравственные качества. Может быть, самое дорогое, что они не утрачивают своей человечности, совестливости, тонкости чувств, хотя это лишь усложняет их фронтовую участь. Важно и то, что перед нами люди, острейшим образом переживающие и обдумывающие все, что происходит с ними, все, в чем они участвуют. В них нет механической заведенности, послушания марионеток. Их душевный мир богат и самостоятелен, их патриотизм естественен и некриклив.
В целом же эта книга — словно краткая история молодого человека на войне. И образ этого человека оказывается очень располагающим, светоносным, внушающим полное доверие, и в то же время — глубоко реалистическим, несущим в себе немало драматического и трагического смысла.
Чем лучше будем знать, какими они были, тем лучше увидим самих себя и свои возможности. Тем богаче станет наша историческая память и тем выше наша ответственность за жизнь, какою живем.
Игорь Дедков
Константин Колесов, «Самоходка номер 120»











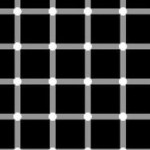
Оценил 21 человек
23 кармы