Вениамин Залманович Додин родился в 1924 году в Москве. С 1940 по 1954 год — тюрьма, лагеря, ссылки. После реабилитации с 1958 по 1968 год руководил Лабораторией строительства в Арктике. Доктор технических наук, действительный член Географического общества РАН. В течение двадцати лет читал спецкурс в военно-инженерных академиях.
Автор двадцати шести книг. С 1991 года живет в Израиле.

Глава из книги Вениамина Залмановича Додина "Густав и Катерина" пусть послужит напоминанием: на вопрос о причинах смертного приговора, вынесенного евреям, Гитлер ответил, «что это реакция на их чудовищные преступления перед украинским колонистским крестьянством, на жизнь которого они посягнули...».
Густав и Катерина...
История их любви, случившаяся 120 лет назад- поражает, завораживает,восхищает, ибо она полна загадок и тайн. Они были по разные стороны баррикад. Он- президент Финляндии, фельдмаршал, барон-Карл Густав Маннергейм(1867-1951), мечтавший о независимости своей родной страны от России. Она - величайшая русская балерина, прославившая русский балет на века - Екатерина Гельцер...

Монолог Карла
Долгие разговоры с внуком Маннергейма потекли по неожиданному для меня руслу. Этот человек видел историю с другой стороны! Я не стал переписывать его монологи от третьего лица — просто уступаю ему роль автора-рассказчика в некоторых главах.
Абсолютно все можно было предполагать, пытаясь отыскать первооснову лютой ненависти Гитлера к евреям, сдобренную все теми же витгенштейнами, троцкими и компанией. Все абсолютно.
Только вспомним прежде: на все тот же риторико-сакраментальный вопрос о причинах смертного приговора, вынесенного евреям, Гитлер ответил, «что это реакция на их чудовищные преступления перед украинским колонистским крестьянством, на жизнь которого они посягнули...».
Скорее всего, смею думать, он имел в виду не «украинское колонистское крестьянство», а лишь собственно меннонитов-фермеров немецко-голландского происхождения. Так или иначе, но страшная судьба этих тружеников «от Бога» потрясла и ужаснула Гитлера. И до него дошел истинный смысл каннибальских откровений Троцкого, которым прежде, если правду сказать, особого значения он не придавал, воспринимая их как «очередную еврейскую истерию» в попытке привлечь внимание к себе, высунуться, «обозначиться». Оказалось, что все очень серьезно.
То, что евреи-комиссары творили с остатками деникинских формирований, предполагаю, мало его интересовало. Как, впрочем, и «методы», которыми пользовались комиссары-евреи в показательных бойнях в Крыму. Хотя, конечно, это не могло не возбудить ненависти в любом солдатском сердце. Но казнившие Украину землячки, куны, якиры, беры, гамарники и их соплеменники подняли руку на немецкого колониста-хлебороба — на меннонита! На горстку святых тружеников, по традиции, неукоснительно соблюдаемой вот уже пятое столетие по возникновении их вероучения, не могущих держать в руках оружия даже для спасения собственной жизни и жизни близких!
О, если бы это было моей горячечной фантазией! Если бы это было одним из моих дичайших «открытий» в поисках истинных причин Божественного Возмездия, что обрушилось на головы миллионов «ни в чем не повинных» европейских евреев в годы Второй мировой войны!.. Все было серьезнее — о свидетельстве Мартина Тринкмана рассказал сам Гитлер, привязавшись ко мне, мальчишке, после июньской, 1942 года встречи. И даже признался, что Апокалипсисы Мартина Тринкмана освободили его от последних сомнений...
А было так. 29 декабря 1914 года офицер австрийской армии Мартин Тринкман оказался в русском плену. Пилот и авиамеханик, он за две недели до этого печального происшествия переброшен был в Галицию, вылетел на разведку, потерпел аварию и побился крепко. Чудом остался жив. Отправлен был после полевого лазарета в госпиталь при лагере военнопленных в Киеве, где потерял руку. Он провалялся до августа 1915-го по клиникам. Сбежал. Только не к далекому фронту, а в Закавказье. Там, возле Елисаветполя, столицы одноименной губернии, в голландско-немецкой колонии фермерствовали его родичи Пальмер-Туммы, Иоганн и Берта, брат и сестра. Мальчиком, с родителями он дважды гостил у них. Здесь Мартин понемногу оправился от угнетавшего его состояния увечности. Начал помогать хозяевам. Заулыбался. Но вскоре был выдан и арестован. Его отправили в лагерь под Житомир, но долго не держали. И, как инвалида, передали для использования на сельхозработах нойборнскому колонисту Юлиусу Кринке. У гостеприимных хлеборобов проработал Мартин несколько месяцев. И мир вновь воцарился в его страдающей душе. Мало того, пришла любовь. Только коротким было счастье: распоряжением командования все немецкие и голландские колонисты, фронтовой повинности не несущие, обязаны были нести повинность обозную. Каждой семье нужно было направить в распоряжение интендантства грузовой полок — фуру с парой лошадей — и с ними одного члена семьи — возчика. Мартин видел, как тяжко переживала хозяйка, да и сам Юлиус, когда оказалось, что отправиться с обозом должен старший сын — 14 летний Отто, надежда и любимец родителей. Считая, что он — однорукий — лишний едок в приютившей его семье, Мартин предложил себя в качестве сопровождающего мальчишки. Отец и мать Отто воспряли духом. Договорились с военным комендантом. И судьба пленника на время была решена. Собрались быстро. Сын попрощался с родителями. Мартин — с невестой, старшей сестрой Отто Мартой. Сбились в обозную роту — из Нойборна уходило неведомо куда еще с полсотни фур с конями и возчиками-колонистами. Понемногу успокоился и Юлиус: будет кому приглядеть за конями, да и за чересчур шустрым наследником. Удивительно, но русский комендант отпускает солдата вражеской армии, немца, пусть австрийского, с немецким мальчишкой под честное слово немца-колониста. А сам этот колонист уверен: немецкий военнопленный — бесхитростный, смелый, сильный и... ясноглазый — сохранит и спасет его старшего сына на неведомых и страшных военных дорогах...
В путь отправились в середине сентября 1916 года. Через год где-то случилась заваруха — переворот. Потом пришли на Украину германцы. Только добраться до них, до своих, было невозможно из Закавказья, где и носило в ту пору их обоз. Тут началась новая война — гражданская. Теперь смерть ходила не где-то там, далеко, на фронте, а рядом, вдоль дорог, по которым они двигались.
В конце 1919-го красные отбили у белых Чернигов, Харьков, Полтаву, Киев и установили на Украине новый режим. Обоз, с которым шли Отто и Мартин, из Бердянска на Азовском море направлен был властью в Большой Токмак. Степными дорогами — шляхами — двинулись они в глубь благодатной земли днепровского левобережья, по благословенной, житной и сытной Таврии к центру расположения богатейших на свете меннонитских колоний. Радоваться надо было... Но чем ближе подходили наши «путешественники» к этому российскому Эльдорадо, тем тяжелее, тем мрачнее становилось у них на душе. Первая на пути колония Геленфельд, славная своими «Золотыми фламандскими» пшеницами, охвачена была огнем. Горело все — дома колонистов, риги, овины, клуни, хлева, конюшни, птичники, свинарники, коптильни... Из огненных вихрей неслись душераздирающие вопли заживо сжигаемых людей... Они пытались вырваться из пожарища, выломиться из припертых кольями дверей, выбраться из прихваченных слегами окон, выбросить детей из пылавших чердаков... Тщетно! Пулеметным огнем с тачанок расстреливали всех, пытавшихся спастись... Загоняли назад — в пламя... Обозников, что кинулись помочь горящим выбраться из огня, свинцовыми очередями скосили тут же, перед изгородями...
Обоз, состоявший из полусотни фур, красноармейцы согнали со шляха. Стреляя вверх, заставили обогнуть ярко горевшую колонию. И задержали. А уже к рассвету, когда огонь сошел и крики утихли, обыскали, будто в поисках оружия. Еду отобрали всю, хотя обозники видели горы мешков с зерном и снедью, награбленные перед экзекуцией. Потом проверили документы. Комендант проставил на них печать мелитопольской чрезвычайки и подпись: «Моисей Райхман»... Что же, Райхман так Райхман. Всякое может нынче быть в ЧОНах — Частях особого назначения...
Обозу приказали двигаться дальше.
И они пошли, сперва вдоль железной дороги Бердянск—Большой Токмак. Видели издали, как горели меннонитские же колонии Вальдхайм, а потом и Гальбштадт. Везде было одно и то же: сжигали дома и службы. И в них жгли загнанных туда людей. Из этих двух колоний в сторону обоза бежало несколько мальчишек. Ночью они подошли, крадучись, к кострам, разожженным фурщиками. Рассказали, что творили с ними ЧОНовские бандиты. Проговорились: управляли казнью и разбоем коменданты-жидки. Из местных, «с Бердянска», один — Генькин Илья. Другой чужак, «с Минска», — Блюменталь. Тоже Илья... Быть и такое может... Блюменталь так Блюменталь. Генькин так Генькин... Одно название — каты!..
К Большому Токмаку — цели их движения — фурщиков не подпустили. Прогнали, сопроводив несколькими ЧОНовцами на тачанках, с южной стороны железной дороги из Верхнего Токмака на Мелитополь, до Молочни. В Молочне, тоже колонии меннонитов, но еще не сожженной, обозников снова обыскали. Отобрали свеклу, что накопали они ночами на брошенных плантациях. Проверили и отметили документы. И здесь злодействовала шайка из Мелитополя. Хозяйничал в колонии комендант... Илья Гликман... Снова Илья! Дались они им. И опять: Илья так Илья...
При них, еще не отправив обоз, Гликман отдал команду сгонять мужиков. Отто, Мартин, обозники видели, как из домов ЧОНовские командиры стали выбрасывать мужчин и мальчишек. Колонистов били на ходу арапниками. Требовали что-то. Потом с боем загоняли в овины... Из стоявшего над улицами отчаянного крика с матерщиной обозники поняли одно: колонистов-мужчин пытаются силой мобилизовать в армию. Отсюда ругань, угрозы, битье всех подряд прикладами, стрельба — пока еще поверх голов... Однако когда обоз отошел с версту, в ночной темени сразу, во всех концах колонии, загорелись дома... И все тот же страшный вопль множества людей донесся до фурщиков...
Обоз двигался дальше. Теперь уже неизвестно куда и зачем: бердянский груз в Большой Токмак — просоленную, но еще до засола сгнившую тарань — везли они как уже с месяц ушедшей армии, успевшей забрать у колонистов запасенное ими на будущую зиму. Теперь ЧОНовцы все жгли и жгли меннонитские хозяйства вместе с их хозяевами. Жгли людей, которые по вере своей — всему миру известной — не могли ни убивать, ни воевать, ни даже руками касаться орудий убийства. По строжайше соблюдаемой ими традиции, они могли лишь выращивать лучшие в мире, непревзойденной урожайности и великой биологической ценности твердые сорта пшеницы. Те, что в мире названы «Золотыми фламандскими», а в США и Канаде еще и по имени главной хлебной провинции бывшего Британского доминиона — «Манитобой». Они «могли лишь» производить лучшую на планете рунную овцу, от которой шерсть — гордость и слава фламандских и голландских поставщиков-крестьян. Богатство Австралии. Величие британских ткачей. Еще могли они превращать морское дно в знаменитые Нижние Земли — Нидерланды, подсказывая человечеству, как без разбоя, без крови, без смерти можно мирно «завоевывать» земли и выращивать на них хлеб, выводить скот и строить поселения. И еще могли они всюду, куда приводила их необходимость жить по традиции предков, превращать гигантские малярийные болота в цветущий рай. Это было и на их прародине. И в вислинском устье Польши — на знаменитых Жулавах. И на северо-востоке Балтии, что теперь зовется Восточной Пруссией. И в низовьях Днепра у Хортицы. И на Риони в Грузии. И в нижнем течении Куры — в Аракской долине Азербайджана...
«...1870 год. Указом Александра II правительство России аннулировало привилегии, полученные приглашенными Екатериной Великой и Потемкиным голландскими и немецкими меннонитами. Были распущены “опекунские конторы”, чем ликвидировалось самоуправление колоний. Насильственно введен был русский язык. Начался набор рекрутов. Это вызвало переселенческое движение из Украины, Поволжья, Кавказа. Значительное число меннонитов эмигрировало в Америку».
8 декабря 1870 года банкир-еврей, купец первой гильдии Абель Розенфельд, финансист великих князей и императорского дома, пытается предупредить Александра II: «...Вы, ваше величество, должны остановить исполнение пагубного акта. Если этого не случится, будут опустошены многими десятилетиями рачительно обихоженные богатейшие в мире земли колонистов-меннонитов на нашем Юге. Россия на долгие годы погрузится в пучину голода и социалистических потрясений...» Запомним эти слова.
Немного позднее, когда последствий крушащего Россию царского указа предотвратить было уже нельзя, князь Александр Иванович Барятинский, наместник на Кавказе, написал 12 января 1876 года великому князю Александру Николаевичу, будущему императору Александру III: «...роковая для России ошибка его величества, в затмении, отринула меннонитов-христиан от империи нашей и тем лишила государство хлебной его десницы...»
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в статье «Меннониты» сообщает: «Из России в Северо-Американские Соединенные Штаты с 1874 по 1880 год выехало 13 913 колонистов». Запомним и эту цифру.
Книга «Е. И. Ламанский и Государственный Банк России». Ее автор, Константин Аполлонович Скальковский, пишет в 1881 году: «...лишенный Манифестом 1861 года своих рабов, российский помещик полагал собственное спасение в незамедлительном разорении или, лучше того, в изгнании с земель государства своего преуспевающего конкурента — колониста-меннонита. Именно под этим давлением Александр II — сам крупнейший в мире землевладелец — скрепил монаршей рукой один из наиболее разорительнейших для России документов... Государство в одночасье потеряло крупнейшую в мире ниву твердых пшениц и мировое первенство хлебной торговли. Оставшиеся колонисты в опасении кар вдесятеро сократили пашню».
«...В 1874 году в США переехали из России немцы-меннониты... С собой они привезли семена озимой твердой пшеницы, и через несколько лет канзасские прерии, засеянные этой пшеницей, сделались подлинной житницей страны, а в некоторые годы — и всего мира...» Это записано в проспекте национальной выставки «Сельское хозяйство США» — официальном документе Государственного Департамента.
И еще один документ имеет смысл привести, чтобы окончательно стала ясной «цена вопроса», — «Малую советскую энциклопедию» первого издания. В ней, в томе седьмом, на странице 420 сказано, в частности: «...в конце 70-х и в 80-х годах разражается аграрный кризис, явившийся в Российской империи отголоском общеевропейского кризиса и связанный со вступлением на мировой хлебный рынок сильнейшего конкурента прежним поставщикам — САСШ...» А в томе втором, на странице 167, сообщается: «...грандиозный голод вспыхнул в 1891 году, охватив двадцать девять, главным образом восточных и юго-восточных, губерний. В 1892 году голод повторился в центральных и юго-восточных губерниях. В 1897–1898 — почти в тех же районах, в 1901 — в семнадцати губерниях центра, в 1905 — в двадцати двух губерниях... Последующие годы, 1906–1908, протекают тоже как голодные. В 1911–1912 годах голод вспыхнул с новой силой, охватив двадцать губерний с голодающим населением свыше тридцати миллионов человек. Голод сопровождался повальными эпидемиями тифа, цинги и огромной смертностью...»
Вдумаемся.
Исходом четырнадцати тысяч немцев-меннонитов — мужчин, женщин, стариков и детей — тысячелетняя Россия сброшена была с вершины хлебного Олимпа мира. Сразу оказалась ввергнутой в пучину перманентного голода, социальных потрясений, смут, большевистского рабства. И наконец, в бездну развала. В полном соответствии с прогнозом Абеля Розенфельда.
Четырнадцать тысяч меннонитов, прибыв в США, создали там новую житницу планеты, тем самым заложив основы процветания этой великой страны. А погружающаяся в кровавое гноище Россия руками своих поработителей добивает последнюю возможность, пусть в будущем, досыта накормить свой несчастный народ... Случайность, спровоцированная бессилием власти? Нет! До мелочей продуманное преступление-расправа над трудолюбием!
...На север наших обозников не пустили. Там, за сожженным Гальбштатом, вот уже месяц продолжалась массовая мобилизационная армейская облава на колонистов и украинских крестьян. Они обогнули горевший Тигернвайде, прошли вблизи пепелища Нейкирха. Здесь их опять окружили. Снова обыскали. Проверили документы. И надо же: подпись нейкирхского комиссара подтвердила уже закравшееся у обозников подозрение. «Шмуэль Гильман»! Еврей? Снова еврей?! Но это было еще не все: налетели ЧОНовцы из спаленного ими несчастного Тигернвейде. И, как заведено у бандитов, повальный обыск с грабежом. «Документы!» И снова... «Макс Эйхенбаум»...
Надо сказать, Мартину и Отто крупно повезло. Отто при отбытии из дому был еще мальчишкой. Никаких бумаг, удостоверяющих его личность, он не имел. Потому был только вписан в общую ведомость обозников, мобилизуемых армией. Где-то у Моздока, на Кавказе, выдали ему, подросшему в пути, справку взамен удостоверения. Писарь-хохол фамилию Отто переделал на свой, украинский лад — Крынка. А имя и отчество за заботами вовсе не вписал, а заменил инициалами. С Мартином получилось примерно то же самое. Пленного, его вписали в список как местного крестьянина, конечно же, переврав — и переставив местами — фамилию и имя. И стал он по этой канцелярской липе «Мартовым». Это спасло их обоих, когда тигернвейдские чекисты стали выдирать из обозников «немецких шпионов». А их среди фурщиков была добрая половина. Ее и увели вместе с лошадьми и телегами... Никто из них домой не вернулся. Но не затерялся, оставив в «бумагах» автограф, комиссар из Тигернвейде — «Эйхенбаум Макс».
В начале марта, совершив огромный круг по левобережью, Мартин и Отто с остатками обоза возвратились в Бердянск. На указанную им дорогу к дому — в Одессу — добрались они только в феврале 1920 года, когда из города ушли войска Деникина. Как добрались — это, говорили впоследствии, не для слабонервных... И только вышли они в степь, увидели — снова, теперь уже на одессщине, — как все те же чекисты или те же ЧОНовцы жгли голландские и немецкие колонии! Горели поселки Люстдорф и Либенталь... А после, когда они обогнули лиман, видны были пожары Лихтенталя, Кульма и Лейпцига... Зачем это делалось? Из-за чего так жестоко казнили красные власти этих ни к каким партиям, движениям и компаниям никогда не принадлежавших тружеников? И почему лишь только огнем, лишь пожарами, лишь сжигая людей живьем?..
Был слух: наказывали за то, что прятали у себя на хуторах бежавших от красных деникинцев. «Офицеров», конечно. Но даже если это было правдой — не гнать же колонистам, которых приютила когда-то Россия, голодных, мерзнущих, бездомных русских солдат — и тех же офицеров — на улицу, как собак! Их, сирых, по всем человеческим законам, сперва следовало напоить и накормить... Да ведь это — по человеческим... Не по большевистским... «Не по жидовским...» Вот когда впервые услыхали Отто и Мартин прямое обвинение в адрес евреев. Всех без исключения! Потому как и здесь, у Одессы, — как, впрочем, и в самом этом городе, — повсюду зверствовала еврейская комиссарщина! Вот Либенталь и Люстдорф горят, а вокруг — чекистский шабаш: оцепления, облавы, отстрел бегущих. И, как везде, проверка документов. И снова: «Либерман» — комиссар Люстдорфа, «Минц» — комиссар Либенталя, «Куперман» — комиссар Кульма, этот везде поспевал назвать себя, раздувался спесью, ставя свою подпись на всякой бумаге... Говорили — евреи и в Лейпциге, и в Лихтентале комиссарят... От разговоров тех теперь было не уйти, даже если не только евреи там командуют. Еврей в глазах колониста превращался в мистического палача, а творимое им в колониях Украины — в ритуальное убийство огнем! Тем более был прецедент: шпиономания 1915 года привела к аресту аж самого военного министра Сухомлинова! И казаки живьем сожгли группу евреев, заподозренных в связи с врагом... Весть об этом беспримерном преступлении, совершенном в мало кому известном галицийском местечке, облетела Россию и огненной строкой вписалась в приговор царизму. Но в первую очередь казачеству. Потом историки намекали: сожжение галицийских евреев — причина будущего жесточайшего расказачивания, когда красные каратели Фриновского — уже в «мирное время» — до последнего деда и казачонка вырубали станицы. Жестокость порождала еще большую ожесточенность, и за тех евреев отмщение настигло и донцов, и терцев, и уральцев, и забайкальцев... Ну а позднее казаки вновь «приступили до жидов»...
На что рассчитывали исполнители и организаторы сожжения колонистов? Чем руководствовался Троцкий, паясничая на тормозной площадке бронепоезда и натравливая внимавшие ему толпы на уничтожение меннонитов — «этих врагов мировой р-революции!»? Ведь именно в Таврии и под Одессой обозники не раз понуждались выслушивать опостылевший бред этого злобствующего болтуна — «балалаечника», как его величали, — на нескончаемых камланиях. Или надежда у них у всех была на отсутствие памяти у народа? Или уверены были: колонисты, буквально понимающие и исполняющие заповеди, — потому люди порядочные — никогда не напомнят палачам об их преступлении, в том числе ритуальном?
(Скорее всего... Только «Закон Возмездия» — «он всегда Закон!», как говаривал мой опекун Иван Степанович Панкратов, профессионально разбиравшийся как в Законе, так и, в особенности, в Возмездии.)
...Жителей «провинившихся» колоний сжигали, скашивая сопротивлявшихся пулеметным огнем, затем, чтобы соседям их, украинцам, неповадно было не только прятать белых, но просто своевольничать и укрывать остатки хлеба, а главное, мужиков от пятнадцати до шестидесяти лет, которых до последнего мели в армию, под знамена того же предреввоенсовета Льва Троцкого. А сам он в это же время, разбрызгивая слюни и размахивая конечностями, блажил с трибуны IX съезда партии: «Что такое Украина? Украина, разъединенная десятком режимов — меньшевиков, социалистов-революционеров — и всеми остальными болезнями болеющая? Мы знаем хорошо, что наши партийные организации на Украине... отражают те же самые болезни. В этом я слишком хорошо убедился на Украине, когда в каком-нибудь городе встречал сколько угодно критики, брюзжания и болтовни, а когда приходилось мобилизовывать на фронт работников, шло пять человек, а дезертировало 95. (Аплодисменты.) Делать уступки этим элементам не приходится и было бы недопустимо». Потому бегство из армии большевистских комиссаров «наказывалось» им «оргвыводами», выговорами и истреблением всех мужчин семьи, ограблением ее, отобранием хозяйства и дома и... сиротством выброшенных на улицу малолетних детей...
А он все камлал, брызгаясь и паясничая, выбалтывал вовсе не потаенные, а ко всем обращенные собственные свои задумки превращения страны в огромный концлагерь и изрыгал высокомерно и назидательно: «...карательные меры, от которых мы не уйдем, по отношению к шкурникам и дезертирам (то есть к народам Украины! — В. Д.) — словом, целая сложная система духовных (!) мероприятий, организационных, материальных, премиальных, карательных, репрессивных, которая может в результате своего согласованного систематического применения на основе общего подъема уровня культуры в стране (где расстрелы — рутинная повседневность и вся сумма аргументов. — В. Д.) в течение ряда лет, десятилетий (разрядка моя. — В. Д.) поднять производительность труда, поднять на такую высоту, на какую никогда, ни при каком другом строе производительность труда не повышалась». На собственной шкуре испытали мы эти планы, воплощенные верным его учеником Сталиным. Но прежде того цену им просчитали тоже умеющие слушать и читать Альфред Розенберг и его друг Адольф Гитлер.
«...Фриденталь обходили поздним вечером. Попали туда по воле каких-то идиотов, гонявших обоз с одного шляха на другой... Была тишина начинавшейся ночи. Звезды горели ярко. И воздух был напоен приближающейся весной...
Колония, разбросанная хуторами-фольварками по степным балкам, спала. Или это только казалось нам? Молчали собаки. Обычный в это время ветер утих. Мир царил на земле. И вдруг тишина взорвалась непередаваемо звонким женским криком... И в крике этом была боль смерти...
Тотчас прозвучали выстрелы — сперва одиночные, потом залпами. Застрекотали пулеметы... И несколько огненных смерчей поднялось сразу в четырех или в пяти фольварках... Только тогда огнем, поднявшимся будто до неба, высветилась масса войск, обложивших поселение... Однако здесь случилось не как у меннонитов, а как у тех, кто владел оружием: пулеметы заработали и от домиков на хуторах... Голландцы защищались...»
Так рассказывал Мартин, когда приехал с женой к ее брату, Отто Кринке, найдя его через пятьдесят лет. И встретившись со мною... Так он начал свой рассказ о подвиге колонистов Фриденталя, полностью сожженного 6 апреля 1920 года большевистскими карателями. В огне погибли почти все его жители, из которых больше половины были дети. А кончил рассказ словами: «Они заплатили за это! Они хорошо заплатили». Вот тогда я понял, что ничто не забывается. И кто это — «они»...
Когда через трое суток огонь сник сам собою, жрать ему было уже нечего — обоз выпустили из оцепления. Мартин еще подумал: им бы нас расстрелять, свидетелей... Ничего подобного! Они не сомневались в своей правоте, не считали содеянное преступным, были уверены: никто никогда не вспомнит о сожженных хуторах и сгоревших людях. Никто никогда!..
По пути домой — в Жмеринке, Виннице и Бердичеве (в Вапнярке их неожиданно погрузили на платформы воинского эшелона) — они видели, что творили на пристанционных площадках китайские «интернационалисты», возглавляемые бандой комиссаров Ионы Якира... Кровь стыла от их ослепляющего воображение профессионализма мясников. Только кровь у Мартина и Отто никак не остывала от профессионализма комиссаров во Фридентале — Хаима Шульмана и Моисея Гельмана, оставивших и свои фамилии в «Обвинительном заключении», в которое по мере движения обоза к дому превратились «бумаги» наших путешественников...
В конце мая 1920 года они наконец добрались до своего Нойборна. Это было чудом — застать живой всю семью и самим остаться в живых после сорокамесячного блуждания по кровавым дорогам гражданской войны. Да, вся семья Кринке была цела. Но какой жизнью жила она теперь! Соседи-украинцы замкнулись, будто улитки в раковинах, и старательно показывали соседям из местечек, что никаких дел с... иностранцами — голландцами-колонистами — не имеют. Но тайно поддерживали с ними добрые старые отношения. Еврейские соседи были открытее, откровенно добрее. Они не боялись контактов с колонистами — комиссарили-то свои, местечковые. Они открыто, не таясь, наведывались к то и дело «раскулачиваемым» голландцам и немцам. А их старики и старухи приносили и возвращали отобранные при обысках вещи. Только все это уже не могло успокоить колонистов...
Налеты продолжались и после возвращения Отто и Мартина. Угнетала настойчивая повторяемость повальных грабежей. Являлись ночами. Лихорадочно, по-собачьи грызясь между собою, перетряхивали, перещупывали барахло. Рассыпали, пересыпая и проглядывая, зерно из ларей: искали ценности. Резали скотину и скопом копались в кишках — искали золото и камни. Ели свежесваренную кровяную колбасу. Пили молоко. Пеняли на эпоху — разрушительницу древних традиций. Благодарили. И по-тихому приглашали стариков хозяев «проехаться с ними — тут, недалеко». Приглашали без угроз и гвалта. Старики обреченно молчали. Молчали и молодые — жизнь не научила их громким излияниям чувств. Тем более что после происходивших полугодом прежде событий в Нойборне грех было жаловаться: тогда ЧОНовцы — тоже под командой евреев-комиссаров — врывались на фольварки. Хозяев — наземь. Дочиста выметали все съестное и молодую скотину. А если кто возмущался — били. Насиловали женщин. И убивали тут же, если кто сопротивлялся...
Нынче все было не так — без боя, насилий и стрельбы. Тихо. Тихо разговаривали. Тихо уводили. Куда? Недалеко. В Гутенский лес, что вблизи одноименной колонии Старая Гута. Там старики не торопясь рыли себе могилы. Активисты, маясь, жгли костерки, если дело было к ночи. Ночи, по весеннему времени, были еще холодноваты. Беседовали мирно о мирских делах. Когда ямы поспевали, они, по-быстрому взвинтясь, стариков забивали все теми же ломами. Огнестрельного оружия у них не было. Возвратившись в Нойборн, они аккуратно сообщали родственникам казненных, что сдали их этапному конвою ЧОНа. Родственники делали вид, что верили. Верили истинно в то, что час возмездия грянет.
Правду об убийствах в Гутенском лесу узнали в Нойборне от девочек-колонисток из Старой Гуты. Они по лесным вырубкам собирали хворост для топки. И видели, что творят местечковые с нойборнскими и из других колоний стариками. И что главные из катов — ихний активист Самуил Харбаш и Исай Шойхет. А командует ими Берка Штилерман — комиссар из Красностава. И еще Зенцер Аба. Старшая девочка Мелитта Адлерберг их знала — видела не раз, когда к бабушке бегала в Нойборн...
Нойборн, как и Старую и Новую Гуты, не жгли. Молодых колонистов в армию не брали. Скопом их не расстреливали. И Мартин, понавидавшись творимого большевиками в Таврии и у Одессы, решил: не власти на Украине бесчинствуют, но «сорвавшиеся с вековечной цепи евреи творят месть над народами»! И что вот этого вот разбоя он им не спустит. Как никогда не простит им сотворенного с меннонитами-немцами. Все ж таки еврейские фамилии в дорожных его бумагах и евреи, что окружали Нойборн и время от времени заходили к ним и творили суд и расправу над безвинными людьми, «достали» этого бесхитростного человека с глазами всех святых! А ведь совсем недавно он с гордостью вспоминал, как по-дружески, по-доброму к евреям отнеслись его земляки и сам он — австриец, и германские солдаты, наступавшие в первые годы войны через галицийские и волынские еврейские местечки. Или, по рассказам самих же евреев, как они с немцами по-товарищески относились друг к другу, даже дружили между собой, когда германская оккупационная армия стояла в 1918 году на Украине. Они сами рассказывали: в тот год немцы спасли от свирепствующего голода и страшного тифа тысячи еврейских семей!..
(Мне, между прочим, и этих свидетельств не требовалось. В 1918 году моя мама работала в госпиталях Кременца на той же Волыни. Она говорила: если бы не немцы — «оккупанты», — то десятки тысяч еврейских детей, валявшихся по тифозным карантинным землянкам, никогда бы не излечились и, конечно, не выжили бы... — В. Д.)
И вот теперь, после большевистского переворота 1917 года и после гибели России, евреи, «как взбесившиеся звери, набросились скопом на беззащитных, да еще и ни в чем не повинных колонистов!». Старики из руссин пытались объяснить совершенно непонятную им жестокость евреев «изначальной... подлостью их иудской натуры»! «По их же писанию, — говорили руссины, — известно, с какой изощренностью вырезали они в библейские времена жителей захваченных ими городов, с каким остервенением разрушали их, как до последнего младенца вырубали население соседних провинций!..» «...И только когда на них находилась сила, когда и их резали победители, они становились тихими. И мирно жили среди других народов. Но только лишь под страхом Большой Дубины и под угрозой расправы! Именно так существовали они тысячи лет. А теперь, за немецкие же деньги разрушив Россию и захватив власть, они снова, как в древности, распоясались...» И «они еще понатворят дел, если за них как следует не возьмутся и не отобьют охоту грешить...».
Так, такими словами, все записывал и записывал Мартин в свои «бумаги» разговоры со стариками руссинами. И возможно, и эти их откровения возымели свое действие. Но так или иначе, все, что он испытал, чему стал свидетелем в своем обозном «походе» за два моря, что пережил у Одессы и в самом Нойборне, — все это глубоко задело его душу и пробудило в ней доселе дремавшее национальное достоинство. Тем не менее он не испытал никакого злорадства, наблюдая изощренную мерзость каннибальского погрома соседних — вокруг Нойборна — еврейских местечек славными конниками армии Буденного. Они опрометью убегали от преследовавших их поляков. Теряли зарубленными польскими кавалеристами сотни тысяч своих товарищей. И, как полагалось во все времена все на той же Руси, вымещали свой позор и злость на местечковом еврействе. На глазах Мартина удиравшие на восток казаки комдива Апанасенки успели дочиста ограбить, повально изнасиловать женщин и почти полностью вырубить мужское население старых, битком наполненных «жидовских клоповников»...
Мартин был потрясен увиденным...
Тем не менее он не отступился от своей затеи поведать миру о жестокости комиссаров-евреев. И твердо решил: он обязан, он должен во что бы то ни стало выбраться из большевистского зверинца к себе в Европу. И там рассказать немцам — гражданам Австрии, Германии, Швейцарии и других стран, где они живут, о том, что вытворяют с немецкими колонистами их еврейские соседи. Как все это удастся ему сделать, он еще не знал. Как из совдепии переберется на Запад, он не имел представления. К кому он там обратится — тоже. Но все уверял и уверял себя, что сумеет выполнить задуманное.
Пока что он помогал своему будущему тестю. Отремонтировал всю технику, что, по военному времени, отстаивалась по машинным сараям. Устроил водопровод. Перебрал черепицу. Поставил и отладил водяную мельницу. Переложил печи. Все это было непросто делать однорукому инвалиду...
...В начале июня 1920 года Марта и Мартин поженились. Воспользовавшись возвращением домой польских войск, гнавших красных аж до Киева, они добрались с ними до Варшавы. Потом была Вена. Наконец, Линц.
Все пережитое Мартином в его с Отто Кринке «восточном походе» ни на мгновение не оставляло его и в родном Линце. Он не успокаивался, страшные видения не только не стирались временем и спокойным величием окружавших его родных гор, но все ярче проступали сквозь, казалось бы, примиряющую дымку расстояния во времени...
И с обращением к людям было сложно. Репортеры австрийских газет, досыта понасообщавших миру за годы войны об ужасах ее, разговаривать с ним не хотели. Книгу написать и издать ее? С изданием просто — деньги выложь, и все. Но с написанием... Какой из него, необразованного и однорукого, писатель?!
...Как-то, за завтраком, развернул свежую газету — он редко в них заглядывал, а тут вот развернул. И сразу обратил внимание на подпись под одной из статей: «Адольф Гитлер». Сперва он не подумал, что это может быть тот, что когда-то гонял с ним мяч, а потом оказался товарищем по войне, — земляк. Но что-то подсказало: тот! Именно тот!.. Шел март 1921 года. Мартин вернулся к газете — еще не осмеливаясь «лезть со своими проблемами к занятым людям». Он был очень стеснительным человеком — этот инвалид с «глазами всех святых». Но вот, в который раз проглядывая страницы, он вычитал, что этот Адольф Гитлер — возможно, тот самый — еще и... ее редактор! А тут сосед, советчик, Кальтенбруннер-мальчишка:
— С парнем этим повидайся обязательно! — И Мартин послушался Эрнеста.
...Детали их встречи неизвестны мне. Мне о них он ничего не рассказал. На пути из Сибири в Москву — о чем ниже — он только проговорился, брюзжа: «Все поминавшееся нами тогда, на той встрече, было вовсе уж не для ваших ушей... Понятно вам?»
Это ведь именно тогда, в мартовский вечер 1921 года, прозвонил по нас колокол! Но мы, конечно же, не услышали его. Услыхали лет так через двадцать. Только поздно было...




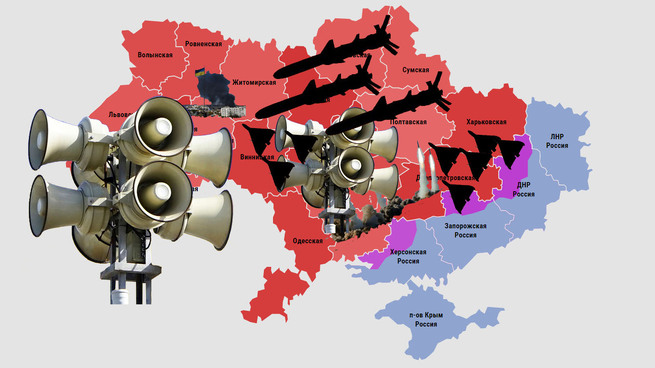
Оценили 3 человека
7 кармы