Тимофей Бордачёв
Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

Драматические события в Сирии уже неоднократно стали предметом как глубокого осмысления, так и достаточно поверхностных эмоциональных оценок. Связано это с тем, что их значение является двойственным. Во-первых, речь идет о непосредственных последствиях обрушения прежнего политического режима в Дамаске для российских позиций на Ближнем Востоке. Во-вторых, значение имеет восприятие произошедшего в российском обществе. С учетом, конечно, тех военных потерь, которые мы понесли за десять лет сирийской истории и масштаба вложенных туда ресурсов.
Нравится нам это или нет, но на дворе не XVII–XVIII столетия: даже сугубо государственные дела, к которым относится внешняя политика, становятся предметом широкого общественного внимания. Тем более в России, где отношения с другими народами и война – это единственное, что в прошлом было для нас объединяющим фактором. И если российская дипломатия воспринимает произошедшее как неизбежный опыт и основу для нового раунда кропотливой работы, то восприятие на уровне непрофессионалов выглядит несколько оторванным от действительности.
Общественность колеблется между паникой и стремлением сделать вид, что ничего плохого вообще не произошло. Обе крайности представляются несколько поверхностными.
Конечно, произошло: в одночасье рухнул политический режим, в сохранение которого Россия вложила много сил и средств. Существование этого режима было наиболее серьезным основанием нашего силового присутствия в регионе, от процессов в котором зависят, например, цены на важнейшие экспортные продукты России. Отдельные режимы этого региона 30 лет назад поддерживали радикальных экстремистов на российской территории, а последние годы ведут с нами вполне конструктивный диалог. Более того, сирийский режим пал под ударами сил, непосредственно связанных с главными противниками России на мировой арене – США и Великобританией.
Мы не знаем пока, как будет выглядеть дальнейшее российское присутствие в Восточном Средиземноморье и сохранится ли оно вообще. В любом случае теперь это становится задачей, требующей решения на высшем дипломатическом и политическом уровне. Поскольку вероятность распада самой Сирии и превращения ее в подобие ливийского хаоса, что смакуют теперь некоторые наблюдатели, гарантией соблюдения интересов России не является. Хотя и создает дополнительную вероятность того, что при наличии на то нашей собственной заинтересованности, позиции в Сирии и вокруг могут быть в будущем восстановлены и даже усилены.
Это последнее и является наиболее важным для понимания: сохранение постоянного статуса той или иной страны может обеспечить только прямой и непосредственный контроль над ее территорией. В идеале – через включение в состав государства, заинтересованного в таком контроле. Шутки Трампа про присоединение Канады к США в действительности имеют под собой основу – только так американцы могут гарантировать, что выгоды всегда будут больше издержек. Во всех остальных случаях внешнеполитические позиции в том или ином регионе определяются ресурсами, которые готово потратить государство, и ресурсами противника.
Пока совокупные ресурсы Запада, который выступает для России в качестве главного оппонента, значительнее наших. Но нет оснований думать, что такое положение будет продолжаться бесконечно. И нет повода сомневаться, что даже сокращение возможностей заставит США прекратить сопротивление и пойти с нами на какую-то мифическую «большую сделку». Во-первых, этому не способствуют изменения, происходящие сейчас в глобальном масштабе. Во-вторых, потому что постоянный статус вообще не является свойством международной политики. Просто периодически положение в мире становится немного «стабильным». Как правило, это происходит перед большими потрясениями – и поэтому настолько ностальгически воспринимается современниками.
Случившееся на Ближнем Востоке – это такое же проявление современной международной политики, как стремление множества стран мира торговать и сотрудничать с Россией несмотря на давление Запада.
Природа этой политики является исключительно гибкой и намного более требовательной, чем в краткий период второй половины XX века. Хотя и тогда СССР или США чередовали между собой победы и поражения на локальных фронтах холодной войны. Тогда выработать адекватное отношение к тому, что успехи и провалы сменяют друг друга даже для самых могущественных держав, нам не давал идеологический гнет, тщательно оберегавший сознание советских граждан от любых путей к самостоятельному и взрослому мышлению. Приходится учиться этому теперь. Хорошо, что русская история дает много примеров для менее линейного отношения к ходу исторического процесса.
Признавая тактический провал на сирийском или армянском направлениях, мы ни в коем случае не должны рассматривать это как повод усомниться в своей стратегической дееспособности. Условием для этого является, повторим, способность признать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом. Но она должна сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы при осознании собственных слабостей. Одно другого не исключает.
И здесь нам совершенно не нужно ориентироваться на чужой опыт – российская история сама дает огромное количество примеров такого поведения. Нужно ориентироваться на них, а не на фантомы, возникшие пусть и по объективным причинам. Понимать, что даже самые значительные исторические события и достижения имеют для общества не только хорошие последствия.
Великая победа 1945 года является центральным эпизодом нашего коллективного опыта, объединяющего народ и определяющего то, как мы видим свою роль в истории человечества. Однако именно на этом стоило бы остановиться. Восприятие Великой Отечественной войны как примера для других внешнеполитических ситуаций может оказаться вредным, если не опасным. Постоянное ожидание «флага над Рейхстагом», после водружения которого счастливая страна вернется к мирному труду, теоретически грозит негативным влиянием на моральное состояние общества. Возможно, что сам по себе такой исход был результатом уникального сочетания обстоятельств первой половины XX века. Тогда войны стали наиболее массовыми, а ядерное оружие еще не было изобретено. Никогда раньше, да и, скорее всего, никогда в будущем, даже наиболее напряженные войны так не заканчивались.
Отсутствие тяги к постоянному статусу, которая была свойственна всем европейским империям, является важным преимуществом основных противников России в США. В последний раз такие великие ранее державы, как Британия и Франция, поплатились за это в ходе Второй мировой войны, когда вся их политика была продиктована желанием удержать завоеванное. В США, напротив, к победам и поражениям традиционно относятся иначе: с легкостью признают свои провалы, но никогда не считают это завершением борьбы. Хотя в последнее время есть основания для нашего оптимизма: американцы начинают цепляться за постоянный статус и тратить на это силы. Не случайно, что слом такой привычки открыто заявляется в качестве цели будущей администрации. Но тактически США все равно более адекватны, чем это свойственно европейскому внешнеполитическому мышлению.
Россия – держава, основа внешнеполитической культуры которой сформировалась в эпоху, когда отличить поражение от победы (и мир от войны) было совершенно невозможно. К этому не располагала даже бескрайняя топография России, благодаря которой ее границы действительно нигде не заканчиваются. В этом отношении у нас намного больше общего с враждебными нам англосаксами, чем с континентальными европейцами – немцами или французами. Они всегда стремились создать постоянный баланс сил, растратив на это остатки внешнеполитического авторитета.
Поэтому воспринимать любые победы или неудачи на мировой арене и взаимодействовать с их последствиями, России было бы правильно, опираясь на собственный исторический опыт.



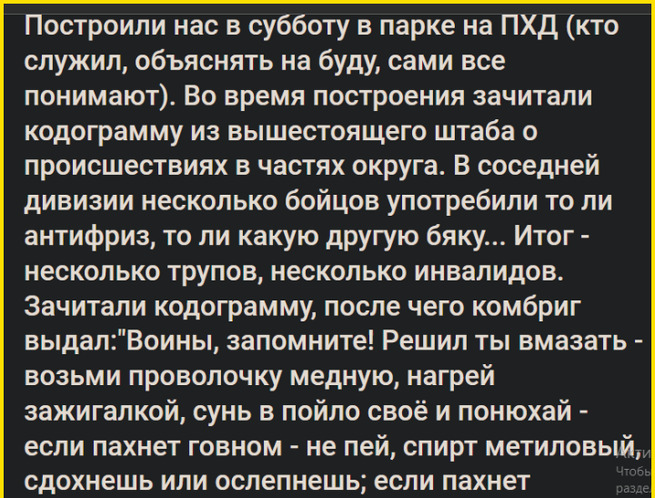
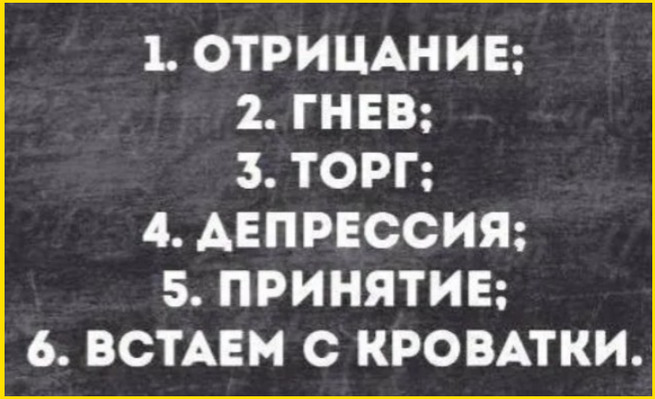
Оценили 6 человек
13 кармы