ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ
Сегодня решил написать пост про экономический контекст сегодняшней политики. С точки зрения политолога. Понимаю, что «залезаю» на территорию М.Л.Хазина. Но он сам виноват, написал блистательный текст про будущее социально-экономическое развитие, про «авраамический социализм». А это комплексное понятие, включающее в себя и политику, и экономику, и некие элементы социальных отношений в рамках «больших систем».

Резкое, практически демонстративное понижение уровня делегации на G20 было более чем предсказуемо.
Неужели кто-то реально думал, что российский президент именно сейчас, когда очень многое решается (причем, не только и не столько на Украине) пренебрежет откровенными рисками, связанными с присутствием на мероприятии с выхолощенной до неприличия «повесткой дня»?
Это не означает, что мировая экономическая «повестка» сейчас «умерла». G20 была площадкой, созданной для спасения американоцентричной глобализации в рамках политики крупнейших стран. «Выпустили пар», дав «пас» странам, считавшим, что осуществление ими успешных модернизационных программ и изменение по сравнению с рубежом XX-XXI века конъюнктуры позволяет им требовать «право голоса». Но то, что мыслилось как «повестка дня» для G20, умерло.
Но есть проблема: так или иначе, некий формат, подобный G20, возникнет. Я бы его назвал G4 +15: четыре крупнейшие в экономическом плане державы мира (США, Китай, Индия и Россия) и 15 наиболее значимых (не обязательно формально крупнейших, классический ВВП и даже ВВП по ППС как показатели экономического статуса государства устарели трагически) стран.
Но для этого формата нужен концептуальный план и новая идея. И ждать, что она где-то появится, кроме как у нас, наивно. У нас не-глобалистские концепции экономического развития конечно, не совсем вытеснены в маргиналию, как это было 10 лет назад, когда против либерального монетаризма слова нельзя было сказать, сразу бы объявили «экономическим экстремистов». А быть «экономическим экстремистов», конечно, было не так страшно, как «политическим», но тоже неприятно. Особенно учитывая, как агрессивно вели себя «евангелисты» радикально либерального экономического мейнстрима.
Но сейчас положение в действительности не менее жесткое: российские либеральные монетаристы (а они не идиоты) понимают, что остались одни. Вообще одни во всем мире. Больше нигде, ни в одной стране мира радикал-монетаризма как идеологии социально-экономического развития, нет. Даже в Великобритании.
Говорят, где-то в Африке еще были ребята, но их потом по ДНК опознавали, и не факт, что эти обглоданные косточки были именно они.
Да, совсем забыл – есть в Вашингтоне одно здание. Там еще остался «кружок» либерального монетаризма. «МВФ» называется. Но это тоже уже неточно.
«Большой системы» под названием «глобальная американоцентричная экономика» уже нет. Но есть составляющие ее сервисные системы: долларовая система расчетов, американоцентричное информационное общество, хотя и утрачивающее универсальность, но все еще глобальное «общество потребления» и т.п. Существование «сервисных систем» создает иллюзию, что цела и продолжает функционировать и основа «большой системы». А ее уже нет.
Нам, России, придется взять на себя риск формулирования модели посткризисной мировой экономики. Если экономический кризис не случится в тех масштабах, как пророчат (сомневаюсь, глядя на Трампа и особенно на Бессента), так и хорошо. Но у нас уже будет концептуальная основа для реалистической мягкой де-глобализации. Возможно, - у единственных.
Регионализация мировой экономики неизбежна, и запустил ее не Трамп. Но Трамп усилил регионализацию, выбрав стратегию «энергетической сверхдержавы». Он же и сформулировал диалектику внутри западного мира, в прошлом «мира демократий», «ядра» американоцентричной глобализации: «Америка как энергетическая сверхдержава» против «долларовой глобализации», ставшей уже не вполне «американской». Но есть нюансы. О них – в частном канале.






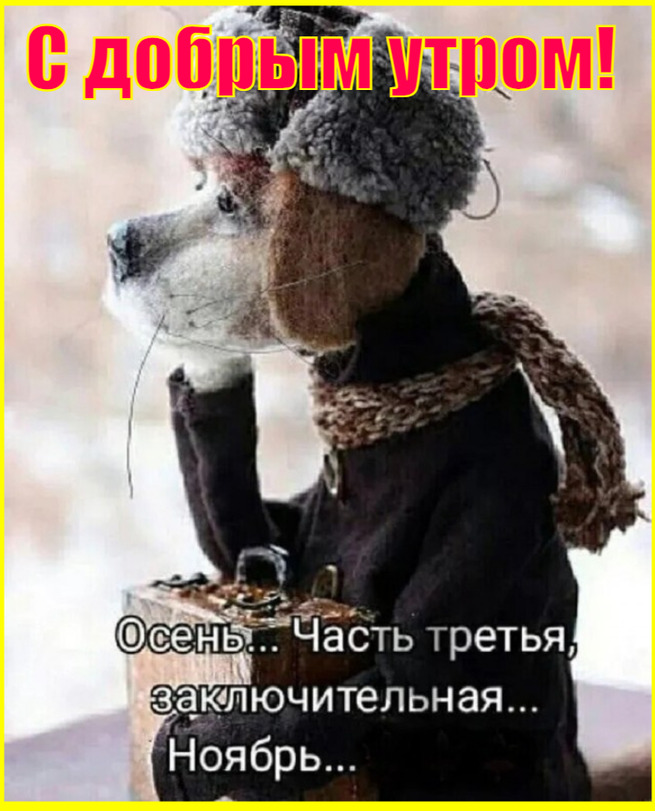
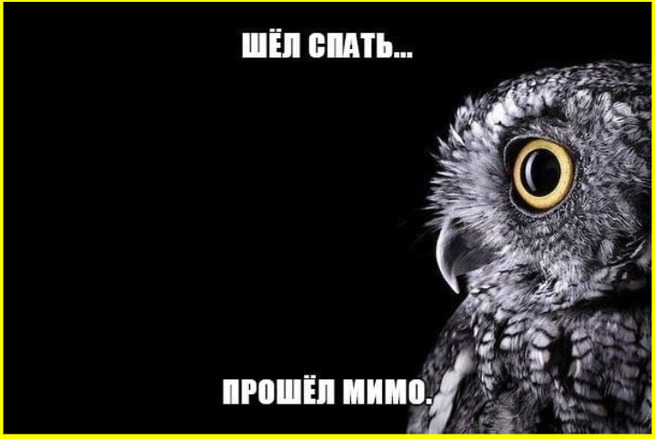

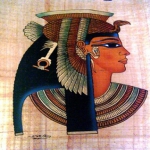

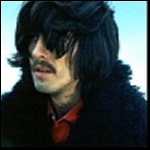

Оценили 36 человек
54 кармы