Мудрость народная предупреждает не зарекаться от сумы и тюрьмы. Кто знает, как жизнь сложится завтра. Кто знает, с кем столкнешься лоб в лоб, глубоко задумавшись и повернув за угол. Я тоже знать не знал, что целых три месяца мне придется прятаться в чужом и незнакомом городе, а чтобы чем-то жить, работать грузчиком в овощном магазине и там же спать, получая еще полставки сторожа. От кого и в каком городе я прятался, сегодня уже неважно. Важна одна черта моей тамошней жизни, о которой и расскажу.
Через два квартала от нашего магазина располагалось старое городское кладбище. На нем по недостатку места уже давно никого не хоронили. Сквозь могильные плиты проросли деревья, все кладбище утопало в зелени, и я ходил туда гулять в вечерние часы между закрытием магазина и наступлением темноты. Может быть, не в каждом городе мира найдется гражданин с фамилией Рабинович, но зато на большинстве кладбищ в нашей стране найдется еврейское поле. Шумный, неугомонный, упертый, пахнущий библейской древностью, красивый и отталкивающий одновременно, самый странный народ на земле разбрелся повсюду и везде оставил следы своего присутствия.
Та кладбищенская часть, где были похоронены евреи, находилась на самом краю, и туда я ходил чаще. Сначала меня привлекли надписи на могилах и портреты умерших. Там были похоронены евреи, служившие в Красной Армии. Те, которые поверили в революцию, повылазили на свет из всех щелей российской провинции и стали под красное знамя. Кого-то из них убили на войне, кто-то до чего-то дослужился. На их могилах надписи были сделаны по-русски, а на фотографиях они были запечатлены в гимнастерках и портупеях. Эти мне нравились меньше всего. Больше нравились старики со странными, иногда смешными для нашего уха именами. Нравились их грустные глаза и длинные бороды. Нравилось, что жены их лежат рядом, и чувствовалось, что при жизни они были нежны какой-то другой нежностью, которая редка среди славян. Там, где надписи были сделаны на иврите, к простому любопытству добавлялся священный интерес, и я подолгу ходил среди могил Корфункеров и Зильберманов, Коганов и Кацев. Как-то не было скучно и было о чем думать, хотя нельзя было предположить, что я додумаюсь до чего-то особенного. Однако додумался.
В каптерке, где я ночевал, было Евангелие. Я открывал его временами на любом месте и читал. Читал, не все понимая, но с удовольствием. Когда чувствовал, что сыт и удовольствие закончилось, — закрывал. И вот однажды поразил меня рассказ о богаче и Лазаре.
Вы не смейтесь над тем, что сторож овощного магазина гуляет на кладбище и читает Евангелие. И Боже вас сохрани думать, что это неправда. Ведь я лее не всегда был сторожем и сейчас им не являюсь. Тогда я скрывался, и было от кого. Значит, и дела у меня бывали поважнее, а образование и статус им соответствовали.
Так вот, в рассказе про Лазаря и богача тронула меня одна мысль, а именно: богач в аду переживает о братьях, оставшихся на земле. По опыту мне было известно, что когда в жизни человека наступает такой кошмар, который мы преждевременно называем адом, то можно перестать думать обо всех, даже о самых близких. Тогда только воешь от душевной боли или дрожишь за свою шкуру. Богач, оказывается, был по-своему хорош. Он, даже попав в потустороннее пламя, сохранил в душе тревогу о родственниках. Трогательна была и просьба о том, чтоб Лазарь намочил перст в воде и прохладил ему язык. Удивило и то, что они за гробом друг друга узнали и что там могут быть длинные разговоры между святыми и грешными, между Авраамом и его потомками. На этих мыслях я и уснул в тот вечер, скрутившись в калачик, как я люблю, на вонючем одеяле синего цвета.
На следующий вечер я опять бродил среди христианских и еврейских могил, пробирался среди ржавых и колючих оград, раздвигал руками заросли папоротника и думал о своем. Мысль о том, что евреи, лежащие вот здесь, где я сейчас хожу, похожи на евангельского богача, а может быть, кто-то из них похож и на Лазаря, пришла ко мне тихо и незаметно. Как бы сама собой. Я даже не остановился, продолжил прогуливаться, но эта мысль вдруг раскрасила евангельский рассказ и даже посягнула на большее. Сильно верующим меня всегда было назвать трудно хотя бы потому, что в жизни этого не видно. Но наученный еще в институте Достоевским, я считал и считаю, что истина — Христос, а если истина не Он, то лучше я буду с Христом, но без истины. То, что евреи в Иисуса Христа не поверили, казалось мне жуткой ошибкой и огромной трагедией. При этом никакой неприязни к этому народу у меня никогда не было.
И вот тут я подумал: ведь там, за гробом, все всех узнали. Увидели люди и Моисея, и Авраама. Увидели и Иисуса Христа и только там поняли свою ошибку. Это ж наверно они теперь просят, чтобы омочил кто-то перст и прохладил им язык. Наверно жалуются, что их неправильно научили или они сами не хотели думать о важном и вот так расплескали жизнь по горстям, кто куда, а теперь мучаются… Мучаются, но о родственниках думать не перестают. Нас они, может, и терпеть не могут, но уж своих-то любить умеют. У нас дети поголовно то «тупицы», то «болваны», а у них «Ося всегда хороший мальчик». Так, по крайней мере, я тогда думал и решил следующее: пока жизнь моя непонятна, буду ходить сюда и читать мертвым евреям Евангелие.
С тех пор прошло уже достаточно лет, но я и сегодня удивляюсь тогдашней затее. Сегодня бы я этого не сделал: или побоялся бы, или бы сам себя постыдился. Хотя сегодня я знаю, что решил тогда правильно. Я много потом общался со священниками и читал разные книги. У Бога нет мертвых. Внимание души приковано к месту, где лежит тело, ведь там человек воскреснет. Чтение Евангелия — один из высоких видов молитвы. И несомненно, покойные переживают о живых и хотят, чтобы те не повторяли их ошибки.
На работе все было тихо и незаметно, а вот вокруг начало твориться разное всякое. Стало коротить проводку. В магазин повадились местные жулики-малолетки, и ночи перестали быть спокойными. Вдобавок у меня сильно разболелся желудок, и я перестал есть. Зато из дома сообщали, что дела решаются и скоро можно будет вернуться. Те, кто искал меня, сами стали скрываться. Мысль о доме согревала.
На кладбище я продолжал ходить и читал там преимущественно Евангелие от Иоанна. Там много таких мест, где Господь обращался к обступавшим его и теснившим иудеям. Он иногда ругал их, иногда учил, иногда грозил и обличал, но они так ничего толком и не понимали. Головы их были напичканы какими-то своими мыслями. А вот черно-белые лица с надгробий смотрели так, будто понимали все, что я читал, и это меня одновременно и пугало, и радовало. Читал я вслух, но негромко. Находил удобное место, прочитывал главу, затем просил у покойников прощения за то, что потревожил, и отходил шагов на двадцать, на другое место.
Так продолжалось недели две. Я уже привык к ним, к тем, кого звали Шломо и Хацкель, к тем, на чьих могилах были написаны слова о скорби родных и выгравирован семисвечник. И тут пришла новость о конце моих скитаний. Можно было пересчитать карманную мелочь и, даже не возвращаясь в каптерку, бежать на вокзал, чтобы электричками добираться домой. Так я и сделал. Напоследок пришел на кладбище, но уже ничего не читал (Евангелие было собственностью сторожки). Просто посидел под деревьями, но уже на христианской части. Было приятно смотреть на кресты, и было жалко, что они не стоят в той части кладбища…
* * *
Я забыл бы эту историю, как забыл сотни историй своей и чужих жизней. Но я вспомнил о ней, когда среди моих друзей все чаще стали появляться евреи. Они не решали со мной гешефты, не делали шахер-махер и не готовили гефильте-фиш. Они вообще не делали со мной ничего еврейского, но появлялись ниоткуда, говорили со мной о Боге, о Христе, о Суде и потом уходили. Некоторые стали моими друзьями, многие крестились, иных я даже не помню по имени, но за несколько лет их было много.
И вот тут в мои тяжелые мозги пришло ясное понимание того, что глаза с надгробий смотрели на меня с пониманием не зря. Евреи все же умеют любить своих и переживать о них даже из ада.
протоиерей Андрей Ткачёв.



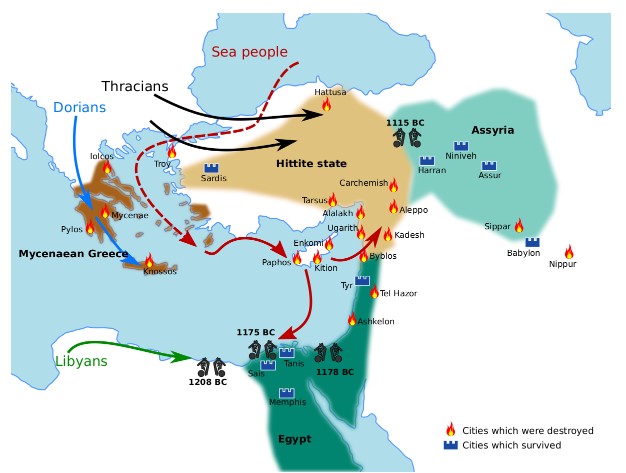






Оценили 18 человек
21 кармы