
Памяти Евгении Григорьевны Афанасьевой
Это личное. О моих соседях, интервью у которых брала моя дочь.
К сожалению, людей, которые видели войну своими глазами и могут достоверно о ней рассказать, с каждым годом становится все меньше и меньше. И тем ценнее их воспоминания. А рассказы тех, кто пережил это страшное время еще детьми, обжигают своей открытостью и неподдельной искренностью, ведь они рассказывают не о марш-бросках и рукопашных, а о том детстве, которого их лишила война.
Две родные сестры – Евгения Григорьевна и Анна Григорьевна – жили в соседней квартире. Нет, они не были одинокими, у них были дети, внуки, а потом начали появляться и правнуки. Но они были особенными. В них не было какой-то оторванности от жизни, свойственной людям в возрасте, они поражали ясностью ума и трезвостью мысли, какую не всегда встретишь и у молодых. Старшая, Евгения Григорьевна, после операции ходила только с палочкой, но всегда сама по магазинам, в поликлинику. Младшая, Анна Григорьевна, знала всех соседей по подъезду, причем не только по именам, но и по проблемам, и всегда старалась помочь. Гости в их доме бывали очень часто. И вообще слово «старость» совершенно не применимо к этим родным, но абсолютно не похожим сестрам. А еще они никогда не говорили о болезнях, хотя, конечно, они у них были, и немало. И даже когда у Анны Григорьевны обнаружили онкологию, единственное, что она сказала: «Мы еще повоюем!». И воюет. И дай Бог ей сил.

Сестры. Аня и Женя
Совсем маленькими детьми они пережили блокаду: в июне 1941 года Жене было девять, а Ане всего четыре. И на 9 Мая вместе с георгиевской ленточкой они обязательно надевали еще ленточку Ленинградской Победы. Эта ленточка оливкового и зеленого цветов: оливковый символизирует Победу, а зеленый – цвет жизни. Обе сестры были активными членами общества блокадников и поддерживали связь с родным городом, а 9 Мая ездили в Санкт-Петербург на праздничные мероприятия.
Рассказывает Евгения Григорьевна:
– Мы жили на Васильевском острове, в старинном трехэтажном доме еще петровских времен с толстыми кирпичными стенами. В нашем доме даже была каретная, но использовалась она уже, конечно, не по назначению. И это довоенное время было очень счастливым: папа, мама, бабушка, дедушка и две сестры.
Я отлично помню первый день войны – воскресенье, 22 июня. Мы собирались на дачу в Старую Руссу и перед отъездом пошли в булочную покупать с собой пирожные. В 12 часов дня мы как раз возвращались домой, и вдруг наступила тишина, замолчали все репродукторы, и прозвучало оповещение, что сегодня в 4 часа утра на нас напала фашистская Германия. Люди на улице застыли в оцепенении, женщины молча плакали. А буквально со следующего дня начались обстрелы.
Как-то в первые дни войны мы с мамой пошли в аптеку. Когда вышли, начался обстрел. Все разбежались, а я вижу, как посреди пустой площади стоит женщина и обнимает девочку. Эта маленькая девочка до сих пор передо мной: годика 3–4, с огромными глазами, а в нескольких шагах от нее валяется ножка в ботике – ей осколком снаряда оторвало ногу. Вот это первое страшное впечатление, которое у меня осталось от войны.
Июль, август 41-го – постоянные обстрелы. Проводилась эвакуация школ. Очень многие уехали: кто на машинах, кто на баржах, которые тогда еще ходили. Мы эвакуироваться не успели.
Почти все мужчины ушли на фронт, с 14 лет ребята уходили работать на заводы, а такие малявки, как мы, 9–10 лет, помогали чем могли дома. Например, привозил грузовик песок, а мы с небольшими ведерками таскали этот песок на чердак, чтобы дежурные могли им тушить «зажигалки». У нас во дворе осталось маленьких человек семь, и это было нашей работой. Иногда и нам приходилось тушить зажигательные бомбы.
В сентябре я должна была идти во второй класс. Приходим в школу 1 сентября, а учительница говорит: «Школа занята под госпиталь, там разместили раненых. Мы сейчас учиться не будем, потому что надо помочь госпиталю, не хватает людей. Вас разделят на группы по 2–3 человека, и надо отработать по несколько часов каждый день в госпитале». Что делали? Читали письма раненым, писали письма для них, подметали пол, убирались, помогать кормить солдат. Мы даже устроили самодеятельность – пели песни для раненых, развлекали их. Это было нашей новой работой. Так мы ходили в госпиталь недели две-три. А однажды утром пришли и увидели, что половина здания разрушена – бомба попала. Было огромной удачей, что она попала в хозчасть – были разрушены кухня, спортзал. Никто не погиб. К моменту нашего прихода всех раненых уже перевезли в другое место.
Так мы лишились и работы, и учебы. Но без дела не остались: нам выдали противогазы, и во время тревоги мы, вот такие шмакодявки, дежурили у ворот дома. И однажды заметили, как на балкон дома напротив выходит высокая старуха в платке и запускает ракету. Мы с ребятами понеслись к милицейской будке, стоявшей неподалеку, и все рассказали милиционеру. Буквально через несколько минут видим: идет патруль в несколько человек и ведет эту бабку. У нее уже юбка задрана, а под ней штаны. В общем, поймали диверсанта. Он ракетой подавал сигнал, что это место надо бомбить, рядом был склад боеприпасов. Потом нас вызывали, я уже не помню точно куда, и всем выписали благодарности. К сожалению, я эту благодарность потеряла.
До войны мы с папой часто ходили в зоопарк, и у меня там был любимец – небольшой козлик, но с огромными красивыми рогами. Ему, наверное, тогда еще и года не было. Я назвала его Васька. Когда мы приходили, я кричала: «Васька!» ‒ и он бежал к нам, мы его угощали чем-нибудь вкусненьким. В марте 42-го нас эвакуировали, а по возвращении в Ленинград я первым делом побежала в зоопарк. Прихожу ‒ нет моего Васьки. На его месте стоит огромнейший лохматый зверь. Но я на всякий случай покричала: «Вася! Вася!» И вдруг эта махина с горы несется со всех ног ко мне, пихает в меня свою морду. Я его целую, плачу. Мне кажется, что и он плакал. Я обнимаю его, вокруг нас целая толпа собралась. Подошел работник зоопарка. Я спрашиваю: «Это Васька?», а он мне: «А это ты та девочка, которая маленькой еще сюда приходила? Вот видишь! Уберегли мы твоего Ваську, не съели». Я к этому козлу ходила еще года четыре, а потом не знаю, куда он делся, или это у меня просто другие интересы появились.
Был еще такой случай. На улице было затишье, и я пошла через мост к приятельнице, с Васильевского острова на Петроградскую. И вдруг воздушная тревога. Пришлось бегом бежать через мост и в первую попавшуюся подворотню прятаться. Началась бомбежка. И вдруг откуда-то из переулка выходит слон. Бомба попала в зоопарк, и слон оказался на свободе. Идет по улице, не обращает ни на что внимания. Ни на снаряды, ни на звуки. Идет себе и идет. Все смотрят, боятся. И тут прибегают служители зоопарка, начали его заманивать и увели обратно.
Летом 41-го еще более-менее было сносно с едой, что-то давали по карточкам. А в сентябре разбомбили Бадаевские склады, где были запасы продовольствия. Несколько дней они горели. Мы выходили на бульвар и видели это пламя. И когда все утихло, ленинградцы ходили на пепелище искать чего-то съестное, но ничего не нашли, все сгорело. Тогда начались серьезные перебои с продуктами.
В ноябре вступили сильные морозы. Все сидели по домам, есть уже было практически нечего. Мама постоянно искала в доме все, что можно съесть. Отец до войны собирался делать ремонт. Кто-то ему сказал, что красить нужно касторовым маслом, мол, лучше блестит, и у нас была 5-литровая бутыль этого масла. А наша бабушка всегда собирала для кофе всякие растения и травы: цикорий, еще что-то. Мама заваривала и копила получавшуюся гущу. И вот однажды она слепила из этой кашицы лепешки. Это, пожалуй, единственное, что я за все время блокады не могла есть – лепешки из кофейной гущи на касторовом масле. Остальное мы все ели. Даже папины сапоги съели. Папа ездил в командировку на Урал, и ему там подарили охотничьи сапоги – хорошие, высоченные, кожаные. И вот маму кто-то научил, что надо их отмочить, а потом из этих вымоченных кусков кожи она варила суп. И мы ели этот суп из сапог. Дальше пошли в ход всякие ремешки, перчатки и тому подобное. В общем, все кожаное.
У наших соседей был большой запас горчицы, раньше ведь посуду не «Фейри» мыли, а горчичным порошком. И они догадались вымочить эту горчицу, а из получившейся кашицы делали лепешки и жарили их на лампадном масле – бабушка в их семье была верующей.
В декабре не стало и этого. Даже не давали эти 125 несчастных граммов хлеба. Точнее, их давали, но каждый день уже не было возможности получать. А хлеба был такой маленький кусочек, неизвестно, сколько там было муки (да и была ли она вообще) и что туда еще клали. И, бывало, что люди умирали по дороге в булочную. Время, конечно, было ужасное.
Но нам повезло, если можно так сказать в данной ситуации. Родной брат нашей мамы был военный, морской офицер, служил в штабе округа. Его корабль стоял в гавани, поскольку после начала войны Балтийский флот был фактически заперт в Финском заливе, и только подводные лодки, неся большие потери, периодически прорывались через минные заграждения, чтобы наносить врагу урон. Вооружение кораблей в основном использовалось как артиллерийское по суше и как средство противовоздушной обороны. Все моряки, которые могли, работали на станках: делали снаряды, и потом эти снаряды отвозили на Волховский фронт.
У офицеров была своя столовая, и все военные, зная, что у многих семьи остались в городе, ежедневно оставляли по паре кусочков хлеба, чтобы накормить гражданских. Дядя где-то подобрал мальчика лет 16, взял к себе на службу, чтобы сохранить парнишке жизнь. Этот мальчик раз в неделю приносил хлеб к нам домой на Васильевский остров. Это три километра в одну сторону. И ни разу он не съел ни кусочка. Приносил нам хлеб, мама всегда давала ему кипятка и кусок хлеба из принесенного. Он съедал, согревался и шел обратно. А однажды приходит к нам сам дядя… Оказывается, мальчик не вернулся. Его нашли только весной, когда растаяли сугробы: он умер от голода и холода по дороге.
Рядом с нами жила одинокая соседка. И был такой порядок: во время блокады двери не закрывались на замки. И школьники, у которых были еще силы, обходили квартиры. Они знали, к кому надо зайти. Приходят к тете Вале, а она лежит. «Как вы себя чувствуете?» – «Ребятки, я и вчера хлеб не брала, и сегодня». – «Ну, давайте карточку, мы сходим». А ребята – два мальчишки, 11 и 12 лет – сами голодные. Но пошли в булочную, получили хлеб и принесли тете Вале, даже крошечки не отломили.
Зима 1941/42 была самой страшной. Люди умирали от истощения прямо на глазах. Хлеб же тем, кто работал, выдавался по 250 граммов, а всем остальным – по 125. А потом многие школы просто закрылись, всего четыре школы работали всю блокаду. В этих школах ребят даже немного подкармливали и имелось хоть какое-то отопление. В Ленинграде не было общего отопления, в основном печки. В комнате стояли печки, на кухне ‒ плиты, и топилось это все дровами. Дровами запасались с осени, с пригорода Ленинграда, а раз город окружен, значит, он остался без отопления. Дрова мало у кого были. После бомбежек люди ходили к разрушенным домам и собирали все, чем можно затопить плиту или печку. Школьники, кто мог, помогали соседям, старикам, людям, которые были уже совсем беспомощны.
Был еще один случай. В семье наших знакомых – мать и две дочки – жил кот Мурзик, который очень любил гулять на улице. И вот однажды приходит мама домой и говорит: «А нам сегодня выдали мясо по карточкам. И хлеб дали, и мясо». Разрезала на кусочки это мясо, приготовила суп и накормила дочек. Через несколько дней старшая девочка спрашивает: «Мама, а где же наш Мурзик?», а та отвечает: «Наверное, попал под бомбежку». Впоследствии пережившие блокаду девочки так и не смогли вспомнить, съела ли мать хоть ложку этого супа…
Эвакуировали нас в марте 42-го. Морозы еще стояли до 40 градусов, и лед был крепкий. Нас усадили на ящики со снарядами и оправили по Дороге жизни. По Ладожскому озеру до села Кабона нужно было проехать всего 30 километров. Кажется, что это совсем немного, но с берега ‒ обстрел, с неба ‒ бомбежка. Машины уходили под лед вместе с людьми... Мы добрались до берега и уехали в эвакуацию в Сибирь. По дороге умер дедушка, с поезда его сняли, и мы до сих пор не знаем, где он похоронен.
Это было в январе, а в феврале Евгения Григорьевна Афанасьева умерла. Ей было 85 лет…
Раньше Анна Григорьевна много ходила по школам, рассказывала про блокаду. А Евгения Григорьевна ‒ нет. Она сказала: «Однажды после моего рассказа один мальчик заявил: «Знаем мы, как вы там жили. Вы людей жрали!» И после этого я перестала куда-то ходить…»

Так вот, когда вы будете рассказывать своим детям про Победу, Войну и Блокаду, просто отрежьте от буханки черного хлеба кусочек в 125 граммов, покажите своему ребенку и расскажите про фашизм. Чтобы он все понимал о тех тварях, которые сейчас его стараются оправдать.
https://aftershock.news/?q=nod...


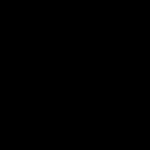



Оценили 11 человек
14 кармы