«Не дам забыть, как падал ленинградец…»
«...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.»
Ольга Берггольц
Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной». Почти все 900 блокадных дней город говорил ее голосом. Он входил в холодные, нетопленные дома, и столько в нем было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
«В истории ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых», — говорил о ней писатель Даниил Гранин.
Обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности — такой Ольга запомнилась современникам. Ольга Берггольц разделила судьбу своего народа. И все же далеко не каждой женщине довелось пройти через такие испытания, через которые прошла Ольга. При этом она не ожесточилась сердцем, а продолжала любить…
«Что может враг? Разрушить и убить. И только-то. А я могу любить…»
Но и страшные обстоятельства ее жизни не смогли загасить в ее душе немеркнущий огонь любви к своей Родине.
Родилась Ольга 16 мая 1910 г. (3 мая 1910 г. по старому стилю) в Санкт-Петербурге. Отец - Федор Христофорович Берггольц (1885-1948) - в годы Первой мировой и Гражданской войн был военно-полевым хирургом, затем работал врачом на фабрике в пригороде Петербурга.
Родители были уроженцами Санкт-Петербурга и знали друг друга с детства. Мать — Мария Тимофеевна Грустилина (1884—1957), дочь рязанского мещанина Тимофея Львовича Грустилина, перебравшегося в столицу и открывшего пивную от завода «Новая Бавария», и петербурженки Марии Ивановны.
Отец — военный хирург Фёдор Христофорович Берггольц (1885—1948), ученик Николая Бурденко, участник Первой мировой и Гражданской войн, сын Ольги Михайловны Берггольц (Королёвой по первому мужу), горничной в гостинице при мануфактуре К. Я. Паля, и строительного техника Христофора Фридриховича Берггольца, латышского немца, уроженца Риги, занимавшего управляющие должности на той же мануфактуре. Младшая сестра — актриса Мария Берггольц (1912—2003).
Родители обвенчались за несколько месяцев до рождения Ольги, поэтому бабка по отцу не пустила её в дом как «зачатую во грехе», и некоторое время девочка жила в приюте, где сильно заболела; тогда же её крестили в церкви Симеона и Анны и отвезли домой. Детские годы прошли на окраине Невской заставы.
Отец собрал хорошую библиотеку. Она запоем читала Пушкина, Некрасова, Толстого, а в 11 лет написала свои первые стихи. Училась в 117-й советской школе (бывшая гимназия), где проявила себя как талантливая и эмоциональная ученица.
В июне 1918 года мать перевезла дочерей в Углич к родственникам, где они прожили в бывших кельях Богоявленского монастыря до апреля 1921 года, а по возвращении в Петроград Ольга поступила в 117-ю трудовую школу, которую окончила в 1926 году.
Училась в трудовой школе №117, которую окончила в 1926 г.
С 14 лет публиковалась в ленинградской пионерской газете "Ленинские искры". После революции категорически отказалась от услуг няни и гувернантки, чтобы не быть эксплуататором.
В 1920-е Ольга, уже осознавшая свое призвание, посещала литературный кружок при Доме печати. Ее стихи отметил сам Корней Чуковский. В 1926 году, когда Ольга Берггольц прочитала стихотворение «Каменная дудка» на заседании Союза поэтов, которое вел Чуковский, он сказал: «Ну какая хорошая девочка! Какие стишки прекрасные прочитала! Товарищи, это будет со временем настоящий поэт».
В 1925 году, в 15 лет, она опубликовала первое стихотворение — «Пионерам» в газете «Ленинские искры». Через год вступила в литературную группу «Смена», где познакомилась с будущими известными поэтами — Борисом Корниловым (ее первый муж) и Николаем Тихоновым.
В 1925 г. в заводской стенгазете "Красный ткач" также было напечатано стихотворение Берггольц "Ленин" и первый рассказ «Заколдованная тропинка». В том же году она стала членом молодежной литературной группы "Смена" (входила в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей), которой в разные годы руководили Илья Садофьев и Виссарион Саянов, где познакомилась с будущими известными поэтами — Борисом Корниловым и Николаем Тихоновым.
В 1926 году окончила трудовую школу.
В 1926 году Берггольц поступила на Высшие государственные курсы искусствоведения, где преподавали Юрий Тынянов, Виктор Шкловский и др. В годы своей юности она увлекалась акмеизмом, ее особенно трогало творчество Ахматовой и Мандельштама. А собственные стихи Берггольц были ближе к романтической революционной лирике.
В 1928 году вышла замуж за Бориса Корнилова и родила дочь Ирину (скончалась в 1936 г.). Многим знакомы его строчки «Нас утро встречает прохладой». Композитор Дмитрий Шостакович, написавший музыку к «Песне о встречном», говорил о Корнилове: «Это великий мастер слова, достойный того, чтобы о нем знали все, знали его поэзию, в которой он сам предстает человеком неистощимого жизнелюбия».
В 1928 году вышла ее первая книга — рассказ для детей «Зима-лето-попугай», написанная в соавторстве с подругой. Смешное название появилось из воспоминаний о детстве в Угличе. «Зима-лето-попугай»,— дразнили детей, которые были совсем плохо одеты. Хотя плохо одеты и неважно накормлены тогда были многие.
В 1929 перевелась на филологический факультет Ленинградского государственного университета, который окончила в 1930 г.
Брак поэтов продлился недолго: в 1930-м они расстались (официально развелись в 1934-м). В письмах Ольга называла его «мое безумие». Разрыв произошел из-за измен Корнилова и его алкоголизма. Поэта расстреляли на 31-м году жизни. За свою короткую, но удивительно насыщенную жизнь Борис Корнилов успел заявить о себе как о ярком, самобытном поэте и навсегда вписать свое имя в историю русской литературы ХХ века.
Преддипломную практику после окончания университета в 1930 году проходила во Владикавказе.
После окончания Ленинградского госуниверситета по распределению была направлена в Казахстан. Вместе с ним В начале 1930-х гг. работала в газете "Советская степь" (Алма-Ата) корреспондентом. После окончания Ленинградского университета в 1930 году Берггольц устроилась в газету «Электросила» при одноименном заводе. Это была типичная для того времени «многотиражка», прославлявшая трудовые подвиги рабочих.
Берггольц была не просто репортером. Ее очерки «Глухой час» (о ночной смене) и «Дневник девушки» (зарисовки о работницах) выделяются лиризмом и вниманием к человеческим судьбам. В 1931 году она отправилась в командировку на строительство Уралмаша, где писала не только о «рекордах», но и о бытовом хаосе, голоде и травмах рабочих. Эти тексты позже использовали против нее: «излишний натурализм» сочли клеветой.
По возвращении в Ленинград стала членом Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), одним из основателей и генеральным секретарем которой был Леопольд Авербах, племянник председателя ВЦИК Якова Свердлова и брат супруги руководителя органов госбезопасности Генриха Ягоды. Также работала секретарем "Литературной газеты".
Позднее была принята на должность редактора в газету завода "Электросила". Участвовала в создании серии книг "Истории фабрик и заводов" (ответственный редактор - Леопольд Авербах). Работала в газете "Литературный Ленинград".
В 1932 г. стала кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) - ВКП(б).
В 1934 г. была принята в Союз писателей СССР. В том же году вышел сборник поэтессы "Стихотворения", принесший ей широкую известность. Также в 1930-е гг. ею были опубликованы повесть "Углич" и сборник очерков "Глубинка" (1932), повесть "Журналисты" (1934), сборник рассказов "Ночь в Новом мире" (1935), сборник стихов "Книга песен" (1936) и др.
В 1935-м ее уволили из «Литературной газеты»— после ареста Корнилова. В 1936 году Корнилова арестовали по делу «контрреволюционной группы» (вместе с ним взяли писателя Павла Васильева). Ольгу вызывали на допросы, требуя «разоблачительных» показаний. Она отказалась, но это не спасло Бориса: его расстреляли 20 февраля 1938 года. Реабилитирован посмертно в 1957-м.
Расставшись с Корниловым, Ольга Берггольц уехала в Казахстан журналисткой, что позже описала в книге «Дневные звезды». Дочь от первого мужа Ирочка осталась с бабушкой. Вернувшись через год, Ольга Берггольц снова вышла замуж, на этот раз за сокурсника Николая Молчанова, от которого родила еще одну дочь — Майю. Казалось, что жизнь прекрасна. Берггольц увлеклась написанием детских книг. Однако счастья хватило ненадолго.
В 1934 году семья потеряла дочь Майю, умершую в годовалом возрасте. Спустя лишь два года из жизни ушла и Ирочка, старшая дочь Берггольц от первого брака. Смерть детей подкосила Ольгу. Когда ее саму арестовали и стали допрашивать, казалось, все несчастья настигли разом. Берггольц как свидетельницу по делу Бориса Корнилова допрашивали с особым пристрастием.
В апреле 1937 г. Ольга Берггольц была привлечена в качестве свидетеля по делу Леопольда Авербаха, который был арестован как родственник репрессированного Генриха Ягоды и обвинен в участии в антисоветской террористической организации (в августе 1937 г. расстрелян, по другим данным, покончил с собой). В мае 1937 г. Берггольц была исключена из кандидатов в члены ВКП(б) и из Союза писателей СССР, в ноябре того же года уволена с завода "Электросила".
В ходе «допросов» в июле 1937 года у поэтессы начались преждевременные роды, новорожденная дочь сразу же погибла. После семи месяцев тюрьмы Ольгу освободили — с выбитыми зубами, но не сломленную.
С декабря 1937 г. непродолжительное время работала учительницей русского языка и литературы в школе № 6 Московского района Ленинграда.
В феврале 1938 г. после обвинения в троцкистском заговоре был расстрелян её бывший муж Борис Корнилов.
Весной 1938 года все подозрения по поводу Ольги Берггольц были развеяны, она была восстановлена в списках кандидатов в члены ВКП(б) и двери Союза писателей вновь распахнулись для нее – Ольгу Федоровну восстановили.
В том же году вернулась на завод "Электросила" в качестве редактора - автора истории завода.
13 декабря 1938 г. Ольга Берггольц вновь была арестована уже ни как свидетель, а как обвиняемая по ложному обвинению в связях с террористической «кировской литературной группой», которая «готовила покушение» на руководителей советского государства - Андрея Жданова и Климента Ворошилова.
По выдуманному делу проходили главред "Кировской правды" Яков Акмин, председатель Вятского отделения Союза писателей Андрей Алдан-Семенов, литераторы Леонид Дьяконов, Константин Алтайский (Королев) и др. По этому же делу шел Николай Заболоцкий, в следственных документах (и больше нигде) существовала такая террористическая организация…
На этот раз все складывалось очень скверно. После ареста повторно была исключена из списков кандидатов в члены ВКП(б) и из Союза писателей. Ольгу пытали, избивали, она родила мертвого ребенка. Ей попались очень грамотные мастера заплечных дел.
Ольга Федоровна провела в тюрьме чуть меньше полугода. И ее неожиданно выпустили, вероятно, оказалась больше не нужна. Говорили, вступился Фадеев.
В тюрьме Ольга Берггольц провела более полугода. И ее неожиданно выпустили, вероятно, оказалась больше не нужна. Говорили, вступился Фадеев.
3 июля 1939 г. была освобождена из заключения за отсутствием состава преступления, полностью реабилитирована.
Однако, после перенесённого стать матерью ей уже не довелось. В своем стихотворении 1939 года «Испытание» Берггольц писала:
«Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма…»
Спустя три месяца после освобождения записывает: «Я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми – о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле»».
« Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы… Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «живи», — писала Ольга в декабре 1939 года в своем тщательно скрываемом от посторонних глаз дневнике.
То, что случилось с Ольгой Федоровной, очень страшно. Но уже в феврале 1940 года она вступает в большевистскую партию. Все злодеи прощены? Трудно сказать. Такое было неопределённое время, непонятное…
В феврале 1940 г. вступила в ВКП(б).
А потом наступает война. И вскоре после её начала над Ленинградом нависает блокада...
В годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в блокадном Ленинграде.
Когда началась война, Берггольц отказалась от эвакуации. С декабря 1941 года она ежедневно приходила в радиокомитет на улице Ракова, 4,— часто пешком, под обстрелами. Что, впрочем, не отменяло дежурства на крыше дома во время бомбежек.
Вера Казимировна Кетлинская, ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей, вспоминала, как в самом начале войны к ней пришла Ольга Берггольц: «Что и где нужно делать? На вид – по-прежнему девочка, но девочка взволнованная и собранная, внутренне готовая и к страданию, и подвигу».
Именно Кетлинская направила ее в литературно-драматическую редакцию ленинградского радиокомитета. Ее голос был полнейшей противоположностью голоса Юрия Левитана – тихий, спокойный, какой-то домашний. Голос верной, надежной подруги. Именно такой и оказался нужным в это время в этом месте.
Свой выбор Ольга Берггольц признавала гибельным, но делала его сознательно. Анна Ахматова, отправляясь в эвакуацию, звала ее с собой как личного сопровождающего, но Берггольц отказалась.
На ленинградское радио она пришла в самом начале войны. Молодую поэтессу направили в литературно-драматическую редакцию. Так началась ее работа или, вернее, служение — ленинградцам, городу, миру. Ее микрофонные блокноты сохранили записи, которые она не могла озвучить: «Сегодня съели кошку…», «Умерла Таня Савичева». В годы Великой Отечественной войны она практически ежедневно вела радиопередачи на Ленинградском радио. В эфире звучало:
«Я говорю с тобой под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
Страна моя, печальная страна...» (из радиовыступления, 1942).
Ее голос — низкий, хрипловатый от голода, но неутомимый — знал каждый.
Фадеев писал: «Ее голос зазвенел по радио на весь блокированный город, зазвенел окрепший, мужественный, полный лирической силы и неотразимый, как свинец. У нее умер муж, ноги ее опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать».
Сами же тексты Ольги Федоровны были совершенно фантастическим сплетением обычного рассказа и поэзии, и непонятно, где завершалось одно и начиналось другое:
«Полк принимал знамя в бою. Гвардейцы стояли на поляне среди бедных, еще почти не одетых травою бугров, под холодным северным ветром, а за ними, в синеватой дымке, виднелись нежные контуры Ленинграда. Каким отсюда строгим и спокойным казался он! Покой и тишина…
– Что в городе? – спросил меня полковник.
И я ему ответила: – Война!»
И никакой записи – только прямые эфиры.
С августа 1941 г. она работала в литературно-драматической редакции ленинградского радио. В январе 1942 г. скончался ее супруг Николай Молчанов. Сама Берггольц перенесла тяжелую форму дистрофии.
В литературно-драматической редакции ленинградского радио познакомилась с литературоведом, профессором Ленинградского университета Георгием Макогоненко, который стал ее третьим мужем (официально брак был зарегистрирован в 1949 г).
Во время блокады (1941-1944) практически ежедневно вела радиопередачи, позднее вошедшие в ее сборник "Говорит Ленинград" (1946), где читала и свои стихи.
Работала над радиофильмом о блокаде "900 дней" (сценарий Георгия Макогоненко, Лазаря Маграчева), в котором были объединены фрагменты различных звукозаписей (звук метронома, отрывки из Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, объявления о тревоге, голоса людей, звуки артиллерийских обстрелов и др.). Фильм прозвучал 27 января 1945 г., в годовщину освобождения города. Именно Берггольц 27 января 1943 г. сообщила ленинградцам о прорыве блокады. Ее называли "голосом" и "музой" блокадного Ленинграда, "блокадной мадонной", поэт Евгений Евтушенко посвятил ей стихотворение "Лицо Победы" ("У Победы лицо настрадавшееся - Ольги Федоровны Берггольц").
В январе 1942 г. скончался ее супруг Николай Молчанов, сама Берггольц находится в крайней степени истощения...
В мае 1942 года Берггольц пишет в дневнике: «Масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые… и единственная связь с миром – радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол – стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче, голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им – пусть мимолетной, пусть иллюзорной, – ведь это неважно, – значит, существование мое оправдано».
А жизнь с каждым днем делается все страшнее. Берггольц пишет в поэме «Февральский дневник»:
«Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных.»

Вид санок с детскими трупами на бывшем фешенебельном Невском проспекте был особенно жуток.
Берггольц вела дневник всю свою жизнь. В детстве она называла его «дневничок-дурачок», но с годами этот «дурачок» стал страшным документом.
После всего пережитого к ней возвращалась вера в Бога. Уже в 1942 году в дневниках Берггольц зазвучал псалом «Аще забуду тебя, Иерусалиме…», а блокада в ее стихах становилась образом русской Голгофы, крестной муки.
В 1942 году Ольга Федоровна пишет свои самые пронзительные вещи – поэму «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму». В 1943 году – сценарий фильма о блокадном быте, в результате он стал пьесой «Они жили в Ленинграде». Но главное не это.
Ольга Берггольц выступает со своими стихами в театрах, клубах, в госпиталях, в цехах – везде, где имеется такая возможность. И каждый день обращается к жителям осажденного города по радио: «Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц».
Для ленинградцев ее голос значит больше, чем голос Юрия Левитана для всей страны. Ее называют «блокадной Мадонной».
Поэт Павел Лукницкий писал: «Ольга Берггольц прекрасно работает в Ленинграде с самого начала блокады, ее выступления всегда волнуют всех ленинградцев, я, как и все, бываю взволнован ее стихами и ее мужественными выступлениями, в которых звучит сама душа блокадного Ленинграда».
Павел Антокольский вспоминал: «Это был чистый источник нужной и самой ценной тогда информации. Юный женский голос говорил правду и только правду, без прикрас, без преувеличения, без надрыва. И если при этом он звучит на ритмичной волне (ведь она читала стихи) – значит, в скромную обыденность речи вошло искусство, оно насквозь пронзало женскую речь».
А вот воспоминания поэта Михаила Дудина: «Она, сама того не понимая, стала живой легендой, символом стойкости, и ее голос был для ленингpадцeв кислородом мужества и уверенности и мостом, перекинутым через мертвую зону окружения, он помогал соединять пространства и души в один общий порыв, в одно общее усилие.
И этот опыт трагедии заставлял находить безошибочно точные слова – слова, равные пайке блокадного хлеба. И эта жизнь в самой обыденности подвига была чудом и остается чудом, возвеличивающим человеческую душу».
В Ленинграде закалял себя высокий дух народа, и Берггольц не могла остаться от этого в стороне. Чтобы достигнуть вершин духа, человеку надо испытать «ощущение значительности всеобщей жизни, проходящей сквозь его жизнь, а, может быть, вернее сказать — ощущение значительности своей жизни, неотделимой от жизни всеобщей», — говорила поэтесса. И вот эту неотделимость от жизни всеобщей она ощущала в Ленинграде. «Небывалый опыт человечества», — скажет Берггольц о блокадной трагедии.
Ольга сумела подняться над своей изможденной плотью, над своим личным горем, над своими личными невосполнимыми утратами и своей жизнью провозгласить величие и стойкость человеческого духа. Никто, кроме нее, так возвышенно-трагически не написал о подвиге Ленинграда, который был для нее и ее искромсанной судьбой, и вершиной жизни, любви и счастья, и великим будущим.
«Покуда небо сумрачное меркнет,
Мой дальний друг, прислушайся, поверь.
Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны,
Мы, смертью попирающие смерть.»
Она самим своим существованием оказывала духовную поддержку осажденному городу, представала перед измученными жителями Ленинграда воплощенной Надеждой и Состраданием, и это было лучшее, что могла сделать поэтесса для своего народа. Изо дня в день, на грани жизни и смерти, из последних сил, Берггольц совершала духовный подвиг.
Гитлер считал Ольгу Федоровну своим личным врагом.
А 18 января 1943 года голос Ольги Берггольц зазвучал по радио с небывалым торжеством: «Ленинградцы! Дорогие соратники, друзья! Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня, мы всегда верили, что он будет… Ленинград начал расплату за свои муки. Мы знаем — нам еще многое надо пережить, много выдержать. Мы выдержим все. Мы — ленинградцы. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу. Клянемся тебе, Большая земля, Россия, что мы, ленинградцы, будем бороться, не жалея сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение советской земли, за окончательный разгром немецких оккупантов».
Сама Ольга Федоровна постоянно отказывалась от специальных пайков и любых иных привилегий. В марте 1943 года ее привезли в Москву на медобследование – и доктора диагностировали дистрофию:«Тоскую отчаянно… Свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично, но как объяснить им, что это вовсе не жизнь, это сумма удобств. Существовать, конечно, можно, но жить — нельзя. Здесь только быт, бытие — там…» — писала она из Москвы.
В марте 1943 года она записала в своем дневнике: «Живу в гостинице “Москва”. Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.
В Ленинград! Только в Ленинград…
… О, скорее в Ленинград! Уже хлопочу об отъезде…»
И Ольга Фёдоровна возвращается в свой опалённый войной и измученный блокадой, но не сломленный Великий Город…
Завершилась война, однако травля поэтессы возобновляется. Журналист Александр Прокофьев (заметим, ни дня не проживший в блокаде) в 1945 году на Х пленуме Союза писателей бросает Ольге Федоровне обвинение: «Берггольц, как и некоторые другие поэты, заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанную с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города».
На это Ольга Берггольц отвечает стихами:
СТИХИ О СЕБЕ
. . . . . . . . . .
Какое сердце стало у меня,
сама не знаю — лучше или хуже:
не отогреть у мирного огня,
не остудить на самой лютой стуже.
И в черный час зажженные войною
затем, чтобы не гаснуть, не стихать,
неженские созвездья надо мною,
неженский ямб в черствеющих стихах...
...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.
И как стволы, поднявшиеся рядом,
сплетают корни в душной глубине
и слили кроны в чистой вышине,
даря прохожим мощную прохладу,—
так скорбь и счастие живут во мне —
единым корнем — в муке Ленинграда,
единой кроною — в грядущем дне.
И все неукротимей год от года
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего —
единственная на земле свобода.
1945
Ольга Федоровна – закаленный боец, ее просто так не возьмешь. Еще в блокаду она записала в дневнике: «Люди, падающие на улицах, страшнее падающих бомб»…
В годы войны Берггольц создала свои лучшие произведения, среди которых "Февральский дневник" (1942), "Ленинградская поэма" (1942), "Ленинградская тетрадь" (1942; сборник), "Памяти защитников" (1944), пьеса "Они жили в Ленинграде" (1944; совместно с Георгием Макогоненко), "Твой путь" (1945), сценарий "Ленинградская симфония" (1945; совместно с Георгием Макогоненко).
В 1946 г., после постановления ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград", направленного против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, Ольга Берггольц, дружившая с Ахматовой, выступила в поддержку литераторов. За это сама оказалась в опале, поэтессу стали критиковать за "упадничество и индивидуализм", "воспевание темы страдания и ужасов перенесенной блокады", первое издание ее книги "Говорит Ленинград" было изъято из библиотек, но все обошлось, Ольга Федоровна отделалась кратковременным запретом на издание ее книг.
Жизнь, впрочем, налаживается. Берггольц пишет книгу о ленинградском радио в блокадные годы, в Москве ставят ее пьесу «Они жили в Ленинграде», а в магазинах появляется ее собрание сочинений.
В 1950 г. она выпустила поэму "Первороссийск" о петроградских рабочих, основавших в Сибири первую в стране коммуну хлеборобов. В 1965 г. поэма легла в основу оперы "Питерцы" Александра Фридлендера, в 1967 г. была экранизирована режиссерами Александром Ивановым и Евгением Шифферсом под названием "Первороссияне". За эту работу поэтесса получила Сталинскую премию III степени (1951).
В 1952 г. вышел цикл ее стихов о Сталинграде. После поездки в Севастополь в 1954 г. Берггольц создала поэму "Верность", посвященную обороне города в 1941-1942 гг. В 1959 г. выпустила автобиографическую повесть "Дневные звезды" (экранизирована в 1966 г. реж. Игорем Таланкиным; роль Берггольц исполнила Алла Демидова).
В 1961 году в театре Комиссаржевской поставили спектакль “Рождены в Ленинграде”. Автор - Ольга Берггольц. Спустя 20 лет впервые в Ленинграде говорили о трагедии города с театральных подмостков. В зале были едва ли не одни блокадники. Роль Маши, сестры Ольги, сыграла юная Алиса Фрейндлих, сама пережившая блокаду.
Сохранилась даже фотография, как ее обнимает Ольга.
В 1965 г. вышел сборник стихов "Узел", который поэтесса посвятила Николаю Молчанову, в 1970-е г. - поэтические сборники "Верность", "Память".
Скончалась Ольга Берггольц 13 ноября 1975 г. в Ленинграде.
За пять лет до этого, в мае 1970 года в Ленинграде, в Доме писателей отмечалось 60-летие Ольги Федоровны. Было прочитано много стихов, юбилярше вручали цветы и подарки. Одним из последних на сцену вышел внук одной из сотрудниц радиокомитета блокадных времен. В его руках была корзинка с луком.
Прослезился весь зал…
Именно знаменитые строки Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» были высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. Они были написаны ей в стихотворении "Здесь лежат ленинградцы", созданном в 1959 г. для памятной стелы на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены жертвы блокады и защитники города. Она хотела после смерти лежать там, вместе с жертвами блокады.
Сама поэтесса еще при жизни завещала похоронить себя на Пискаревском кладбище, однако по распоряжению первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова ее прах был захоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. Долгие годы могила оставалась без памятника, поскольку сестра Ольги Берггольц отказывалась одобрять предложенные эскизы. Ситуацию не смог изменить и указ президента РФ Бориса Ельцина от 3 октября 1994 г. "Об увековечении памяти О. Ф. Берггольц", согласно которому памятник поэтессе должны были поставить на ее могиле в первом полугодии 1995 г. В результате скульптурная композиция (работа Владимира Горевого) была установлена на месте захоронения Ольги Берггольц только спустя 30 лет после ее смерти - 3 мая 2005 г.
Была награждена медалью "За оборону Ленинграда" (1943), орденом Трудового Красного Знамени (1960), орденом Ленина (1967).
В 1994 г. ей было присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".
После смерти Ольги Берггольц ее дневники были конфискованы. Комиссия по литературному наследию О. Ф. Берггольц и председатель Союза писателей РСФСР Сергей Михалков настаивали на помещение изъятых документов (дневников, переписки с Борисом Пастернаком, Анной Ахматовой, Лидией Чуковской, Дмитрием Шостаковичем и др.) в спецархив, поскольку родственники поэтессы могли использовать их "как в ущерб автору, так и государству". Материалы были отправлены в Центральный (ныне Российский) государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Больше 20 лет доступ к ним был запрещен: сначала по распоряжению властей, затем по требованию родственников поэтессы - ее сестры и племянника. В печати появлялись лишь фрагменты дневниковых записей, сохранившихся у семьи Берггольц. В 2008 г. РГАЛИ получил право от наследников поэтессы на публикацию ее архива. В 2015 г. было объявлено о первом полном издании ее дневников. В 2016 и 2017 гг. вышли два тома собрания "Берггольц О. Ф. Мой дневник", охватывающие периоды 1923-1929 и 1930-1941 гг.
В 2010 г. издательство "Азбука" выпустило сборник "Ольга. Запретный дневник", посвященный ее 100-летию, в который впервые были включены материалы следственного дела 1938-1939 гг. из архивов ФСБ.
Ольге Берггольц посвящены короткометражная лента "Голос сердца" (1974; реж. Лев Цуцульковский), телефильм "Ольга Берггольц. "Как невозможно жили мы…" (2010; Михаил Трофимов), документальный четырехсерийный фильм "Ленинградка" (2011-2015; Людмила Шахт).
Именем Ольги Берггольц названы улица в центре г. Углича (Ярославская обл.), улица в Невском районе Санкт-Петербурга и сквер в Приморском районе на набережной Черной речки во дворе дома №20, где жила поэтесса.
Памятные доски установлены на здании бывшей школы в Богоявленском монастыре Углича, где она училась, на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. При входе в Дом радио Петербурга находится ее бронзовый барельеф.
В 1988 г. памятник Ольге Берггольц установлен во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, в 2015 г. - в Палевском саду Санкт-Петербурга.
Перечень источников:
1) https://tass.ru/encyclopedia/person/berggolc-olga-fedorovna
2) https://www.culture.ru/poems/41425/fevralskii-dnevnik
3) https://wishescards.ru/stixi/pro/blokadu/leningrada/berggolts/
4) https://dzen.ru/a/ZbDvgyyWYRIdYhBr
5) https://vk.com/wall-17037037_1282







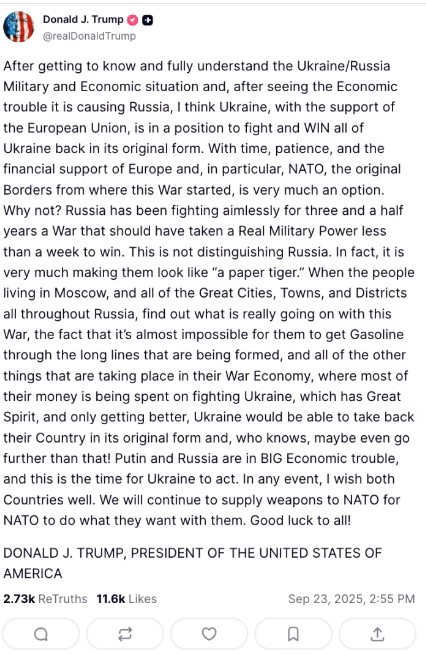







Оценили 137 человек
322 кармы