
Отец Алексий, двадцати семи лет от роду, свежеиспеченный выпускник Духовной Академии, был полон того чистого, горячего апостольского пыла, который случается лишь однажды — когда теоретические знания еще не столкнулись с гранитной прозой жизни. Назначенный на свой первый, старенький городской приход, он первым делом решил, что его миссия — сеять разумное, доброе, вечное не только с амвона, но и в более камерной обстановке. Так родилась идея воскресной школы для взрослых.
В своих мечтах он уже видел эту школу: небольшая, но интеллектуально заряженная группа прихожан, чинные беседы о Filioque, разбор трудов святителя Игнатия, глубокие вопросы о природе зла и свободе воли.
В первый день, войдя в скрипучий, пахнущий мелом и старым деревом класс приходского дома, он с энтузиазмом обвел взглядом свою паству. Десяток человек, в основном пожилые женщины, один солидный мужчина и суровый дедушка, похожий на ветхозаветного пророка в отставке.
«Ну что ж, начнем», — подумал он, потирая руки. Начал он, как и положено, с основ — с Символа Веры. Говорил вдохновенно, цитировал по-гречески, проводил параллели с арианской ересью.
Паства слушала благоговейно, кивая в нужных местах. А потом пришло время вопросов. Отец Алексий внутренне подобрался, ожидая первого каверзного вопроса о Троице. Первой руку, как на школьном уроке, подняла Анна Ивановна, женщина с лицом, выражавшим непреклонную решимость докопаться до самой сути вещей.
— Батюшка, вот у меня вопрос насущный, — начала она основательно.
— Я на той неделе в магазине порошок стиральный купила.
Немецкий. По акции. А он ведь басурманский, получается? Не грех ли им, таким порошком-то, белье стирать? А то я стираю, а на душе как-то неспокойно. Вдруг там в составе что-то такое неправославное?
Отец Алексий на мгновение замер с открытым ртом. Все его заготовленные цитаты из Василия Великого разлетелись, как воробьи. Он ожидал битвы с ересями, а его втянули в бытовую войну с импортной химией. Собравшись с мыслями, он попытался мягко улыбнуться.
— Анна Ивановна, чистота телесная — дело хорошее, и какой порошок вы используете, немецкий или рязанский, для спасения души значения не имеет. Главное, чтобы помыслы были чисты.
Анна Ивановна, казалось, была не до конца удовлетворена, но послушно кивнула и села, что-то помечая в своем блокноте.
«Порошок — можно (с чистыми помыслами)», — вероятно, писал ее внутренний секретарь. Отец Алексий решил сменить тактику и перейти к теме поста. Он начал рассказывать о его духовном смысле, о воздержании как инструменте для смирения плоти. Но тут его прервал солидный мужчина, представившийся Степаном Макарычем.
— Батюшка, вот вы про пост хорошо говорите. А у меня вопрос конкретный, практический, — сказал он деловито.
— У меня с прошлого года в морозилке косточка говяжья лежит, суповая. Так вот, если я в Великий пост сварю на ней борщ, а саму косточку есть не буду, а собаке отдам, — борщ-то постным будет считаться?
Косточка-то прошлогодняя, грех с нее, поди, уже выветрился? Отец Алексий почувствовал, как его богословское образование дает трещину.
Он пытался построить мост к небесам, а его прихожане настойчиво измеряли глубину земных луж.— Степан Макарыч, — начал он, стараясь сохранять терпение, — смысл поста не в кулинарных ухищрениях, а в добровольном самоограничении…
Но богословские тонкости тонули в житейском море. Следующий вопрос прилетел от тихой, похожей на божьего одуванчика, Марии Семеновны.
— Батюшка, родненький, помогите советом, — зашептала она, прижав руки к груди. — У меня кот Васька — умница, а не кот. Но одна беда — сосиски со стола ворует. Я его и ругаю, и стыжу, а ему хоть бы что. Так вот я и думаю, может, ему акафист какой почитать?
Нет ли у нас акафиста для исправления домашних животных от греха воровства?
Отец Алексий закрыл глаза. Акафист коту-воришке. Это было за гранью всего, чему его учили. Он представил, как его строгий профессор догматики услышал бы этот вопрос, и ему стало дурно.
С тихим вздохом он объяснил Марии Семеновне, что коты живут инстинктами, а не заповедями, и что акафисты лучше читать святым, а сосиски — просто убирать в холодильник.
Несколько недель занятия проходили в том же ключе. Он пытался говорить о высоком, а его спрашивали, можно ли освящать на Пасху диетические хлебцы, передается ли грех уныния через рукопожатие и можно ли ставить свечку за упокой тараканов, потравленных дихлофосом.
Отец Алексий начал отчаиваться. Его миссионерский корабль, казалось, сел на мель в болоте бытового суеверия.
Кульминация наступила в один из воскресных дней. В классе, как обычно, сидела его верная гвардия. Отец Алексий, уже смирившийся, рассказывал притчу о милосердном самарянине. И тут руку поднял тот самый суровый дед, похожий на пророка, который до этого молчал на всех занятиях, лишь изредка хмуря седые брови. Звали его Тихон Петрович.
«Ну, — подумал отец Алексий, — сейчас начнется. Сейчас он меня срежет каким-нибудь вопросом из канонического права». Тихон Петрович поднялся. В классе наступила тишина. Все уважали старика за его молчаливую основательность.— Батюшка, — сказал он неожиданно скрипучим, но твердым голосом. — Вот ты нам все правильно рассказываешь. А я вот что хочу спросить. Когда вы в храме на службе возглашаете «мир всем», — он сделал паузу, обводя всех строгим взглядом, — это и на соседа моего, Николая, тоже распространяется? Отец Алексий моргнул.— Ну да, Тихон Петрович, конечно. Мир всем — значит, всем без исключения.
Дед нахмурился еще больше.— Да? А если он, аспид, мне в том годе забор на полметра на мой огород передвинул? И собака у него лает по ночам, спасу нет. И здоровается через раз. На него тоже, значит, мир? И в этот момент отец Алексий вдруг замолчал. Потому что за этим наивным, почти смешным вопросом он внезапно увидел всю бездну и всю высоту христианства.
Он мог бы полчаса рассуждать о концепции агапе и всепрощения в трудах ранних отцов Церкви. Но что стоят все эти труды по сравнению с одним реальным, вредным соседом Николаем и необходимостью послать мир именно ему?
Этот простой, «нелогичный» вопрос оказался самым главным, самым богословским из всех, что он мог себе представить. Он пронзил всю его теоретическую шелуху и ударил прямо в сердце.
После того занятия отец Алексий шел домой другим человеком. Он думал не о невежестве своих прихожан. Он думал об их невероятной, кристальной искренности.
Ведь Анна Ивановна со своим «басурманским» порошком на самом деле спрашивала не о химии, а о том, как сохранить свой маленький мир в чистоте от зла.
Степан Макарыч с прошлогодней косточкой — не о кулинарии, а о том, где проходит граница честности перед Богом и совестью.
Мария Семеновна со своим котом — о любви ко всему живому творению. А Тихон Петрович… он задал главный вопрос всей Евангельской вести: как любить того, кого любить невозможно?
Он понял, что его миссия — не читать лекции. Его миссия — быть переводчиком. Переводить великие, непостижимые истины на простой, понятный язык сердца. Язык стиральных порошков, прошлогодних косточек и вредных соседей.
Он увидел в этой «небесной логике» не дремучесть, а отчаянную, живую попытку применить высокую веру к своей маленькой, конкретной жизни.
На следующем занятии он был другим. Он не начинал с высоких материй. Он просто сел за стол и сказал:
«Ну что, друзья, рассказывайте, с какими врагами — видимыми и невидимыми — вам пришлось сражаться на этой неделе?»
И полились рассказы. И отец Алексий слушал. И в каждом вопросе он теперь видел не невежество, а боль, надежду и любовь.
Тем вечером, выпив чаю, он подошел к окну и посмотрел на ночное небо, усыпанное звездами. Он улыбнулся. И, глядя на далекий, мерцающий огонек какой-то звезды, он сам себе, шепотом, задал совершенно «нелогичный» вопрос:
«Господи, а когда Ты смотришь на все это, на нас, суетливых, смешных, глупых… Ты, наверное, тоже улыбаешься?» И ему показалось, что далекая звезда в ответ подмигнула ему.








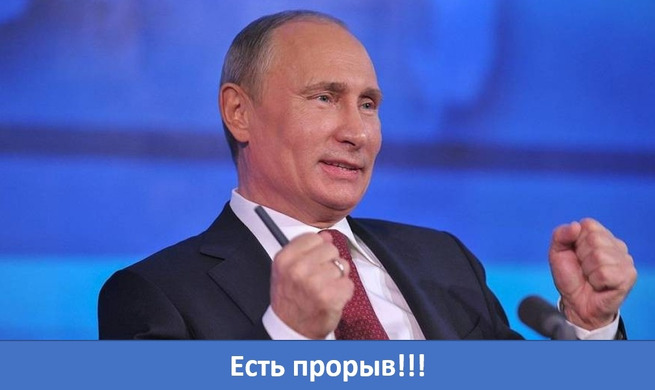


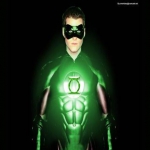
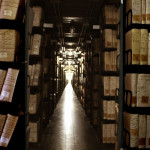



Оценили 33 человека
72 кармы