
У нас было все необходимое для нормальной счастливой жизни.
Во-первых, рабочая столовая на первом этаже. Там на столах хлеб лежал бесплатно. Во-вторых, в подвале была районная прачечная. Почему все предпочитали стирать дома и вывешивать на просушку всё вдоль коридора – загадка.
В-третьих, детский сад был во дворе, школа – на соседней улице, а тюрьма – напротив.
За углом был единственный на весь район кинотеатр. И наконец, буквально рядом был базар. До рынка он не дотягивал где-то лет пятнадцать.
В соседнем подъезде была детская библиотека. Уже не говорю о киоске с вином навынос прямо на трамвайной остановке. Чуть не забыл главное: за шесть трамвайных остановок – танковое училище. Настоящее! Благодать. Я так считал.
Ну, в моем возрасте это было простительно. Другими, словами, в тринадцать лет.
Почему я после школы шёл напрямую в библиотеку, а не домой (а это в соседний подъезд), объяснить не берусь. Скорее всего, меня привлекало огромное количество книг. Самых разных.
Дома, в нашей комнате, были книги. Немного. Инженерные – для отца, медицинские – для матери, остальное – для меня. Остальное включало (но не было ограничено) несколько романов Жюля Верна, пару книг Фенимора Купера, немножко Майн Рида, избранное Джека Лондона, конечно же, «Чиполлино», «Приключения Незнайки», Луи Буссенара и сборник рассказов о Великом Детективе.
Журналы «Политическое самообразование» и «Блокнот агитатора» навязывались, и поэтому литературой я их не считал. Было несколько книг с поэзией, но, как нормальный ребёнок из полукриминального района, я их игнорировал. Ну, это до поры до времени.
Отдельное, почётное, место занимали избранные рассказы О’Генри. Это был толстый, коричневый, слегка потрёпанный том. Особенно трепетно к этой книге относилась моя мать:
– Я жива благодаря этой книге!
Я долго искал на этой книге следы от пуль или осколков, которые приняли на себя удар и спасли мою мать. Ни черта не нашёл. Выразил своё недоумение и получил ответ:
– Когда меня сбила машина и я лежала в больнице, медсестры и врачи считали, что моё дело конченое. Помнишь, как ты у бабушки задержался на летних каникулах аж до ноября? Ну да, это я была в больнице.
– Та это я знаю.
– Да, так твой отец после работы, не заходя домой, приходил в больницу, садился у моей койки и читал мне вслух рассказы О’Генри. Было интересно. Но когда он начал читать «Вождь краснокожих», я начинала смеяться так, что врачи боялись, что все мои швы разлезутся!
– Ма, во дворе пацаны просто говорят: лопнула мимо шва!
– Ну, где-то так. Словом, эта книга – особенная. Я и выжила благодаря ей. Как, почему? Потому что мне хотелось услыхать новый рассказ. А там их много. А значит, надо тянуться. Выживать.
Я перестроился с Конан Дойла на О’Генри и эту настройку не поменял до сих пор.
Мои ежедневные приходы в библиотеку были положительно отмечены персоналом. Так как я не пытался вынести под рубашкой журналы с фотографиями киноактрис, ко мне прониклись доверием. Спустя короткое время мне разрешили заполнять библиотечные формуляры, доставать книги с полок и ставить их обратно.
(...)
А вскоре я подхватил вирус. Вирус чтения. Это при наличии обычной школы, музыкальной школы, спорта, футбола во дворе и нормального общения там же. Сразу после школы я забегал в рабочую столовку, запихивал в карманы ломти бесплатного хлеба со столов.
Уже знавшие меня уборщицы иногда даже выносили компот и, если особенно везло, целую тарелку сухофруктов из компота. Я набивался этими дарами, домой идти уже не надо было, и шёл в библиотеку. Там было тихо, почти пусто, несколько залов-комнат, заполненных книгами.
Книги про войну мне уже надоели. А вот фантастика – совсем другое дело. «Туманность Андромеды», «Аргонавты Вселенной», «Звёздные корабли», «Звёздные дневники Йона Тихого», «Магеллановы облака», «Я – робот», «Бегство с Земли», «Робинзоны Космоса», «Марсианские хроники», «Робот-зазнайка»…
Фантастика Ефремова, Беляева, Лема, Хайнлайна, Брэдбери, Шекли, Саймака, Азимова, Артура Кларка, Генри Каттнера, Карсака. Чего мне не хватало, так это еще пары глаз. Это как минимум.
Читать по ночам с фонариком – не тот случай. Мы все жили в одной комнате, и моя койка стояла через стол от кровати моих родителей. Много не начитаешь.
Когда мои родители читали, я понятия не имел. Книги они брали во взрослой библиотеке, которая была не в нашем доме. То есть я видел, что они приносили книги, но вот когда находили время читать…
Некоторых авторов я запомнил. Это писатель со смешной фамилией Пруст, Бальзак, Теннисон, Сервантес, Салтыков-Щедрин, Бернард Шоу, Лопе де Вега, Лесков, Паустовский, Мольер.
(...)
Как бы между прочим, мой отец упоминал в разговорах со мной то Франсуа Рабле, то Брет Гарта, то Лоренса Стерна. Спрашивал, а что до меня дошло в «Господах Головлёвых». И нравятся ли мне комедии Оскара Уайльда...
Русскую и украинскую классику проходили в школе, и я читал не только то, что шло по программе. Целые главы из «Евгения Онегина» я запоминал легко. Как, впрочем, и «Энеиду» Котляревского – там было много того, что хотелось запомнить. Иван Франко мне шёл не очень, а вот Леся Украинка и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя воспринимались легко.
Во дворе моя популярность резко возросла. Вечерами мы, пацаны, сидели на одной лавочке, наши дворовые девчонки – напротив. Где-то минут через пятнадцать обычного трёпа:
– Слышь, шкет (это ко мне), а ну травани чего-нибудь! Вон, вчера недосказал про какое-то привидение. Чего оно там еще нахомутало смешного?
И я подавал «Кентервильское привидение» Уайльда так, что автору это даже и не приснилось бы. Чего только это привидение не делало! Это в моей интерпретации, конечно. С него я легко переходил на «Летучего голландца», потом на «Парижские тайны» Эжена Сю…
Конечно, иногда случались и обрывы типа:
– Слышь, я твоей брехни наслушался, взял книжку про то привидение. Та ничего там такого и близко нет!
У меня уже ответ был готов:
– Ты сам козел! Ты хоть посмотрел, какое издательство это напечатало? Это же «Детгиз!» Ты чего, мамкино молоко еще грызёшь? Я вам настоящую историю рассказывал. Где взял, где взял? Это из первоисточника!
Слово «первоисточник» было самым главным. В нашем коллективно-заполированном сознании первоисточники – это работы Маркса, Ленина, Энгельса. Это все! Там ошибок по определению быть не может! Так что мне это все сходило с рук.
А потом я понял, что ничего мне с рук не сходило. Просто всем интересней было слушать мой бесконечный трёп, чем листать страницы в поисках одной смешной фразы...
Со временем у нас дома появилось немного подписных изданий. До «Всемирной литературы» у нас руки не дошли – не было соответствующих контактов. Но мои родители и я брали то, что доступно, в библиотеках. Моё скромное мнение: не все стоило включать во всемирное литературное наследие.
А потом – Америка. Здесь любые книги любых авторов. И никому не нужны. У меня иногда просто дрожали руки, когда я заходил в какой-нибудь трёхэтажный магазин старых книг. Там было всё. От каких-то древних восточных манускриптов на страницах из шелка до путевых дневников Семенова-Тянь-Шанского. Или письма из тюрьмы раввина Меира Кахане.
Но самое депрессивное состояние возникает, когда заходишь в общий зал в любом из русскоязычных домов для престарелых. Все стены – это книжные шкафы. Все полки забиты «Всемирной литературой», Шекспиром, Диккенсом, Чеховым, Пушкиным, Вересаевым, Тургеневым, Шолом-Алейхемом, двумя-тремя изданиями «Детской энциклопедии»… Это то, что эмигранты везли с собой из СССР. Или, скорее всего, отправляли по почте.
Это, а не шубы и ящики с платиновыми коронками. Но здесь это не нужно. Не им уже и не их детям. Кто-то сказал: внукам? А-а, послышалось.
Но почему же не бросили всё там? Я думаю, что это как жажда в пустыне. Напиться чистой родниковой водой невозможно. Физически ты её уже пить не можешь. Лопнешь. Но подыхаешь, опустив истлевшую от жара морду в прохладный ручей. Потому что это то, чем ты жил. И даже подыхая, жить без этого не можешь.
(Из статьи "Жажда" by Alveg Spaug, "Kstati" (Сан-Франциско), 1 января 2025).








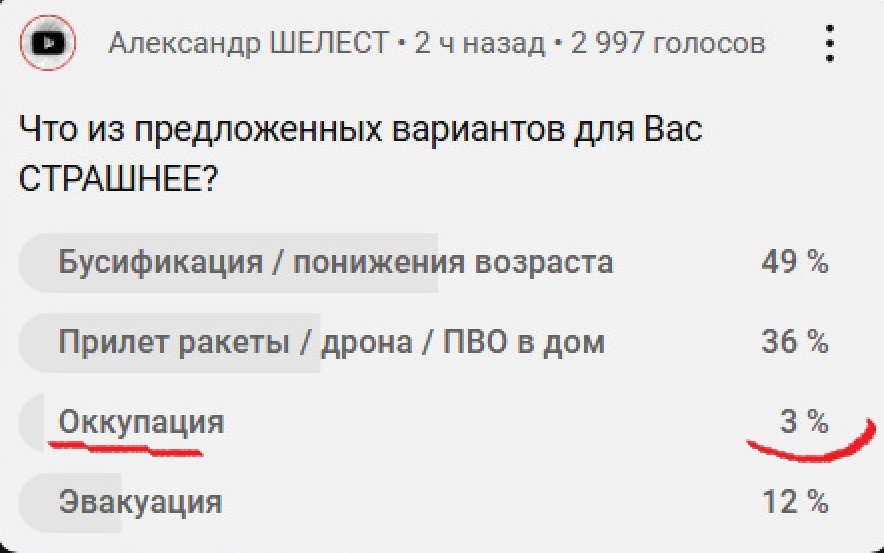




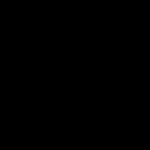
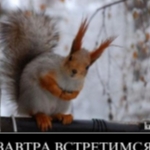
Оценили 32 человека
51 кармы