В нашем «ночном Я», в нашем личном озере, связанном с океаном «коллективного бессознательного», в котором плавают айсберги «архетипов», символы дробятся на льдинки, тают, превращаются в мелочи, нюансы, «оброненный платок». Выйти из «ночной половины моей луны», быть воспринятыми они могут, только приняв образы конкретного, внешнего мира. И эти образы – сгустки истории мира – превращаются в систему знаков, около которых сознание начинает вращаться, удаляться, но, как убийца, снова возвращаться к роковому месту, к знаку.
Вещи как герои текста живут двойной жизнью, явной и тайной, они – двери вхождения в смысл. Давно замечено, что сюжет базируется на суперзнаках, на критических точках авторского пространства. Но фундамент точек в глубине мирового сознания, в архетипе.
Тема убийства – тема вечная. Но как она дана в суперзнаках у Достоевского? Раскольников убивает старуху, но одно задуманное убийство превращается в два. И оно связывается с появлением у убийцы «силы». Сам удар описан как какой-то чужой – «силы его тут как будто бы не было». И только после нанесения удара «родилась в нем сила».
У Свидригайлова перед самоубийством наступает внезапный прилив сил. Иван Карамазов, когда решает уехать из дома / по совету Смердякова, оставив отца на верную смерть, мучается, долго не может заснуть / как и Раскольников/, потом засыпает необычайно крепким сном / так и хочется сказать – «сном Адама»/, после чего следует резкое пробуждение и прилив сил. Алеша Карамазов над трупом старца усмехнулся и «ощутил прилив сил».
Смерть – смерть насильственная – своя или чужая – дает силы, энергию. Свидригайлов убивает себя – отдает себя первому убийце, и поэтому бессознательно у Достоевского всплывает образ «порции телятины», которая подана Свидригайлову, решившемуся на самоубийство, в номере гостиницы. Деталь, но у Достоевского она настойчиво подчеркивается, причем упоминается о ней не просто как о еде, а нечто, наделенной особой силой. Но, заказав себе телятину, Свидригайлов не может, не способен проглотить и куска – всю ночь она стоит на столе. Даже под утро он хочет встать, чтобы прикрыть ее от мух, но не может. / Как не вспомнить о вареной курице, к которой так и не притронулся самоубийца Кириллов в «Бесах»/.
Человек уже не может вернуться на «коровью дорогу», на дорогу возвращения, он идёт к СТН. В «Преступлении и наказании» очень подробно описывается «заклад», то, что должно отвлечь старуху для того, чтобы Раскольников ее ударил топором. Неожиданно Достоевский очень подробно описывает, как был сделан этот фальшивый «заклад» - это самая странная из явленных / действительно явившихся из архетипа/ в романе вещей. Это свернутый сюжет убийства и его последствий.
Уже отмечалось исследователями Достоевского / В.Ф.Карасёв/, что столь тщательное описание устройства заклада – это схема убийства, его модель. Как у Чепурного из «Чевенгура» Платонова в сознание, в голове Достоевского «как в тихом озере, плавают обломки когда-то виденного мира и встреченных событий…» Раскольников «заклад» делает из двух несовместимых и неравномерных частей – деревянной дощечки и железной пластинки / «деревянное железо» / , из двух разных природ, и связывает их веревками крест-накрест, а не параллельно. И как бы за этот «заклад» он получает после удара «прилив сил». Он убивает, как дрова колют, т.е., что-то расщепляют. И человеческое тело у Достоевского сравнивается в момент убийства с деревом /!/+
Человеческое тело как дерево – заклад – убийство – прилив сил. Суперзнаки сцепляются, как атомы – в молекулы, как буквы – в слова. Но убийство двойное – страдает невинная совсем Лизавета. Здесь скрыта не только явная идея об убийстве как о порождении цепи, в принципе – бесконечной цепи, убийств. Ведь когда Раскольников кается о содеянном, о Лизавете он как бы « забывает»! Исследователи Достоевского обратили внимание на поворот топора с обуха на острие при убийстве именно Лизаветы – «топор как бы уже осознал себя орудием раскалывания», он снова раскалывает, но за это уже каяться не надо, это уже в принципе и не убийство, его нет. И нет раскаяния у Раскольникова о Лизавете.
Это действительно нелогично в романе, но в том и дело, что большое отличается от малого тем, что второе – пишут, сочиняют, а первое – удивительным образом вспоминается, и неясным образом и для самого писателя складывается в целое. Когда человек у Достоевского подходит к своей пороговой минуте, где-то рядом с ним появляются вещи, тесным образом связанные с загадкой человеческой телесности. В финале «Идиота» Рогожин занимается очень странным делом – пытается сохранить от разложения тело убитой им женщины / да еще с фамилией Барашкова /. Символ явный. Он хочет оставить тело на земле как живое! / и, если у Достоевского такое желание мотивируется безумием - ------
+ Тело убийцы и его жертвы дважды в романе, причем в мгновения самые важные и напряженные / во время убийства реального и убийства приснившегося / уподобляются дереву. Стали «деревянными» руки Раскольникова, нащупывавшие топор, а затем во сне Раскольникова – «деревянным» оказывается тело старухи. «Он постоял над ней: боится! – подумал он, тихонько высвободив из петли топор и ударив старуху по темени раз и другой... Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная». Плоть человека обнаруживает в себе смысл дерева. И это уже сознательный прием, то через 50 лет у Платонова оно осознается с устойчивой потребностью/.
Надо обмануть смерть! И Мышкин, и Рогожин понимают, чего хотят – и дело здесь не в страсти в ее эротическом или даже возвышенном смысле – любви небесной не надо тела, а для земной – тело нужно живое. У Платонова «архетип», появляющийся у Достоевского, выражен гораздо четче. В «Чевенгуре» собиратель трупов жуков и растений Вощев и приемный отец Дванова, намеревающийся время от времени раскапывать могилу сына и смотреть на него, воплощает мечту о сохраняющемся после смерти теле, мечту, за которой проглядывает надежда сохранить – вместе с телом – и нечто большее – саму жизнь, т.е. не умереть, а если и умереть, то не полностью, не до конца.
Телесное бессмертие с Христом или телесное бессмертие…, не у многих эта дилемма осознана / наиболее четко – у Гоголя/, но как архетип – этот нерв русской культуры. Достоевский с Христом, но из «темной стороны луны» в текстах у него появляется тема укуса. В «Преступлении и наказании» старуха-процентщица кусает за палец свою сестру Лизавету / чистая линия Каин-Авель , «темная» старуха – «чистая» Лизавета/. Укус в мизинец левой руки получает Верховенский в «Бесах»: «Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку… В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только, что он вне себя 3 раза изо всех сил ударил по голове припавшего к нему и укусившего его палец Кириллова».
С Алешей Карамазовым случается то же: «Мальчик сорвался с места, … нагнул голову / как и Кириллов!/ схватил обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний палец. Он впился в него зубами и…
----------------
+А в «Селе Степанчикове» есть даже персонаж по фамилии Мизинчиков.
Что такое здешняя вечная жизнь, в которую верил Кириллов из «Бесов»? И не против ли нее всплывает еще один «архетип» у Достоевского? Топор как орудие разрубания, отсекания в той или иной форме появляется у Достоевского не раз – в «Неточке Незвановой» говорится о секире, которая висит над головой человека всю жизнь , в «Бесах» - топор в прокламации, и т.д. Вообще отделение головы от тела, по Достоевскому, и есть подлинная смерть – и этот мотив крайне устойчив / а повешение, расстрел, сжигание и множество других способов умерщвления ?/.
В «Дневнике писателя» он даже домысливал отрезание головы, описывая один из услышанных им случаев. Более того, что это – истинная смерть, она несет у Достоевского и значение благое, значение освобождения от чего-то, от какой-то грозной опасности. В «Братьях Карамазовых» описан праведник, который после того, как ему отрубили голову, взял ее в руки и пошел с ней, «любезно ее лобызая».
Кривая символов замыкается в круг. Можно вспомнить и значение меди у Достоевского. В «Бесах» в сцене самоубийства Кириллова подробно и настойчиво описывается медный подсвечник – в этой сцене он все время движется, перемещается из комнаты в комнату, а затем дает знать о себе звоном. Медный пестик « по случаю» отказывается стать орудием убийства отца Карамазова. Уходит Алеша из монастыря под медный колокольный звон.
В «Братьях Карамазовых» медь вообще появляется в самые важные минуты. потрясенного запахом старца Алешу спасает медь. Как раз ударил в ту минуту колокол, призывая к службе; перелом в душе Алеши – также под звуки колокола. Медь появляется, когда Свидригайлов собирается нажать курок / в лице «Ахиллеса в медной каске»/. Цвет меди – цвет человеческого тела, красного оттенка.
Но и медь – двойственна у Достоевского, как и Венера, звезда вечерняя и утренняя, и что за этим символом «адамическим» стоит. Но больше все же предупреждает, спасает – в «Вечном муже» трижды выразительно звучит медный колокольчик, предупреждая об опасности Вельчанинова, а затем уж появляется на сцене стальное лезвие. Звенит колокольчик у старухи и перед появлением Раскольникова.
Символические узлы проступают на всем пространстве романов Достоевского, они превращаются в сюжетные, их завязывают и развязывают герои и героини, но за всем этим лежит вся жизнь мирового человека, человека в мире, которая проявляется архетипически в вещах, вещичках, мелочах, так как в замысле, сюжете это уже было дневным сознанием, сознанием все забывшим. Этому сознанию только кажется, что оно решает, делает, творит роман, заставляет двигаться героев так, а не иначе, дёргает за нитки.
Поэтому Достоевского изучают, «проходят» все время – от школы / и уже там все в сюжете вроде бы ясно/ до смерти, даже после которой ясности тоже не всегда прибавляется / это знал и Достоевский – см. рассказ «Бобок»/. И поэтому живут эти романы вечно, так как они есть выговоренная связь больших архетипов, с нашими индивидуальными, и мы бессознательно вступаем с ними в резонанс, и будем вступать



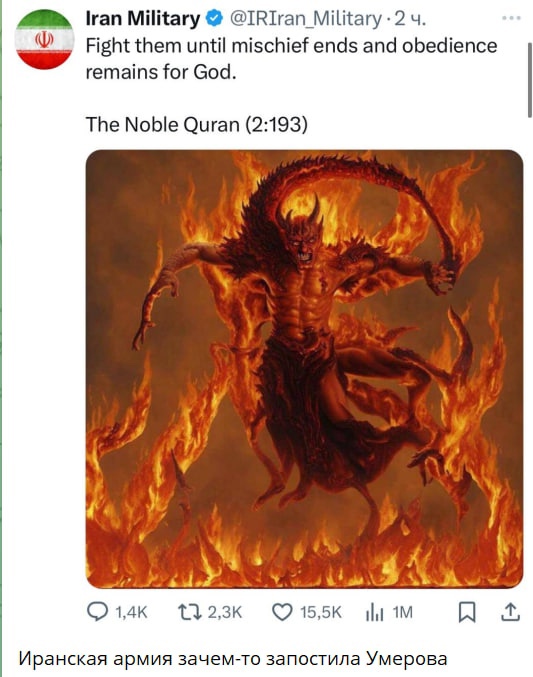




Оценили 6 человек
15 кармы