1944 год. Лето. Белорусский фронт накануне грандиозного немецкого шухера. Передовая. Окоп. Затишье. Пулемётная точка. За пулемётом ‒ мой дед Иван Григорьевич. Первым номером.
Впрочем, было ему тогда всего 33 года. Почему и звали его просто Иван. А то и Ванька.
Дед из пулемёта изредка постреливает по немецкому окопу. Оттуда лениво отвечает немецкий пулемёт.
Пока немец пуляет можно на дно окопа присесть и самокрутку забить. Тогда на дым табака обязательно кто-то из солдат подползёт и крикнет обычное:
- Вань, оставь покурить!
- Лови! ‒ кидает дед тому кисет, ‒ Сам крути! Коль свои лень...
- Гы-гы-гы...
Ибо война не любит жадных. Как и пьяных. Ну и шибко вумных ‒ тоже. А вот трезвых, весёлых и бесшабашных, да в одном флаконе, напротив, ну очень даже уважает. И беречь старается. До последнего.
Видимо потому-то дед изо всех атак своих и рукопашных, коих за два года много было, без единой царапины вышел.
Да и самой Смерти, похоже, не нравился ни дедов тверёзый взгляд, ни шутки его ядрёные, ни сам он, со штыком его трёхгранным на неё прущий, да с кличем "Ура!" .

Впрочем, та аж трижды изловчилась его подловить. Но прихватывала лишь тогда, когда он в глаза ей не смотрел. Именно со спины та дважды вонзилась в него пулями снайпера немецкого. А на третий раз сверху снарядом фашистским накрыла.
- Ну, сука костлявая, попадёшься мне ещё! ‒ ругнулся дед, когда его откопали из разрушенного блиндажа. И с хриплым выдохом фигу сжал, мол, на тебе...
В госпитале потом еле разжали.

Тем самым говорю, что дед шутник был редкостный. Шутил всегда и везде, в любой ситуации. Причём шутки его были исключительно добрые и жизнерадостные. Без похабщины, без желания выпендриться или привлечь к себе внимание. Просто, пёрло из него редкостное крестьянское жизнелюбие, да в шутливой форме. Почему и любили его все вокруг, любого возраста и пола.
- Вань, чёй-то без балалайки сёдня?
- Да бабка струны все порвала. Без подпевки щас спою...
А так и жил жизнерадостно. Всю жизнь. Все 92 года. До последнего дня.
Ох, как же мы, внуки и правнуки, любили его. Ну и истории его. Особо ‒ военные.
В иное лето нас в дедову Гавриловку до десятка единомоментно съезжалось. Кто только-только в школу пошёл, кто уже закончил, а кто и армию успел отслужить. Но разницы в годах особо не чувствовали. Ибо все мы ‒ внуки деда нашего, Ивана Григорьевича. "Тришкины" по-деревенски. И питерские, и эстонские, и калужские, и хабаровские.
- Дедуш, расскажи, как с немцем перестреливался.
И дед в очередной раз рассказывает нам одни и те же байки свои, но каждый раз на новый лад, да так, что мы вновь и вновь соловьями заливались и жеребцами ржали, слушая неоднократно слышимое.
Да и как тут не заржать, когда дед вдохновенно начинал рассказывать и показывать, как он в первую атаку на немецкий дот ходил, да с лопаткой сапёрной и двумя лимонками, и как винтовку добыл, и как дот лимонками забросали, и как семь полудохлых фрицев в плен взяли, вдвоём выжив из всей роты... Вот мы и заливались. А тот уже рассказывает, как по опушке леса от пуль немецкого снайпера бегал и ползал, да со щами и кашей в термосах на спине, и как снайпер две пули в щи всадил, и как дед в последнюю атаку свою на того бежал и "Ура!" орал... Сам себя передразнивая: "Уря-а-а!". При этом показывая нам, как бегал, прыгал и ползал, потешно хромая по всей комнате на ноге своей негнущейся, да на несколько сантиметров ставшей короче другой... А мы знай укакатываемся. В смысле ухохатываемся. А некоторые, помоложе, даже писались со смеху.
А потом мы повзрослели, возмужали, заматерели, обзавелись собственными семьями и к деду с бабкой стали приезжать всё реже и реже.
Когда же наведывались, то видели всё того же вечно весёлого деда-балагура. Только с бородой уже, которую он отпустил после смерти любви его красивой, нашей бабы Усти.
‒ Что, дедуш, ленишься бриться? ‒ подначивали усатые и бородатые внуки.
А тот:
- Старообрядец без бороды, что баба без, извиняюсь, пизды.
- Гы-гы-гы...

То есть, когда внуки подросли, оженились, обзавелись своими детьми и перешли, как говорится, на новый уровень бытия, то и дедовы байки нам тоже подросли...
Вот ниже и расскажу одну из его ядрёностей, истинное названием которой я, по врождённой крестьянской стыдливости, постыдился в заголовок вынести:
ДОПИЗДЕЛСЯ
Сидит как-то дед в окопе, товарищей своих очередной байкой потешает. Да так, что солдатский хохот даже в немецком окопе слышен. И немцы серчают на веселье наше, да из разнообразного стрелкового оружия.
И вдруг от командирского блиндажа по цепочке несётся:
- Красноармейцу Горбачёву срочно явиться к командиру полка!
- Красноармейцу... к командиру полка!
- ...Горбачёву явиться...!
- ...срочно...!
Даже немецкий пулемёт затих.
- Чёй-то, Вань? ‒ насторожился второй номер, ‒ За что к Полкану?
Дед вздохнул и ответил:
- Видимо, допизделся...
Громко отрапортовал по цепи: «Есть к командиру полка!», и хотел было даже перекреститься. В два пальца. Но воздержался. Ибо как раз накануне комиссар в партию большевиков предложил вступить. Потому просто пошёл. Точнее пополз. По поляне. И до опушки леса. Ибо немецкий пулемётчик тоже не пальцем делан был, стрелял хорошо.
А до того дед побрился и рубаху чистую под гимнастёрку одел.
Вот.

Поляну прополз благополучно. Побрёл по леску, что отделял передовую от тыловых частей и штаба. По пути размышляя, где и на чём прокололся и как будет забрёхивать проколы те.
Дошёл до штаба.
Вошёл.
А там ‒ дым коромыслом! Гулянка. В смысле ‒ пьянка.
Дед немного успокоился. Ибо любой командир, и даже особист отъявленный, когда пьяный ‒ добрый. Относительно своего трезвого состояния. Тем более ‒ в боевых условиях.
Из-за уставленного выпивкой и закусками стола поднялся командир полка, полковник, которого по древне-русской традиции именовали Полканом.
Дед представился, как никогда в жизни:
- Красноармеец Горбачёв по вашему приказанию прибыл!
И замер по стойке "Смирно!".
Полкан внимательно осмотрел деда покрасневшими от недосыпа и спирта глазами. А потом и говорит:
- Говорят, боец, ты в полку краснобай записной?
Дед прислушался к себе. Услышал чуйку собственную: «До...шутился». Задумался: «Где в этот раз?... Кто вломил?...». Продолжая при этом стоять навытяжку, поскольку команды «Вольно!» не поступало:
- Не могу знать!
А Полкан и говорит.
- Вот и пошути нам! Чтоб смешно было! А то мы что-то заскучали.
И всё высокое собрание, из-за стола внимательно внимавшее полковнику, затрясло головами стрижеными. А меж теми и несколькими женскими.
«Будем жить!», ‒ подумал дед. И чуйка его согласилась с ним.
Ну а далее само попёрло:
- А позвольте, товарищ полковник, сначала загадку загадать. Русскую народную.
Полкан напрягся. Прищурился. Заподозрив в загадке народной потенциальную подлянку антисоветскую. Попытался припомнить, какой сегодня день и где комиссар его. А параллельно услышал одобрительный гул из-за спины. Ну и подумал: «Да и хрен с ним, с комиссаром!». И, естественно, позволил:
- Только ‒ одну!
Дед глубоко вздохнул, наполнил воздухом лёгкие, по самые гланды, и, посильнее прижав ладони к галифе, с выдохом выдал:
- Как думаете, товарищ полковник, кто главнее, хуй или пизда?
Стол замер... Потом начал озираться по сторонам, на предмет выявления в своих рядах доверенных лиц полкового комиссара. В итоге взгляды сконцетрировались на присутствующих женщинах. Те приняли вызов. Молча.
В зависшей тишине лишь мухи звенели. Долго. Ибо Полкан в это время честно думал над солдатским вопросом ребром. Напряжённо. Секунды три. После чего и ответил:
- Воин! Я давно живу на свете! И неоднократно размышлял над вопросом этим! Но так и не разобрался в иерархии той! Так что, сам отвечай! Слушаю!!!
И дед ответил:
- Пизда!
Стол оцепенел. Даже мухи звенеть перестали, усевшись кто где и плотоядно вылупившись на деда. Ибо солдат, а тем более красноармеец, который не справился с поставленной советским командиром задачей, это уже и не солдат, а потенциальное их блюдо.
Ведь деду была команда «А ну-ка рассмеши нас». Ан, никто не смеётся. Значит, поставленная задача не исполнена, значит боевой приказ не выполнен...
Полкан же решил не гнать лошадей, а вполне дружелюбно, особо для иерархии полковник\рядовой, заметил, с металлическим однако позвякиванием слов:
- Боец, не смешно!!!
Дед же продолжал стоять не шелохнувшись, по стойке смирно: взгляд на командира, спина прямая, руки по швам, пятки вместе, носки врозь. Плюс, как и завещал Пётр I в своём уставе ‒ вид лихой, немного придурковатый... При этом молчит.
- Боец, расшифруй! ‒ уже приказал Полкан. Но по-доброму. Ибо и самому интересно стало, чем всё закончится.
Тут-то, коль команда поступила, хошь-не-хошь, а отвечать надо. И дед отвечает:
- А потому, товарищ полковник, пизда главнее хуя, что хуй завсегда пред ней навытяжку стоит! Прям, ‒ глазками ‒ хлоп-хлоп, ‒ как я пред вами!
От взрыва пьяного хохота зазвенели столовые приборы, упали несколько рюмок и грохнулись несколько стульев, да с сидевшими на них. И мухи снова зажужжали.
Дед извинительным взглядом посмотрел сквозь Полкана на присутствующих за столом полковых дам, мол, пардон, бабоньки, мол, это ‒ не я, это ‒ загадка такая русская, в смысле народная.
А те вовсю заливаются. Ручками щёчки и рты прикрыв. Мол, о-хо-хо-х, озорник какой сыскался.
Полкан, однако, нахмурился:
- Смотри-ка, ‒ говорит, ‒ не соврали!
Дед напрягся ещё сильнее, мол, кто и что не соврали?
А тот уже самолично налил деду стакан спирта и молча подал. И чёкнулся с ним:
- Будем, боец!
- Будем, товарищ... Полкан!
Выпили.
Дед занюхал рукавом гимнастёрки. Да и замер с пустым стаканом в руке.
Полкан протянул ему кусок хлеба с салом.
Тут-то дед, да всё в той же стойке навытяжку, и произнёс извечное:
- После первой не закусываю...
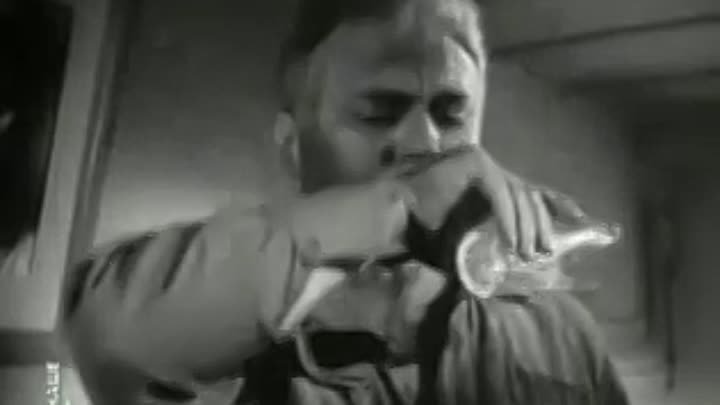
Полковник наконец-то улыбнулся:
- Ну, чую, скучно не будет... Вольно!
***
А каким образом в это же самое время другой мой славный дед ‒ Воробьёв Григорий ‒ веселил своё начальство, да на лесоповале каком-то магаданском, этого я так и не разузнал.
















Оценил 31 человек
52 кармы