В 86-м году Ванька окончив мореходку, получил диплом штурмана и, как и положено дураку, пошёл работать матросом.
- Ваня! ‒ взывала к тому мамка, ‒ Не будешь штурманом, не станешь капитаном!
- Точно! ‒ соглашался Ванька, ‒ Зато тебя чаще видеть буду!
Ибо штурманить со средне-техническим дипломом можно было лишь на Чукотке, Камчатке или Сахалине. Вот и остался в Ленинграде. Не раздумывая согласившись на рядовую должность в Балтийском пароходстве. Тем более, что разница в окладах у штурмана и матроса была ничтожна.
Мамка его было в высшую мореходку попыталась запихнуть, но тот встал на дыбы:
- Буду палубу красить. В синий цвет! А как надоест, в милицию подамся. В Анискины!
Ну и пошёл море пахать.
И что интересно, пароходы, где оказывался Ванька, даже самые захудалые и бесперспективные, тут же становились счастливыми. В смысле денежными. Неимоверно изумляя экипажи попёршим фартом.

Впрочем о даре своём Ванька сообразил не сразу, а лишь через несколько лет; поскольку мало того что дураком был, так ещё и тугодумством отличался выдающимся. И тем не менее сообразил как-то: на какое судно не ступит нога его, там сразу начинали платить такие деньги, что моряки, лет по двадцать уже море отпахавшие, лишь недоумевали:
- Смотри-ка, и мне наконец повезло!
А Ванька улыбался на то, да каламбурил непонять что: «Деньги ‒ как дождь; в одном месте пусто, в другом ‒ густо».
Мол, из воздуха сами собой регулярно сгущаются.
А так и жил, не задумываясь зачем. Да работая на работе нелюбимой. Да между вахт почитывая книжки заумные. Да складывая деньги из воздуха за сдачи-приёмки-ремонты судов своих в тумбочку навалом.
Ибо копить на чёрный день, как и все дураки, не умел совершенно.
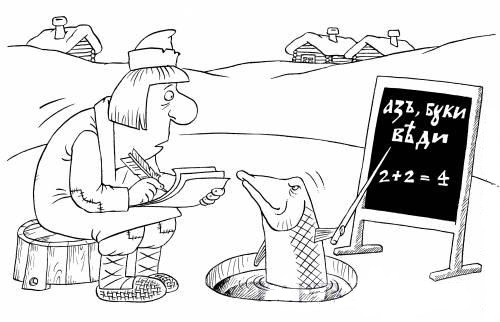
Впрочем, два раза его пароходы денег ни ему, ни экипажу не принесли. И оба раза выпали на високосные годы.
- Страсть! ‒ вспоминал Ванька 88-й год и завершение своего первого потопа, ‒ Ещё минут сорок и я раньше сроку стал бы верующим.
В тот год сильнейший шторм завалил его лесовоз на борт где-то между Норвегией и Гренландией. Да ночью, когда всё такое и происходит. Восстановить же приличное положение судно смогло лишь с рассветом, когда палубная команда с величайшим трудом смайнала за борт четверть палубного груза. Да вместе с фальшбортом двух трюмов. И тем не менее в порту назначения оставшийся от потопа груз умудрились сдать на все 100 %. Предварительно, правда, затоварившись водкой и упоив ею приёмщиков-тальманов. Ну и немного подправив их приёмные ведомости.
Однако премию за тот подвиг и последовавшую за ним смекалку пароходство им так и не начислило. Мол, разгильдяи вы, а не герои, коль допустили возникновение нештатной ситуации в стандартной морской обстановке. Утраченный фальшборт имея в виду.
На что, впрочем, никто и не обиделся. Мол, живы остались и слава морю.

Затем были следующие три жирных года: 89-й, 90-й, 91-й. Тогда же Ванька и обзавёлся бывшими в употреблении, но весьма приличными снаружи и внутри "Жигулями" третьей модели. После чего и стал первым женихом на деревне, последнюю советскую сосиску доедавшей.
Тогда же и женился, в 92-м. И опять же ‒ не как все. Вчера ещё сидел в Питере на пароходе, а завтра уже был за 1000 вёрст от того. С женой под левую ручку и с вальсом Мендельсона следом, да с литовским акцентом литовских же скрипок.
Свадьба, как рассказывал, очень хорошая получилась, добрая и весёлая. Хотя, по Ванькиному обычаю, и дурацкая немного. Ибо из двух десятков гостей, присутствовавших на свадьбе, лиц русской национальности было всего двое: он и его избранница.

- Ванька! ‒ офигевал я, ‒ Ну ты точно дурак!
- Согласен, Олега! Но дочь питерского генерала таможни мне что-то не глянулась. А воронежскую прибалтийку мне мама указала. Вот я и послушался её. Второй раз в жизни. Первый раз ‒ когда в мореходку подался, а второй ‒ когда жену искал. Ибо мамки в семейных делах лучше понимают, чем все академики от психологии.
После свадьбы и случился второй его потоп.
К тому часу Ванька из упёртых воинствующих атеистов уже стал не менее упёртым старообрядцем. Почему и к нагрянувшему на него потопу отнёсся примерно также, как некогда Аваакум к Никону. Вдохновенно, то есть, и без страху. Как в стенке на стенку. Ну и взял лопату в руки, и с криком "Ура!" надавал тому по мордам. И потоп опять отступился от него и его судна, отыгравшись на двух соседних. Пообещав, однако, устроить следующую встречу в следующем високосном году.

После чего были очередные три жирных года. Под конец которых Ванька и загрустил, резонно полагая, что в грядущем 96-м году лопатой отбиться вряд ли получится.
Ну и начал попивать. Не похмеляясь. С тревогой ощущая приближение очередного високосного потопа и переживая за тех, кто окажется рядом.
Ан, чётко накануне того года, в декабре месяце, его морская стезя сама собой вынесла Ваньку на берег. Да и выбросила на произвол сухопутья. Ибо его самое крупное в мире пароходство в одночасье умерло.
А так его стезя и оказалась на суше. Да с ненужными ей Ванькиными познаниями в мореходных астрономии с метеорологией и треугольниках, где градусов больше чем 180; плюс, умением красить палубу в синий цвет. И Ванька покатил по стезе своей дальше. Вроде и старой, но уже иной. Без работы и без заначки своей.
Поскольку деньги, презираемые дураками, в конце концов покидают их. В самый неподходящий для них момент. Тем самым намекая на собственную неоднозначность.
Обнаружив пустую тумбочку Ванька удивлённо хмыкнул и было в затылке поскрести собрался. Но вместо того рассмеялся чему-то. Да и ткнул в пустоту тумбочки фигой своей. Мол, и хрен с ними, с деньгами! И тут же научился пить не имея их. И новый опыт ему весьма приглянулся.

- С деньгами и дурак напьётся! ‒ говорил мне Ванька, ‒ А ты, Олега, попробуй-ка нажраться без копья в кармане.
И я, помнится, поначалу даже улыбнулся словам тем, попытавшись представить Ваньку со складным копьём в кармане. А потом загрустил. Ибо понял, что дурак, лишившись моря и его вечного драйва, и сам стал меняться. Начал становиться земным.
А с земными дураками водка шутит немного не так, как с морскими.
А так Ванька и запил зелёную. Как-то раз целую неделю пил. По бутылке каждый день. Практически без сна. При этом все семь дней упёрто не похмеляясь. И собутыльников своих от того предостерегая. Примерами из жизни морской.

Заскучал, короче говоря, от бытия сплошь земного, ностальгируя в кабаках и на кухнях о море когда-то нелюбимом.
Ибо в море ‒ раж. Или ярь. Даже в штиль. А тем более ‒ в шторм. Ибо море ‒ это непредсказуемость. Это непредсказуемая вечная стихия. Которая и ласковой бывает, и прекрасной и загадочной. И которая в свой непредсказуемый час обязательно становится ужасной. Дабы испытать на прочность того, кто набрался смелости или дерзости поближе познакомится с ней.
Вот и знакомит. Да так, что каждая клеточка дерзновенного тела входит в резонанс с ужасом тем. А душа смельчака того инстинктивно стремится укрыться в каком-либо месте укромном, где можно будет не видеть этих волн выше мачт, не слышать этого режущего барабанные перепонки свиста ветра, проникающего даже сквозь герметичные двери и иллюминаторы, не чувствовать дрожи судна, воткнувшегося в очередную глыбу океанской волны.

Но некуда бежать душе естествоиспытателя с вахты его. Остаётся лишь ещё сильнее сжимать вспотевшими ладонями штурвал и стараться не допустить соединения личного градуса личного ужаса с критическим градусом на судовом кренометре.
То есть, не паниковать. Особенно ночью. Когда глазу ни зги не видно ужаса того. Когда лишь чуйка твоя чует его приближение и из глубин души вопит во тьму: «Караул!». Мол, будь внимателен, Ванька! Мол, это не просто шторм, но твой экзамен на профпригодность. По специальности "Жизнь или смерть"! Мол, тебе выпал билет под названием "Ночной ужас".
А тот с трёх сторон уже окружил твоё старенькое судно и начал настойчиво проверять его борта на прочность. Пытаясь пробиться внутрь. Чтобы понять причину дерзости твоей и справедливо оценить её. Вот и бьёт. То справа. То слева. То сзади. А то и с трёх сторон сразу. Поясняя, что нематериальное слово "ужас" может иметь вполне материальные проявления.

А следом и тело твоё начинает ощущать силу и мощь материальности стихии той. И ужаса её. Когда тот всё чаще и чаще, всё сильнее и сильнее начинает бить в то, что отделяет непосредственно тебя от непосредственно его ‒ железо бортов судна твоего.
Ну и пугаешься. И теряешься, ясень-пень. На миг или два. Вот и получаешь удар их в корму. Да такой, что стрелка кренометра стрелою мчится к критическому градусу судового метацентра, за пределами которого находится некое нечто, которое так и называется Нечто. Ибо никто не знает точно, что находится за пределом тем.
А логика в это время вопит: «Лево на борт!». А чуйка параллельно орёт: «Право на борт!». И ты, поколебавшись долю секунды, доверяешься последней. И будто на автомобиле, попавшем в ледяной занос, вращаешь штурвал в сторону критического крена. И несколько секунд с ужасом ожидаешь непоправимого, наблюдая как стрелка кренометра приближается к безвозвратному рубежу. И... замирает рядом. Не дойдя всего двух градусов до грани яви и нави. А потом медленно-медленно начинает откатываться к животворящему нулю.

И ты выдыхаешь. И чертыхаешься жёстко. На самого себя уже. Ибо кто-то из экипажа наверняка вывалился из своей кровати и теперь на чём свет стоит клянёт того, кто на руле стоит. То есть ‒ тебя.
Ну и стыдишься промашки своей. Отчего и забываешь о страхах тех и мыслях квазифилософских. И просто вступаешь в бой. Осознанно. Понимая, что отныне ты ‒ один в поле воин. И что никто тебе не помощник, кроме мёртвого железа судна твоего. И что его борта ‒ это броня твоя. И как бы не был силён противник, пока броня твоя цела он вреда тебе не причинит. Просто не сможет. Главное ‒ не подставить ему зад свой.
Вот раз за разом и пытаешься во тьме угадать направление, откуда очередная атака его последует. И вроде бы тупо вращаешь штурвал от право на борт до лево на борт, а сам в это время чуйкой своей пытаешься понять логику его.
И высчитываешь её.
А параллельно тому из глубин твоего юного и малоопытного сердца спасательным кругом всплывает понимание, что в руках твоих и не штурвал уже, но колесо жизни всего экипажа твоего. От поварёнка-практиканта и до матёрого капитана. И что всю вахту свою ты в ответе за экипаж свой пред их сородичами. И что права не имеешь подвести тех, кто вверил свои жизни в руки твои, и ныне спит покойно, привычно покачиваясь на койках их, да радуясь во сне кто мамке-с-папкой, а кто и жене с детьми.
Ибо они приняли тебя и доверяют тебе.
Вот и упираешься ногами в палубу, что Святогор в Землю-Матушку. И всё крепче и крепче держишь штурвал. Уже не держась за него, но удерживая его в руках своих. И всё увереннее и увереннее вращаешь его, отбиваясь от наскоков противника невидимого. И нет-нет да и подмигнёшь барографу за спиной своей, мол, не пора ли тому из противника в союзники перебираться. Мол, хорош валиться запредельно! И тот отвечает тебе, почти по-дружески: «Не дрейфь, Ванька!». Мол, не надо на произвол стихии в дрейф ложиться. Мол, и не то ещё будет. Мол, тренируйся!
И дальше в бездну валится.
И в это время судно опять получает, аж три удара подряд. И снова долго и звонко вибрирует железо брони твоей. И каждая клеточка тела твоего тоже. И правая нога следом.
И ужас тот потешается над дрожью твоей.
Но страшного не происходит, ибо удары те разнонаправленные сами собой гасят друг друга.
А ты кричишь молча противнику своему: «Издеваешься, гад? Да хрен вам!».
И в отчаянии поднимаешь глаза туда, где должно быть небо. И выдыхаешь, опять же молча: «Ну, родимые, пособляй!».
И нет-нет да и прислушаешься к тишине в ответ.
И опять теряешься. И снова глазами ищешь дверь ту, чтоб сбежать от страха своего. Да только двери той мало того что не видно во тьме, так ещё и не существует в природе. А коль и существует, то не про твою честь. Ибо твоё место там, где ты есть.
Тут-то и приходит понимание, что от страха своего не сбежать. Что страх на то и существует, чтоб его побеждать. Всегда. Что кто не победит свой очередной страх, тот и сам следом перестанет существовать.
Ну, и серчаешь от мыслей подобных. И продолжаешь бой невидимый. И держишь удар за ударом. И нет-нет да и сам кидаешься в атаку на ужас тот. Чуйкой своей ощущая, с какой стороны и в какой миг тот планирует кинутся на тебя и судно твоё. И резко перекладываешь руль на борт, и направляешь невидимый во тьме нос судна на ближайшую волну, и режешь её надвое, и топчешь всем весом своего многотысячника. Но добить ту времени нет. Ибо две других уже подкрались слева и сзади. А ты уже и не думаешь как быть. Руки сами перекладываю руль куда всем надо, ракетой направляя судно на ближайшую зыбь, всей массой его утюжа ту. И тут же уходишь в циркуляцию, дабы догоняющая волна не в зад тебя пнула, а в кость твою лобную. Да и отбила лапу свою.

И так всю вахту во тьме ночной ужом на сковороде вертишься. Когда даже кренометра не видно, а три системы океанская зыби змием трехглавым настойчиво пытаются опрокинуть тебя. Вместе с судном твоим и экипажем спящим. На!.. На!.. На!..
А до кучи и поддых. Копытом. Два раза.

‒ Так что, Олега, ужас испытывал любой моряк. И потому-то моряки, бороздящие океан своей стезёй, любят род человеческий чуть сильнее и чуть глубже, нежели сухопутный люд. И в том же причина того, что они как правило не боятся ни живых, ни мёртвых. Ибо они видели стихию в её натуральном виде. Они на себе прочувствовали её вечные силу и мощь. Они знают что такое ужас. Они могут противостоять ему. Она их научила. Теперь они знают. И теперь они могут не только свой страх побеждать, но и помогать в том менее опытным. И в том знании ‒ суть. Иначе ‒ не выжить. Иначе ‒ потоп...

Так Ванька тосковал по нелюбимому морю, пытаясь тоску свою заливать то в шалманах дешёвых, то на кухнях богатых. Не брезгуя, при этом ни ментами, ни бомжами, ни всеми прочими. Ибо ещё в море любовь свою к ближайшим своим начал переносить и на дальних своих. Знакомых и незнакомых, морских и сухопутных, белых и красных. И теперь сказками своими пытаясь рассказывать им что такое стихия, и что та может творить с любым и каждым, кто попадёт под вал её.
И себя в их числе имея в виду. Поскольку уверен был, что та обязательно найдёт его и на земле.
Почему и спешил поделится с любым и каждым тем, что уже знал.
Но делился то чересчур тонко, так что слушатели не слышал сказанного, то чересчур неуклюже, вызывая лишь смех в ответ да присказку вечную: «Во дурака прёт!». Порождающие новый взрыв смеха. В котором Ванькин ‒ громче всех.
Уж лучше так, чем тишина в ответ.

- Два звонка было, ‒ говорил мне Ванька, - Жду третьего. А то, что с морем мне пришлось расстаться накануне очередного високосного потопа, позволяет мне предполагать, что кто-то весьма могущественный и дальнозоркий ну очень не хочет, чтобы мною питались рыбы. Видимо полагает, что я как-то иначе должен помереть.

Тут даже я терял весь свой не бедный милицейский словарный запас.
Ибо не найдя себя ни на военном флоте, ни в гражданском ОСВОДе я оказался в милиции. И ни абы в какой, а в лучшем в области уголовном розыске. Не суть что с одними из худших показателей раскрываемости. А Ванька час от часу навещал меня. И даже пытался помогать повышать процент раскрываемости. Ибо был уверен, что может раскрыть любое преступление, которое было или есть. И даже которое ещё будет.
На что я тоже не знал, что ответить.
А так и сидели некоторое время молча, курили каждый свою беломорину, смотрели кто-куда, да думая о своём.
Ванька разглядывал мои развешенные на стене трофеи, не дошедшие до следственных мероприятий и судебных тёрок: дюжину связок всевозможных отмычек, да на все случаи воровской жизни; несколько десятком финок, заточек и кастетов, да на все случаи бандитской жизни; плакатик с 51-й статьёй Конституции, да на все случаи взрослой двуликой жизни; ну и солдатский ремень в центре композиции, да на все случаи подростковой бакланской жизни.
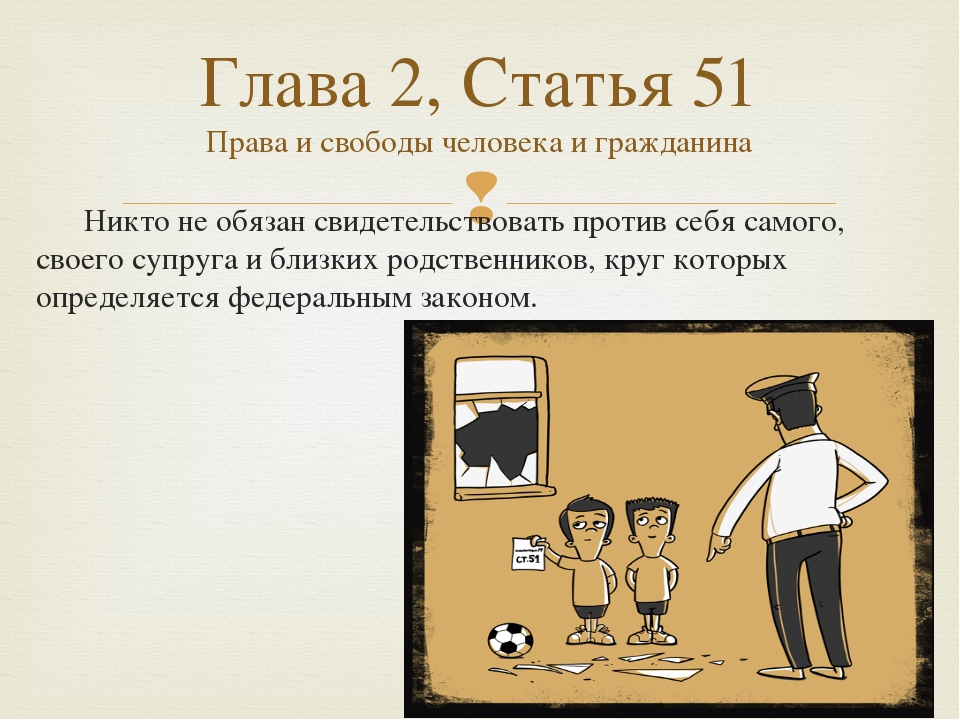
Я же глядел на Ваньку и думал одно и тоже: если зазвать его в наш лучший в области розыск, то отвратительные результаты нашей раскрываемости он нам, очевидно, значительно улучшит. Но тут есть один потенциально негативный момент: вместе и сопьёмся нафиг.
Хм...
После чего рассматривал немытое много лет окно. Затем ‒ стену, цвета бессмысленной славы генерала Понеделко. Затем ‒ сейф, ни на лист не пополненный макулатурой за отчётный месяц. Затем ‒ Переходящего Глухаря на нём...
Потом наши взгляды пересекались. Потом мы смеялись братским смехом, который как победа ‒ один на всех. Потом я говорил стандартное «Да пошли они...». После чего открывал свой несгораемый шкаф, кидал в него скрытную портупею, ксиву, ключи, печати, всё что было в карманах (а деньги там водились только в день получки). Затем доставал из него отложенную в получку заначку на бензин и дежурную бутылку водки, также купленную в получку и специально дежурившую там от Ванькиного до Ванькиного визита ко мне. После чего и отправлялись превышать 51-ю статью Конституции в ближайший пивняк. Где из дежурного пузыря и бензиновых денег, да под "Чёрного ворона", и начинали веселуху на два рабочих дня. Которые всегда нам были рады. Ибо все приходящие в кабак и уходящие из оного всегда оставались живы-здоровы, и даже приветливо здоровались опосля.

Потому-то Ванька и стал заезжать ко мне, повеселиться без последствий.
А без меня у него веселье получалось дырявым.
И дыры те час-от-часу становились всё больше и больше.
Если не очень понятно изложил, то можешь, Читатель, припомнить свою самую мерзкую пьянку и помножить её на сколько не жалко Ваньку. А потом и ещё добавить. И сверху. И поддых. Задней лапой. Два раза.
















Оценили 25 человек
47 кармы