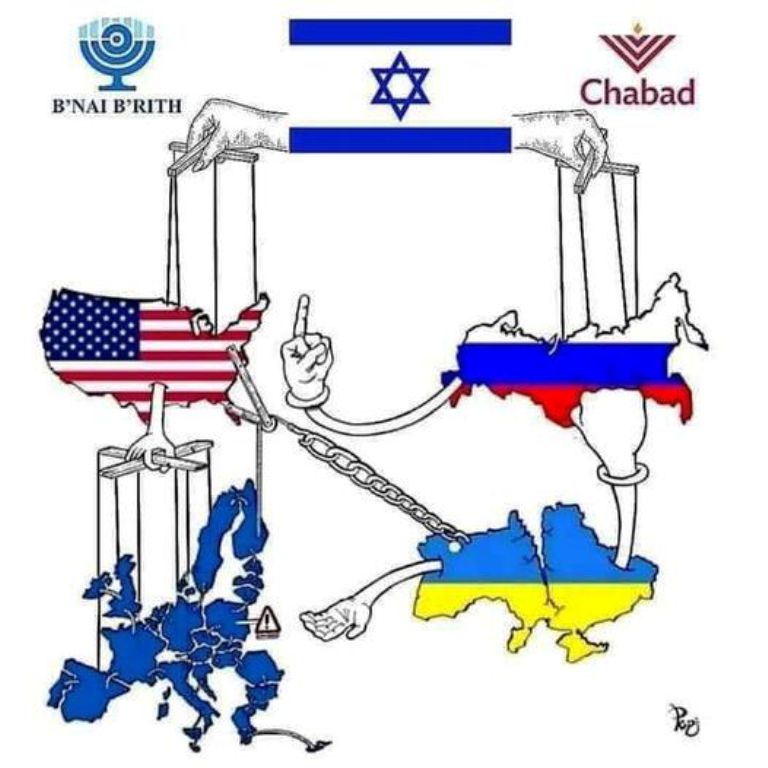
Аннотация. В статье анализируется социальное воздействие распада этнических институтов в языковой и религиозной сферах на процессы формирования новой этнической идентичности и субэтнических групп. По мнению автора, этничность представляет собой набор этноинститутов, которые отражают нормативные представления об идеальном поведении членов этногруппы. Этносообщество появляется, когда в реинтерпретации этнореальности возникает общественная договоренность по поводу институтов и неформализованных исключений.
Ключевые слова: этногенез, институциональный распад, этничность, институциональная трансмиссия, культура, этнический язык, этнические институты.

В социологии институтов «институциональный распад» редко концептуализируется. В существующих определениях доминирует негативная коннотация, которая обычно сводится к «...дезинтеграции институтов, не выполняющих задач, для которых они созданы, ослаблении механизмов формального и неформального контроля, неустойчивости критериев оценок, появлении образцов поведения, противоречащих образцам, признанным допустимыми» [1, с. 202].
Западные неоинституционалисты [2, с. 93–111] процессы институционального распада в условиях дихотомии «норма/исключение» называют «деинституционализацией». Она объясняется тем, что повседневность способствует энтропийному распаду устойчивых институциональных конфигураций.
Деинституционализация – это процессы ослабления, модификации, постепенного исчезновения и/или замены одних институтов другими. Выделяя три причины деинституционализации (функциональная, политическая и социальная) как изменения трех видов предпочтений социальных агентов [3, с. 563–588], неоинституционалисты подчеркивают, что деинституционализация – это нормальный социальный процесс [4, с. 726–743]. Он связан не только с осознанием, что существующие институциональные паттерны неэффективны, но и с развитием альтернативной институциональной логики и ростом количества людей, нарушающих нормы.
В общественном сознании существуют нормативные образцы, воспринимаемые как желательные, приемлемые или одобряемые бихевиоральные стратегии, аффективные стандарты и когнитивные репрезентации этноповедения. Одновременно существуют общепризнанные (хотя и не всегда проговариваемые) ожидания по поводу возможных ситуационных девиаций.
Этносубъекты не обязательно нарушают привычные институты, хотя возможность увеличивается по мере сравнения, оценки, обсуждения и/или ознакомления с новыми этноинституциональными практиками в качестве замены прежних этноинститутов. Если институциональные исключения закрепляются в общественном дискурсе, то для этносубъектов очевидным становится существование индивидов, которые сомневаются в привычных институтах, рассматривают новые институциональные возможности и конструируют институциональные исключения. Правила порождают исключения, а исключения по мере нормативной формализации становятся новыми правилами, и тогда девиантное поведение перестает восприниматься как девиантное. Девиантность подразумевает определенную «чужеродность» группы, выбирающей институциональные практики, отличающиеся от институтов титульного этноса или этнобольшинства.
Отношение к значимым историческим событиям, коррелируемое с этничностью, может восприниматься общественным сознанием как девиантное, когда на этнооснованиях политический режим дискриминирует отдельные этногруппы (например, русскоязычные в Латвии ограничены в 70 правах, включая запреты на профессии адвоката, нотариуса, полицейского, пожарника, спасателя, охранника и пр.). Согласно одному источнику, взгляды, лежащие в основе отношения прибалтийских чиновников к сообществу «поселенцев», суммируются фразой: «Дело совсем не в том, что нам нужно, чтобы вы знали язык, нужно, чтобы вы знали свое место» [5, с. 105].
Этнодискриминационные нормы появляются в результате распада общего института (к примеру, института «равенства всех перед законом») на исключения, в функциональном отношении направленные на редистрибуцию ресурсов (например, административные или государственные должности, которые можно «отобрать» у представителей других этногрупп).
В условиях этнодискриминации индивиды с маргинальной этничностью сталкиваются с необходимостью изменять территориальную преданность, принимать новую религию или даже овладевать неродным для них языком, чтобы получить возможность участвовать в общественной жизни этнически враждебного общества, которое может принимать законы, угрожающие им или блокирующие принятие нового законодательства, смягчающего уже существующие межэтнические напряжения.
В Соединенных Штатах, как и в Латинской Америке, в XVII–XIX вв. этногенез определялся этнодифференцирующим правилом: чтобы считаться афроамериканцем, достаточно «одной капли черной крови». По мнению А. Дэвиса [6, с. 31–32], функциональным смыслом подобного этнорасового института было рестриктирование возможных изменений в позициях «белого» большинства, исторической причиной возникновения – наличие женщин-мигрантов европейского происхождения как потенциальных сексуальных партнеров, а психологической основой – европоцентристские стереотипы о необходимости защиты белых женщин от колонизированных мужчин.
Институциональные запреты на «смешанную расу» наряду с экзистенциально существующим страхом белых американцев перед «черными», законодательным поощрением браков между белыми и четкими межрасовыми градациями между людьми с различными оттенками черной кожи привели к тому, что афроамериканцы с более «светлой» кожей чаще назначались на административные посты.
Оттенок кожи во многом определял социально-экономический, культурный, лингвистический (в частности, повседневного использования негритянского английского языка «эбоникса») и даже образовательный статус.
Социологические опросы [7, с. 112–120] показывают, что представления об идеальной “blackness” у жителей Детройта различаются. Примерно 32% черных жителей города предпочитают называть себя «афроамериканцами», 44% называют себя «черными», а 12% относятся к неопределившимся респондентам.
Некоторые этноинституты в США структурируются по линии этнорелигиозных разломов. Большая часть американцев – англосаксов принадлежит к среднему классу, с примерно одинаковым семейным годовым доходом и схожими профессиональными видами занятости. Их главным идентификационным критерием является принадлежность к определенной протестантской общине. У некоторых этноконфессиональных групп (например, у мормонов в Юте или амишей в Индиане) идентичность фиксируется в специальных книгах.
Доминирование общинных этнических идентичностей объясняет тот факт, что на вопрос «Каково Ваше этническое происхождение?» лишь 5% опрошенных отвечают «американец», остальные относят себя к одной из 215 этногрупп [8, с. 160–161].
У индусов и цыган институциональный распад происходит по линии этнопрофессиональной (этнокастовой или этноцеховой) направленности. Разные группы таборов цыган представляют собой профессиональные «специальности» [9]. Несмотря на условность этнопрофессионального деления, каждая группа считает «истинными цыганами» только себя, и даже браки между ними заключаются редко. Поскольку цыгане практически не интегрируются с другими этногруппами (хотя большая часть российских цыган проживает вокруг крупных городов), межнациональных браков у них немного.
Высокая степень локализации цыган, их низкая адаптированность и относительная замкнутость этноинститутов являются одной из причин современных конфликтов цыган с титульным населением Франции, Ирландии, Румынии, Великобритании и т.д.
При этнопрофессиональном структурировании экономически успешная этническая группа с восходящей мобильностью ее членов может адаптировать институты политически и культурно господствующей этногруппы к своим потребностям посредством санскритизации [10]. Санскритизация, когда культурно доминирующая группа открывает институциональные возможности для вступления в нее представителей других этногрупп, облегчает групповую мобильность даже в иерархической системе c «доминантной кастой».
У многих этногрупп институциональный распад происходит по конфессиональным критериям. К примеру, в XVIII – XX вв. важным фактором армянской этносамоидентификации была близость к Армянской апостольской церкви. Армяне идентифицировали себя с армянством в основном через религию, поэтому иногда происходила ассимиляция армянами других этногрупп. К примеру, некоторые крымские татары приняли армянскую веру [11, с. 268]. Субармянские идентичности структурировались на основе девиантной религиозной принадлежности. Как указывают этнографы, «между ними существовал довольно сильный антагонизм ... отсутствие гостеприимства, нелюбовь к чистоплотной жизни, весьма свободные отношения полов, полная раздробленность всех хозяйств – вот те черты, которыми григориане всегда отмечают армян-католиков...» [12, с. 43].
Для этногрупп – католиков (мшеци, велогузи, артвинцы и др.) использовались экзоэтнонимы «франки», «франги» или «фиренги». Иногда армянская идентичность использовалась как синоним для «христианской» идентификации (например, у армян-греков или цатов), а мусульманская принадлежность заменяла тюркскую («турецкую») идентичность.
На рубеже XIX–XX вв. произошла частичная смена с этноконфессионального на этнолингвистический институциональный паттерн. Как указывают этнографы [13, с. 167], в некоторых селениях им сообщали, что местные жители говорят на «христианском языке», и в зависимости от используемого языка они характеризовали как свою группу, так и другие сообщества.
Институциональные исключения распространяются в основном группами, проживающими физически и культурно в трансграничном социальном пространстве. Именно солдаты, использующие французский в годы Первой мировой войны и продолжающие говорить на нем, вернувшись на родину, повлияли на упадок бретонского языка [14] и снижение численности бретонцев.
Использование иного языкового паттерна осознается традиционными сообществами как отклонение от нормы владения родным языком или даже как грех – в религиозных терминах. К примеру, турки Артвинского региона, которые использовали «христианский» язык в общении с этнографами, понимали, что совершают недопустимый поступок, разговаривая на родном для себя «языке гяуров». «Лингвистическая конверсия» сопровождалась сменой идентичности и переходом из армянской среды в турецкое сообщество [15].
В XIX в. именно богатые и влиятельные слои населения (например, у понтийских греков или лазов) выражали неудовлетворение нативным языком. Оставаясь в семантическом пространстве «материнской» культуры и ее «морального мира», в процессе институционального распада субэтногруппы (наподобие армян – зоков, цатов или «армян – дервишей» тумбульцев) лингвистически отделяются от прежнего этноса, «принудительно–добровольно забывая родной язык» [16, с. 136].
Высокая степень языковой ассимиляции (так, примерно половина российских карел родным считает русский язык [17, с. 85]) сопровождается этноидентификационной мимикрией.
Сохраняя некоторые институты как пережитки обычаев, стереотипов, внутрициональных предпочтений, демографических паттернов, традиций «материнской» этнокультуры, этносубгруппы адаптируются среди чуждого им этнокультурного большинства или скрывают институты, которые оставляют четкий идентификационный след.
Так, социологические опросы среди русских жителей Таджикистана показали, что они четко осознают свою инаковость от русских, проживающих в России. Они формируют особую субкультуру, которая является девиантной как в России, так в Таджикистане [18]. По мнению ученых, этнические русские Центральной Азии «оказались достаточно восприимчивы к традициям и обычаям окружавших их народов». Они меньше пьют и гораздо гостеприимнее [19, с. 8].
Периферийные группы с двойственным и/или пограничным этносамосознанием стигматизуются, поскольку в общественном сознании этнобольшинства сохраняются негативные и пренебрежительные стереотипы их идентификационной связи с «материнской» этногруппой. Например, цыгане- армяне, проживающие в Армении, обладающие армянским самосознанием, армяно-григорианской верой, использующие армянский язык в повседневном общении и испытывающие патриотические чувства к государству, часто выражают недовольство, что их по-прежнему сравнивают с предками, занимавшимися каким-либо цыганским ремеслом [20]. Существует экзоним для потомков межэтнических браков «шуртувац гай» – «перевернутый армянин».
В России они практически не знают армянский язык, не следуют армянским обычаям, но могут носить армянские фамилии. Молодежь чаще всего владеет разговорной речью с усеченной лексической базой и не владеет письменностью [21, с. 42–43].
Стигматизированной группой являются и проживающие в российских городах зоки, поскольку остальные армяне сохраняют негативные социально-психологические представления об их еврейском происхождении.
Институциональный распад нормы, что «члены этногруппы должны говорить на этническом языке» в этнолингвосоциальных процессах связан с изобретением новых слов (посредством конструирования «раззолоченных» или «мертвых» языков), придание иных значений и семантических отношений между словами и объектами, а также особых грамматических средств (например, глаголов) для этнодифференцирующего маркирования.
Важность языковой нормы Э. Сепир [22, с. 21] охарактеризовал следующим образом: «“Он говорит как мы” равнозначно утверждению “Он один из наших”». По его мнению, «реальный мир» строится на языке как инструменте воспроизводства и выражения идей. Он придает им форму, является программой и ориентиром деятельности, поскольку люди выступают как участники подразумеваемого соглашения, которое кодифицируется в языковых паттернах.
Э. Сепир считал, что для сохранения коммуникационного единства этногруппе нужно полагаться на общий код, который является основным способом артикуляции в политической и культурной борьбе между группами, но который она почти не может контролировать.
Эта точка зрения была дополнена в 1970-е гг. социальными лингвистами, по мнению которых, лингворазличия влияют на границы между контактирующими группами.
«Язык коннотативен, а неденотативен, и функция его состоит в том, чтобы ориентировать ориентируемого в его собственной когнитивной области, а не в том, чтобы указывать ему на независимые от него сущности» [23, с. 213].
Лингвоэтническая дифференциация возрастает при увеличении территориального расстояния между этногруппами и ослаблении языковых связей. Этнолингворазличия являются источником реартикуляции, рерационализации и рекодификации бихевиоральных норм «идеального» этноповедения.
Они отражают особенности межэтнической коммуникации и повседневной практики. Различия между этнолингвоинститутами определяют жесткость этнограниц, очерчиванию которых способствуют институциональные интерпретации, реинтерпретации, дискурсивные практики и «языковые игры».
По мнению А. Стинчкомба [24, с. 1–18], институты невозможны без сильной моральной основы и внутренней обеспокоенности социальных агентов по поддержанию институциональных стандартов. Дискурсная власть «центральной личности» [25], за которой следуют остальные, состоит в определении, какой институт необходимо применить или сообщить о появлении, а какой отклонить и замалчивать. Новые институты создают новый образец и модель восприятия окружающего мира, других этногрупп и событий, которая обладает властью «миросоздания» и «мироразрушения» [26].
Использующие «старый» язык и прежние дискурсные интерпретации вынуждены осознать собственную иррациональность и чуждость. Они не просто выражают другое мнение, соглашаются или не соглашаются с общепринятым. Они не компетентны в глубоком смысле, поскольку не используют новый язык и не понимают новую «истину».
Подобную форму дискурсной власти социологи в традициях П. Бурдье называют «символическим насилием», которое осуществляет «коллективный интеллектуал» в контексте «референтного информационного влияния» [27, с. 776–793], минимизирующего воспринимаемые различия внутри группы и максимизирующего различия между этногруппами.
Этничность представляет собой набор этноинститутов, которые отражают нормативные представления об идеальном поведении членов этногруппы. Этноинституты указывают, что для них является допустимым и/или недопустимым. Различные институты провоцируют этноконфликты, которые вызываются фактом их «разности» и непохожести даже при отсутствии открытой враждебности этнических сторон.
Этноинституты можно представить как:
1. Институты границ (кто входит в состав этнической группы, кто потенциально может войти, а кто совершенно точно должен быть исключен). Институты границ отвечают за «фейс-контроль», который осуществляет этносообщество по отношению ко всем другим группам.
2. Институты сферы деятельности («допустимые» и «недопустимые» сферы этнической деятельности, часто воплощаемые в виде этнической экономики).
3. Процедурные институты (включая этнолингвоинституты, в особенности, коммуникационные правила использования того или иного языкового кода для общения между своими и между «своими» и «чужими»).
4. Информационные институты (правила информирования этносообщества о ключевых событиях и возможных когнитивных и эмоциональных реакциях на них).
Принятые в этнообщности дескриптивные и прескриптивные институты представляют механизм наследования с аккумулирующимися сложными бихевиоральными паттернами, которые с детства воспринимаются как важный жизненный код. Члены этногруппы в ходе социализации усваивают правила речи на определенном языке, употребления определенной пищи, пения определенных песен и пр.
Таким образом, этносообщество появляется, когда в реинтерпретации этнореальности возникает общественная договоренность по поводу институтов и неформализованных исключений. Этногенез завершается, когда институциональные различия между этногруппой и ее соседями в ожидаемом социализированном поведении становятся заметными для внешних наблюдателей. Этноидентичность кристаллизируется в социальных интеракциях в момент дедевиантизации в общественном сознании связанных с ней институциональных исключений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Щепальский Я. Элементарные понятия социологии. М: Прогресс, 1969.
2. Scott R. W. The adolescence of institutional theory // Administrative Science Quarterly, 1987. Р. 32.
3. Oliver C. The antecedents of deinstitutionalization // Organization Studies, 1992. 13 р.
4. Zucker L. G. The role of institutionalization in cultural persistence // American Sociological Review, 1977. 42 р.
5. Цит. по: Smith G., V. Law, A. Wilson, A. Bohr, E. Allworth. Nation-building in the Post-Soviet Borderlands: the Politics of National Identities. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
6. Davis A. Women, Race and Class. New York: Random House, 1981.
7. Moleli K. A. The Afrocentric Idea. Michigan: Temple University Press. 1987.
8. Чертина З. С. Этничность в США: теория «плавильный котел» // Американский ежегодник. М: Наука. 1994.
9. Eraser A. The Gypsies. London: Blackwell, 1992.
10. Srinivas M. N. Social Change in Modern India. Berkeley: University of California Press.
11. Волкова Н. Г. О расселении армян на Северо-Западном Кавказе до начала XX в. // ИФЖ. 1966. № 3.
12. Акимов В. Н. Свадебные обычаи ахалцихских армян // Этнографическое обозрение. 1989. №1.
13. Bryer A. Some Notes on the Laz and Tzan (II) // Bryer A. Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800– 1900. London: Variorum Reprints, 1988.
14. Kuter L. Breton Identity: Musical and Linguistic Expression in Brittany, France, Ph.D. Dissertation. Bloomington: Indiana University Press, 1981.
15. Bryer A. Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900. London: Variorum Reprints, 1988.
16. Ким Г. Об истории принудительно-добровольного забвения родного языка корейцами Казахстана // Диаспоры. 2003. №1.
17. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов // Южный федеральный округ. 2001. Август. №1.
18. Олимова С. Этнополитическая ситуация в Таджикистане и ее влияние на миграционное поведение // Центральная Азия. 1997. №6 (12).
19. Ротарь И. Другие русские // Независимая газета. 1993. 2 июня.
20. Восканян В. Индо-иранские этнические группы в Армении: армянские цыгане (боша) // Россия – Армения – Иран. Диалог цивилизаций: мат-лы международной научной конференции. Ереван: изд-во ЕГУ, 1999.
21. Армянские диаспоры Юга России: социологический портрет и проблемы идентичности: Научный отчет. Ростов-н/Дону: ЮРФИС РАН, 2010.
22. Сепир Э. Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 2001.
23. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М: Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 1996.
24. Ross M. R. Culture and Identity in Comparative Political Analysis // Comparative Politics, Rationality, Culture and Structure, ed. M. I. Lichbach and A. S. Zuckerman. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
25. Stinchcombe A. L. On the virtues of the old institutionalism // Annual Review of Sociology, 1997. 23 р.
26. Elwert G. Switching of We-Group Identities: The Alevis as a Case Among Many Others // Krisztina Kehl-Bodrogi et al.(eds.), Syncretistic Religious Communities in the Near East. Leiden: Brill, 1997.
27. Terry D. J. and Hogg M. A. Group norms and the attitude-behavior relationship: A role for group identification // Journal of Personality and Social Psychology. 1996. 22 р.
Южнороссийский филиал Института социологии РАН (ЮРФИС РАН)
Россия, 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160.
Тел/факс: +7 (863) 264 34 66. Е-mail: barbm@yandex.ru
Поступила в редакцию 26.03.2012 г.
https://www.academia.edu/25051666/

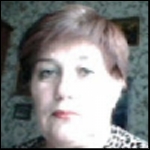



Оценили 0 человек
0 кармы