14 мая 2025 года

Оглавление
Предпосылки
Революция
Казачество
Продолжение. Начало:
Раскол. Эпизод 1. Соляной бунт,
Раскол. Эпизод 2. Степан Разин,
Раскол. Эпизод 3. Патриарх Никон,
Раскол. Эпизод 4. Низкопоклонство,
Раскол. Эпизод 5. Крепостное право.
Внимание, в тексте статьи содержится текст, не предназначенный для детей младше 18 лет!

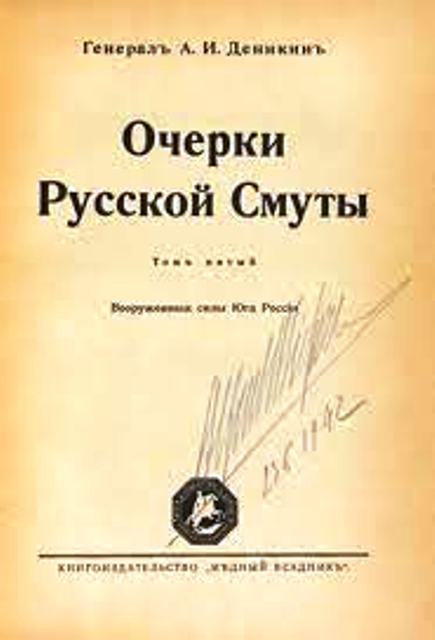
Отметим, что весь этот эпизод написан на основании «Очерков Русской Смуты», автором которых является Антон Иванович Деникин.

Антон Иванович Деникин
4(16) декабря 1872г. - 7 августа 1947г.
Это был выдающийся русский офицер. Один из лидеров "белого" движения, который оставил после себя гигантское литературное наследие, с точки зрения описания этого страшного периода нашей истории. И поэтому практически за исключением выводов, это всё его прямая речь, прямое цитирование из пятитомника «Очерки Русской Смуты».
Предпосылки
Эпилог мировой войны вызвал глубокие сдвиги в ходе русской смуты. Падение центральных держав, неизбежное, намечавшееся давно уже целым рядом зловещих признаков, явилось всё же неожиданным по своей стремительности и катастрофическим размерам. Но только реальные последствия его, и сама грандиозность события ошеломили и победителей, и побеждённых, и тех, что стояли уже за сценой мировой трагедии, но были ещё связаны прочными цепями с одной из сторон. В ближайшие месяцы после окончания войны мы станем, поэтому, свидетелями крайней неустойчивости и непонятных на первый взгляд противоречий в политике держав-победительниц. Мы увидим также, что все те скрепы, которые в 1914 году искусственно связали мир в два взаимно враждебных лагеря, начинают понемногу рушиться, и пути народов расходятся вновь. Что, наконец, в нравственный облик человечества конец борьбы не внёс умиротворяющего начала, но углубил ещё более последствия войны и революций: безбрежную ненависть, разлившуюся по всему свету, и бездонный эгоизм – государственный, классовый и личный.
Изменились «театры», средства и способы, но сама борьба не стихла.
<…>
Между тем, уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на 1/10, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий Юго-западным фронтом телеграфировал в Ставку: «источники пополнения боевых припасов иссякли совершенно. При отсутствии пополнения придётся прекратить бой и выводить войска в самых тяжёлых условиях»…
А в то же время (конец сентября) на вопрос Жофра: «Достаточно ли снабжена российская императорская армия артиллерийским снаряжением для беспрепятственного продолжения военных действий», военный министр Сухомлинов отвечал: «Настоящее положение вещей относительно снаряжения российской армии не внушает серьёзного опасения»… Иностранных заказов не делалось; от японских и американских ружей, «для избежания неудобств от разнообразия калибров», отказывались.
Когда в августе 1917 года на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы, личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьёзнее, болезненнее встал вопрос, как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может, сознательно преступный человек мог продержаться у кормила власти 6 лет. Какая среда военной бюрократии – «к добру и злу постыдно равнодушная» – должна была окружать его, чтобы сделать возможным и действия, и бездействия, шедшие неуклонно и методично ко вреду государства.
Катастрофа разразилась окончательно в 1915 году.
<…>
Каков народ, такова и армия. И, как бы то ни было, старая русская армия, страдая пороками русского народа, вместе с тем в своей преобладающей массе обладала его достоинствами и прежде всего необычайным долготерпением в перенесении ужасов войны; дралась безропотно почти 3 года; часто шла с голыми руками против убийственной высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотвержение; и своей обильной кровью искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои.
<…>
В телеграмме царю членов государственного совета в ночь на 28 февраля положение определялось следующим образом:
«Вследствие полного расстройства транспорта и отсутствия подвоза необходимых материалов, остановились заводы и фабрики. Вынужденная безработица и крайнее обострение продовольственного кризиса, вызванного тем же расстройством транспорта, довели народные массы до полного отчаяния».
Революция
Находившая благоприятную почву в общих условиях жизни страны подготовка к революции прямо или косвенно велась давно. В ней приняли участие самые разнородные элементы: германское правительство, не жалевшее средств на социалистическую и пораженческую пропаганду в России, в особенности среди петроградских рабочих; социалистические партии, организовавшие свои ячейки среди рабочих и воинских частей; несомненно и протопоповское министерство, как говорили, провоцировавшее уличное выступление, чтобы вооруженной силой подавить его и тем разрядить невыносимо сгущенную атмосферу. Как будто все силы – по диаметрально противоположным побуждениям, разными путями, различными средствами шли к одной конечной цели…
<…>
Командный состав многих частей растерялся, не решил сразу основной линии своего поведения, и эта двойственность послужила отчасти причиной устранения его влияния и власти.
Войска вышли на улицу без офицеров, слились с толпой и восприняли её психологию.
Вооруженная толпа, возбуждённая до последней степени, опьяненная свободой, подогреваемая уличными ораторами, текла по улицам, сметая баррикады, присоединяя к себе всё новые толпы ещё колебавшихся…
Беспощадно избивались полицейские отряды. Встречавшихся офицеров обезоруживали, иногда убивали. Вооружённый народ овладел арсеналом, Петропавловской крепостью, Крестами (тюрьма)…
В этот решительный день вождей не было, была одна стихия. В её грозном течении не виделось тогда ни цели, ни плана, ни лозунгов. Единственным общим выражением настроения был клич: – Да здравствует свобода!
<…>
Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его [Распутина] считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединенное дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты.
<…>
Неудивительно поэтому, что Москва и провинция присоединились почти без борьбы к перевороту. Вне Петрограда, где за многими исключениями не было той жути от кровавых столкновений и бесчинства опьянелой толпы, переворот был встречен ещё с бо́льшим удовлетворением, даже ликованием. И не только революционной демократией, но и просто демократией, буржуазией и служилым элементом. Небывалое оживление, тысячные толпы народа, возбуждённые лица, возбуждённые речи, радость освобождения от висевшего над всеми тяжёлого маразма, светлые надежды на будущее России и, наконец, повисшее в воздухе, воспроизводимое в речи, в начертаниях, в образах, музыке, пении, волнующее – тогда ещё не забрызганное пошлостью, грязью и кровью – слово:
– Свобода!
<…>
Великая некогда русская армия первого периода революции представляется мне в следующем виде:
Родины не стало. Вождя распяли. На его место перед фронтом вышла коллегия из пяти оборонцев и трёх большевиков, – и обратилась с призывом к армии:
- Вперёд на бой за свободу и революцию, но... без окончательного разгрома противника! – говорили одни.
- Долой войну, вся власть пролетариату! – кричали другие.
Армия слушала, слушала, потопталась на месте и... разошлась.
<…>
Русская революция открыла необъятные перспективы для немецкой пропаганды. Наряду с чистыми людьми, гонимыми некогда и боровшимися за народное благо, в Россию хлынула и вся та революционная плесень, которая впитала в себя элементы "охранки", интернационального шпионажа и бунта.
<…>
Потом "расплавленная стихия" вышла из берегов окончательно. Офицеров убивали, жгли, топили, разрывали, медленно с невыразимой жестокостью молотками пробивали им головы.
Потом – миллионы дезертиров. Как лавина, двигалась солдатская масса по железным, водным, грунтовым путям, топча, ломая, разрушая последние нервы бедной бездорожной Руси.
<…> Как смерч пронеслись грабежи, убийства, насилия, пожары по Галиции, Волынской, Подольской и другим губерниям, оставляя за собой повсюду кровавый след+ и вызывая у обезумевших от горя, слабых духом русских людей чудовищную мысль:
- Господи, хоть бы немцы поскорее пришли...
Это сделал солдат.
<…>
Революция была неизбежна, её называют всенародной. Это определение правильно лишь в том, что революция явилась результатом недовольства старой властью, – решительно всех слоёв населения. Но в вопросе о формах её и достижениях, между ними не было никакого единомыслия, и глубокие трещины должны были появиться с первого же дня после падения старой власти.
<…>
Тем временем в стране шла борьба, принявшая наиболее реальные формы в трёх её проявлениях: в центробежном стремлении окраин, в противодействии местных самоуправлений и в сопротивлении и саботаже со стороны городской демократии.
Казачество
Своеобразную роль в истории смуты играет казачество. Слагавшиеся исторически, в течение нескольких веков, взаимоотношения казачества с центральной общерусской властью, носили характер двойственный. Власть всемерно поощряла развитие казачьей колонизации на беспокойных рубежах русской земли, где шла непрерывная война, охотно мирясь с особенностями их военно-земледельческого быта, и допуская большую или меньшую независимость и самобытные формы народоправства; с представительными органами (кош, круг, рада...), выборной "войсковой старшиной" и атаманами.
"Государство при слабости своей, – говорит Соловьёв, – смотрело не так строго на действия казаков, если они обращались только против чужих стран; при слабости государства, считалось нужным давать выход этим беспокойным силам". Но "действия" казаков обращались не раз и против Москвы, и это обстоятельство вызвало затяжную внутреннюю борьбу, которая длилась до конца 18 века, когда, после жестокого усмирения Пугачёвского бунта, вольному юго-восточному казачеству был нанесён окончательный удар; оно мало-помалу утрачивает свой резко оппозиционный характер и приобретает даже репутацию наиболее консервативного, государственного элемента, опоры престола и режима.
С тех пор власть непрестанно демонстрировала своё расположение к казачеству, – и подчёркиванием действительно больших заслуг его, и торжественными обещаниями сохранения "казачьих вольностей", и почётными назначениями по казачьим войскам лиц императорской фамилии. Вместе с тем, власть принимала все меры, чтобы "вольности" эти не развивались чрезмерно, в ущерб той беспощадной централизации, которая составляла историческую необходимость, – в начале построения русской государственности, – и огромную историческую ошибку, в её позднейшем развитии. К числу таких мер надлежит отнести ограничение казачьего самоуправления, и в последнее время традиционное назначение атаманами лиц неказачьего сословия, зачастую совершенно чуждых казачьему быту. Старейшее и наибольшее численно Донское войско возглавлялось не раз генералами немецкого происхождения.
<…>
[Хотя следует отметить] Казачество, в противовес всем прочим составным частям армии, не знало дезертирства.
Когда началась революция, все политические группировки обратили большое внимание на казачество – одни возлагая на него преувеличенные надежды, другие – относясь к нему с нескрываемой подозрительностью.
<…>
В казачьих областях, между тем, шла кипучая работа в сфере самоопределения и самоуправления; печать приносила сведения неясные, сбивчивые; никто ещё не слышал голоса всего казачества. Понятно поэтому то всеобщее внимание, которое сосредоточено было на собравшемся в начале июня в Петрограде Всероссийском казачьем съезде.

<…>
Съезд единодушно сказал:
Россия должна быть неделимой демократической республикой, с широким местным самоуправлением.
Всемерная поддержка Временному правительству, но обращается его внимание на необходимость борьбы против анархистов, большевиков и интернационалистов, и на принятие решительных мер против их пропаганды.
Неприкосновенность казачьего уклада. Но после войны – несение службы на общих основаниях.
Оставление в неотъемлемую и неприкосновенную собственность каждого казачьего войска, его земель и угодий со всеми недрами.
<…>
С возвращением казачьих войск в родные края, наступило полное разочарование: они – по крайней мере донцы, кубанцы и терцы – принесли с собой с фронта самый подлинный большевизм, чуждый, конечно, какой-либо идеологии, но со всеми знакомыми нам явлениями полного разложения. Это разложение назревало постепенно, проявлялось позже, но сразу ознаменовавшись отрицанием авторитета "стариков", отрицанием всякой власти, бунтом, насилиями, преследованием и выдачей офицеров, а главное – полным отказом от всякой борьбы с советской властью, обманно обещавшей неприкосновенность казачьих прав и уклада. Большевизм и казачий уклад –такие нелепые противоречия выдвигала ежедневно русская действительность, на почве пьяного угара, в который выродилась желанная свобода.
Началась трагедия казачьей жизни и казачьей семьи, где выросла непреодолимая стена между "стариками" и "фронтовиками", разрушая жизнь и подымая детей против своих отцов.
Распад
[По итогам первого периода революции] Объявили о своём суверенитете Финляндия и Украина, об автономии – Эстония, Крым, Бессарабия, казачьи области, Закавказье, Сибирь…
<…> распад центральной власти вызвал временную балканизацию русского государства по признакам национальным, территориальным, историческим, псевдоисторическим, подчас совершенно случайным, обусловленным местным соотношением сил.
Наиболее серьёзное значение в этом пёстром калейдоскопе новообразований, более или менее склонных сопротивляться распространению власти народных комиссаров, приобрели первое время Украина и Юго-восток России.
Жестокость
<…> четыре года войны и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны. Было бы лицемерием со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. Социальная терпимость и инстинкт классовой розни.
<…>
Гражданская война довершила тот психологический процесс, который только наметила война на фронте.
<…>
Приводимое ниже описание судьбы евпаторийской буржуазии и преимущественно офицерства весьма характерно для «методов социальной борьбы» и психологии матросской черни, заполнившей своим садизмом самые страшные страницы русской революции.
«После краткого опроса в заседании комитета, арестованных перевозили в трюм транспорта «Трувор».
За три дня их было доставлено свыше 800 человек. Пищи арестованные не получали, издевательства словесные чередовались с оскорблением действием, которое переходило в жестокие, до потери жертвами сознания, побои. На смертную казнь ушло более 300 лиц, виновных лишь в том, что одни носили офицерские погоны, другие – не изорванное платье. Обречённых перевозили в трюм гидро-крейсера «Румыния»… Смертника вызывали к люку. Вызванный выходил наверх и должен был идти через всю палубу на лобное место мимо матросов, которые наперерыв стаскивали с несчастного одежду, сопровождая раздевание остротами, ругательствами и побоями. На лобном месте матросы, подбодряемые Антониною Немич, опрокидывали приведенного на пол, связывали ноги, скручивали руки и медленно отрезывали уши, нос, губы, половой орган, отрубали руки… И только тогда, истекавшего кровью, испускавшего от нечеловеческих страданий далеко разносившиеся, душу надрывающие крики – русского офицера отдавали красные палачи волнам Черного моря».
<…>
Огромную роль в утверждении коммунистической власти‚ в особенности вначале‚ играли отряды наёмников – латышей‚ китайцев‚ пленных венгров и немцев...
<…>
Полное непонимание совершающихся событий, презрение к стране и народу, холодная страшная жестокость и садизм и, вместе с тем, тревожное чувство обреченности и грядущего возмездия делали этот элемент чрезвычайно удобным, слепым и покорным орудием в руках советской власти.
<…>
Эти отряды составляли личную охрану советских самодержцев, комплектовали кадры палачей в ЧК и в армии, участвовали во всевозможных карательных экспедициях, усмиряли крестьянские восстания, истребляли интеллигенцию и „белых“, подогревали с тыла пулемётами дух красных воинов и расправлялись с непокорными честолюбцами, появлявшимися время от времени среди красного командования»

<…>
Наконец, эти могилы мёртвых и живых – каторжная тюрьма, чрезвычайка и концентрационный лагерь, где в невыносимых мучениях гибли тысячи жертв, где люди-звери – Саенко, Бондаренко, Иванович и многие другие – били, пытали, убивали и так называемых «врагов народа», и самый неподдельный, безвинный «народ»!

Саенко Стапан Афанасьевич - украинский революционер, деятель советских органов государственной безопасности. Комендант концлагеря Харьковской ЧК по адресу Чайковская 16. Активный проводник "красного террора"
«Сегодня расстрелял восемьдесят пять человек. Как жить приятно и легко!..» Такими внутренними эмоциями своими делился с очередной партией обречённых жертв знаменитый садист Саенко. По ремеслу столяр, потом последовательно городовой, военный дезертир, милиционер и, наконец, почётный палач советского застенка.
Ему вторил другой палач – беглый каторжник Иванович: «Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло – научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил – сердце каменным стало».
В руки подобных людей была отдана судьба населения большого культурного университетского города.
<…>
Речь идёт о положении при большевиках харьковского района, важнейшего театра наших военных действий, на котором развёртывались операции Добровольческой армии.
<…>
На русском «погосте» ещё не смолкли «плач и рыдания» у свежих могил, у гекатомб, воздвигнутых кровавой работой Лациса, Петерса, Кедрова, Саенко и других, в проклятой памяти чрезвычайках, «подвалах», «оврагах», «кораблях смерти» Царицына, Харькова, Полтавы, Киева… Различны были способы мучений и истребления русских людей, но неизменной оставалась система террора, проповедуемая открыто с торжествующей наглостью. На Кавказе чекисты рубили людей тупыми шашками над вырытой приговоренными к смерти могилою; в Царицыне удушали в темном, смрадном трюме баржи, где обычно до 800 человек по несколько месяцев жили, спали, ели и тут же… испражнялись… В Харькове специализировались в скальпировании и снимании «перчаток». Повсюду избивали до полусмерти, иногда хоронили заживо. Сколько жертв унёс большевистский террор, мы не узнаем никогда.

<…>
«Белый» террор – явление иного порядка. Это прежде всего эксцессы на почве разнузданности власти и мести. Где и когда в актах правительственной политики и даже в публицистике этого лагеря вы найдёте теоретическое обоснование террора, как системы власти? Где и когда звучали голоса с призывом к систематическим, официальным убийствам? Где и когда это было в правительстве генерала Деникина, адмирала Колчака или барона Врангеля?..
Нет, слабость власти, эксцессы, даже классовая месть и… апофеоз террора – явления разных порядков» (Мельгунов С. П. «Красный террор в России»).
<…>
Эта своеобразная «интервенция», применённая народными комиссарами, своими кровавыми образами запечатлелась надолго в памяти русского народа.
<…>
Великие потрясения не проходят без поражения морального облика народа. Русская Смута, наряду с примерами высокого самопожертвования, всколыхнула ещё в большей степени всю грязную накипь, все низменные стороны, таившиеся в глубинах человеческой души.
Офицеры
Офицерство, между тем, стояло на распутье. Целый ряд старших генералов, в первые же месяцы поступивших на службу к большевикам, своим примером давали оправдание малодушным или заблудившимся. Эти люди создавали теории о народе, "имеющем такое правительство, какое он желает", и о "моральной допустимости служения народу при всяком правительстве"... "Они – слепые или сознательные слуги деспотии" – говорили о служении народу...
В Москве, Петрограде и Киеве Правый центр звал офицеров для спасения монархии – прежде всего монархии – и Родины в свою организацию, покровительствуемую теми, кого офицерство считало заклятыми врагами России – немцами; савинковский Союз – в свои отряды "для защиты Родины и свободы" – свободы, олицетворяемой идеалами Савинкова; Союз возрождения – в свои московские и местные организации для спасения революции и страны; Заволжские социал-революционеры – для защиты Учредительного собрания...
В Киеве гетман собирал офицерство под жёлто-голубым знаменем для защиты Украины; Шульгин звал за Волгу, в Архангельск, в Сибирь и в Добровольческую армию – для спасения династии и России, судьбы которой всецело и безраздельно отождествлялись с судьбами династии. В то же время старший генералитет, возглавляемый Веселовским и князем Долгоруковым, найдя спокойный приют в оккупационной зоне генерал-фельдмаршала Эйхгорна, взывал к обществу, приглашая его "поддержать, помочь офицерам пережить невзгоды революционного времени и оберечь офицеров, жаждущих подвига на благо Родины, от втягивания их... во всевозможные авантюры под ложными лозунгами спасения отечества". Рекомендовалось, впрочем, "быть в полной готовности", ввиду "скорого воссоздания неделимой России... под скипетром законного монарха... силами самого русского народа" ... Формула, принятая впоследствии создателями "новой тактики", имеет, как оказывается, старое и довольно неожиданное происхождение...
Среди всех этих расходящихся путей к спасению страны – русское офицерство вконец заблудилось.
<…>
[А в советской армии] главную массу по-прежнему составляло крестьянство, – инертное и невоинственное.
<…>
Добровольческая армия, свершая свой крестный путь, желает опираться на все государственно-мыслящие круги населения. Она не может стать орудием какой-либо политической партии или общественной организации. Тогда она не была бы Русской Государственной Армией. Отсюда – неудовольствие нетерпимых и политическая борьба вокруг имени армии. Но если в рядах армии живут определённые традиции, она не станет никогда палачом чужой мысли и совести. Она прямо и честно говорит: будьте вы правыми, будьте вы левыми – но любите нашу истерзанную Родину и помогите нам спасти её.
Точно так же, обрушиваясь всей силой своей против растлителей народной души и расхитителей народного достояния, Добровольческая армия чужда социальной и классовой борьбы. В той тяжкой болезненной обстановке, в которой мы живём, когда от России остались лишь лоскутья, не время решать социальные проблемы. И не могут части русской державы строить русскую жизнь каждая по-своему.
<…>
Обоснование этой идеи было до крайности простым и ясным и казалось неопровержимым. Ещё до большевистского переворота, в сентябре 1917 года оно нашло, между прочим, такое согласное определение в двух органах – радикальной и либеральной мысли:
Газета «День» писала: «Спор программ сейчас напоминает о метафизической сущности… Перед всей страной ныне стоит одна платформа – национального бедствия… Пусть завтра у власти станет любой герой большевистского райка, он должен будет, как и его “империалистический” предшественник, озаботиться ликвидацией ташкентского мятежа, выкачиванием хлеба из деревни, изобретением нового способа печатания денег. Прекрасные слова, широковещательные лозунги, святость канона – всё это блекнет перед неумолимой прозой – такой простой и такой зловещей. И в этой прозе – ключи, размыкающие конфликт программ, в ней, и только в ней одной – отправной пункт соглашения тех общественных групп, которые должны образовать коалиционную власть».
Перепечатывая эти строки, «Речь» говорила: «Поистине, золотые слова… Справиться с национальными бедствиями, сохранить единство России – вот вся программа. Если бы её удалось осуществить – это была бы величайшая заслуга перед Родиной и перед революцией, которая только этим путём и может быть спасена».
Теория разошлась с практикой.
Итоги
Мы не учли элемента времени и степени напора народной стихии.
<…>
Правители стремились к «неумолимой прозе», народ хотел ещё «поэзии» демагогических лозунгов. Правители желали приостановить временно течение жизни в создавшихся берегах, покуда некая высшая власть не расчистит новое русло, а жизнь бурно рвалась из берегов, разрушая плотины и сметая гребцов и кормчих.
<…>
Страшно тяжёл этот путь. Словно плуг по дикой, поросшей чертополохом целине, национальная идея проводит глубокие борозды по русскому полю, где всё разрушено, всё загажено, где со всех сторон встают как будто непреодолимые препятствия.
Но будет вспахано поле, если …
Я скажу словами любимого писателя. Давно читал. Передам, быть может, не дословно, но верно.
„Бывают минуты, когда наша пошехонская старина приводит меня в изумление. Но такой минуты, когда бы сердце моё перестало болеть по ней, я положительно не запомню. Бедная эта страна, её любить надо“.
Вот в этой-то чистой любви нашей к Родине – залог её спасения и величия».
Главные выводы из рассказа Деникина:
1. Гражданская война обозначила полный раскол внутри общества.
2. Обеим сторонам в итоге пришлось искать и находить новые смыслы жизни. Целое раскололось и попало в зависимость к тем силам, которые стали задавать дальнейшие течения мировым процессам.
3. В мир вошёл Хаос с кровавыми последствиями, которые до сих пор запускаются по одинаковым сценариям.
4. Деградация общества и уничтожение духовных ценностей стали целью и итогом данного раскола.
5. Под всем этим не видно, что человечеству закрылся доступ к временным пространствам, которые обладают огромной энергией, ресурсом, а это всегда было опорой человечества.
6. Победила власть нелюдей, жестокость, насилие, их методы.
7. Система мирового управления подобрала под себя все источники энергии. На этом она и сохраняется до сих пор.
Смотрите видео РАСКОЛ. ЭПИЗОД 6. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА на сайте Сорадение.
https://dzen.ru/a/aCNxq6rCZmsVB-u4

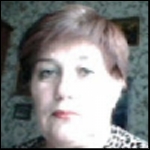
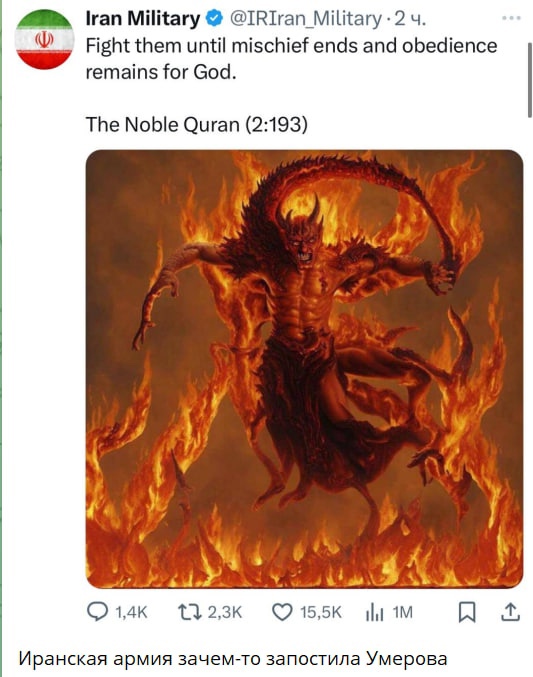

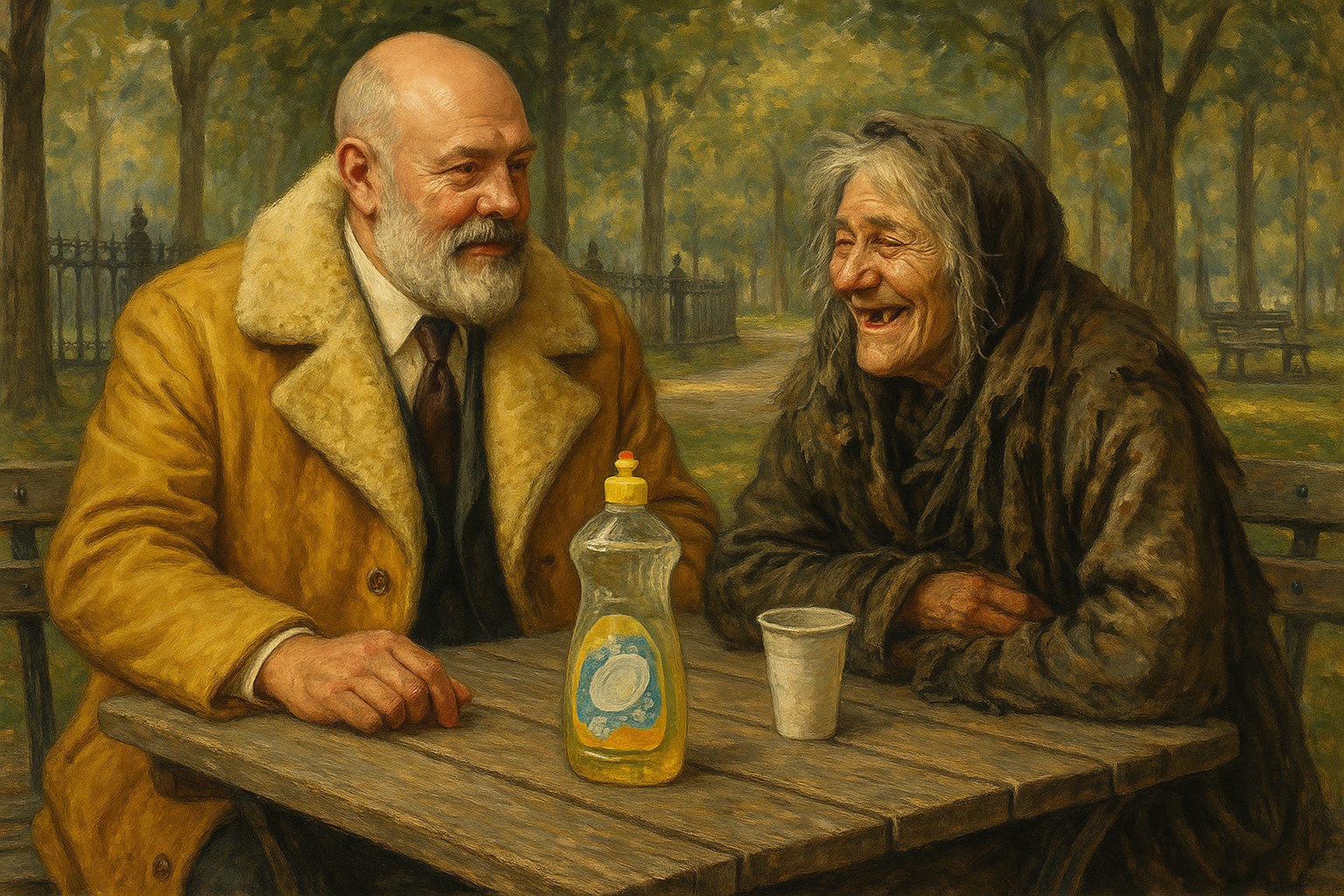
Оценили 0 человек
0 кармы