
Она очень устала. Иногда ей даже не хотелось открывать глаза, чтобы на неё не навалился новый мучительно-серый день. Если у тебя всё болит, значит ты ещё жива, так ведь? Она хмыкала, это был смех — сардонический, уточняла она самой себе.
— О чём ты думаешь, доченька?
Это мама, из той давней дали, когда солнце было горячее и весёлое, а в небе высоко-высоко паслись пушистые белые барашки.
— Я вырасту и буду небесной пастушкой!
Она представляла, как бежит по долам и взгорьям синих туч и как ей весело там, где никогда не достанут мамины поучения и одёргивания, как она свободна ото всех и гордо одинока… Вот теперь она гордо одинока и вольна делать что хочет. Только она уже ничего не хочет. Беззаботное веселье осталось позади, там, в холодной дымке ленинградских туманов, в старинном большом доме, вместе с мамой, папой и сестрёнкой, мамиными нравоучениями и поздними, под утро, приходами папы, которые всегда были как праздник. Маме хотелось, чтобы дочь выросла воспитанной барышней, «кисейной», как смеялся папа, но самой ей хотелось бегать сорванцом и гонять вместе с мальчишками во дворе. Мама сердилась, отчитывала её колкими словами, которые ей, сегодняшней, уже вовсе не казались обидными и невыносимыми, а наоборот, как оказалось, были самым настоящим счастьем. Тёплым и единственно нужным счастьем, но каким хрупким!
Мир перевернулся в одну минуту: всё на свете накрыла беспросветная, воющая сиренами тьма. Она шарила по небу пальцами прожекторов, закладывала уши взрывами. А позади корячился и глумливо приплясывал холод — убийца и садист. А потом надо всем взошёл сводящий с ума голод. Она тёрла виски, силясь вспоминать дальше… провал в памяти. Да, поезда, чужие люди, тоска такая, что казалось, её сердечко всё вытечет слезами на заплёванный пол теплушки, опять чужие люди, злые безразличные слова, детский дом, опять холод, учёба в нетопленном классе, когда сидели в пальто и негнущиеся пальцы отказывались выводить пёрышком строчки ровных и красивых букв, таких, как мама учила… мама… и где-то посерёдке, под рёбрами встрепенулся волчонок, который всегда теперь жил внутри неё и то грыз внутренности, то невыносимо выл. На этот раз она решила, что — хватит! Всему есть предел! Встала и твёрдым шагом направилась к выходу.
— Ты куда?
— Я пойду домой к маме, она ждёт, я больше не могу тут быть.
Учительница окаменела от силы слов и величия прозвучавшего в них детского невыносимого горя. Метнувшись к двери, учительница схватила в охапку и судорожно прижала тощенькое тельце к себе. Девочка сперва яростно отбивалась, потом как бы пригрелась и замерла.
— Ты подожди, ты постой, ну потерпи ещё немного, всё образуется, наладится... — так лепетала учительница, вчера получившая похоронку на единственного своего сына.
Бессвязные слова падали горячим лихорадочным утешением, но в них она тогда услышала приговор — нет ни мамы, ни дома, ни прошлого детства, нет и больше никогда не будет. Она теперь одна. Навсегда одна. И ей придётся справляться самой. Как за последнюю соломинку она ухватилась за учительницу, и они обе заплакали. Класс сочувственно молчал.
…Прошла жизнь, ни семьи, ни детей в ней не случилось, помнилась только бесконечная работа. Она сама выбрала путь и долго-предолго летела, шагала и брела по нему: учила и воспитывала чужих детей в память о том мгновении, когда ей самой милосердно не дали сойти с ума от отчаянной тоски. И в нынешнем своём бедственном положении она старалась дать понять судьбе, что не опустила руки.
Старый покосившийся дом, ему, наверное, лет пятьсот, такая сырость, затхлость и скрипучие тени живут в нём, такие маленькие слепые оконца, их не мыли со времён царя Гороха, пахнущая прошлым тяжёлая дверь. А за дверью — вот оно, главное в жизни — разливается юное солнце! Она теперь существует, чтобы, облокотившись на стену, просто сидеть на лавчонке, ровеснице дому, чтобы в том же самом небе плавно паслись те же белые барашки, чтобы сидеть и мечтать… о прошлом. Настоящее зыбкими силуэтами проскальзывало мимо, не задевая ничуть, а она сидела возле двери, подняв лицо к солнцу, чтобы тёплые лучи ласково разгладили горькие морщины, чтобы хоть кто-нибудь был к ней ласков. Она улыбалась, а из-под смежённых век тихонько текли слёзы. Солнечное сияние резало глаза?

Каждый раз, возвращаясь домой после школы, дети видели настоящую Бабу Ягу, будто выскочившую из книги сказок. Баба Яга жила в двухэтажном, до ужаса старом доме на углу улочки, круто спускавшейся вниз, вниз, прямо до реки, спрятанной в старинном дореволюционном парке. Кирпичный цоколь дома врос в землю почти до середины подслеповатых окошек, а под высокой остроконечной крышей, где, конечно посредине пылилось чердачное окно, кривился и сверкал стеклами надстроенный в прошлом веке тёмно-коричневый деревянный этаж.
Баба Яга, закутавшись в старый, ранее бежевый, плащ, всегда сидела на крохотной низенькой лавочке у старинной резной и облупившейся двери. Закрыв глаза, Баба Яга как бы скалила редкие жёлтые зубы в странной полу улыбке, которая морщила и без того скомканное лицо, напоминающее смятую старую тряпку. Самое страшное на этом лице был нос — огромный и крючковатый, украшенный бородавкой, такой, какой подобает иметь всякой уважающей себя Бабе Яге. Более уродливой старухи и представить было невозможно! Куча тряпья и огромное изжёлта-бледное лицо. Пугали и её изломанные шишковатые руки — лапы, которыми она держалась за лавку, как старая ворона держится за сучок. Одно отличало живую Бабу Ягу от нарисованной — эта была не в платке, а всегда в вязаном берете, несколько наискось надвинутом на густую седую бровь.
Дети помладше откровенно боялись её, молчаливо сидящую у приоткрытой старой двери. Они обязательно делали крюк, переходили на противоположную сторону, чтобы Баба Яга вдруг не выкинула вперёд костлявую руку, не сцапала, не затащила их в своё жуткое логово. Мальчишки постарше дразнили, но тоже довольно робко и уже отойдя на хорошее расстояние. На их выкрики Баба Яга никогда не реагировала, поэтому они особо и не старались. Девочки-старшеклассницы стыдились переходить на другую сторону, не малыши же, однако пробегали мимо на повышенной скорости, притворно болтая, опасливо поглядывая на неё. Никто из детей никогда не видел, чтобы кто-нибудь чужой переступал порог её дома, да и она ни с кем не заговаривала. Так всё и катилось. Но однажды случилось небывалое.
Две девочки-семиклассницы как обычно спешили домой мимо страшной старухи, как всегда гревшейся на солнышке. И тут вдруг воплотился самый жуткий кошмар из их страхов: старуха быстро ухватила одну за платье! Вторая девочка, придушенно пискнув, опрометью бросилась прочь, предоставив подружку её несчастной судьбине. Горло же той, пойманной, перехватил такой нервный спазм, что она затрясла головой, не в силах крикнуть.
— Всё, пропала, теперь заколдует, — пронеслось в её голове. И действительно, колдовство произошло, но не то и не так, как девочка боялась.
Ибо в это мгновение старуха открыла вечно слезящиеся глаза и глянула поразительно голубым и ясным взором. Глаза у страшной старухи оказались нежными и большими, в их синеве плескалась просьба и робость, совершенно не шедшие к её жуткой репутации и кривому носу.
— Девочка, я неважно себя чувствую, ты не купишь ли мне кефира и булочку? — просящим, певучим голосом попросила старуха. Да и голос-то её переливался обертонами, как будто она не говорила, а играла на виолончели, таким он оказался поставленным. Высокая культура звучала в нём, а вовсе не замызганное карканье под стать её отрепьям.
Повисла пауза, два человека вглядывались друг в друга, как в зеркало.
— Да, конечно, — твёрдо сказала девочка и взяла смятый рубль, который Баба Яга протягивала ей своей страшной артритной клешнёй. Магазин был за углом, и скоро она вернулась, неся кефир в стеклянной бутылке с изумрудно-зелёной крышечкой из толстой фольги. В коричневом бумажном пакете лежали две булочки-саечки, густо обсыпанные белой сладкой пудрой.
— Вот сдача.
— Спасибо, девочка.
Старуха взяла еду и трясущимися неловкими пальцами попыталась снять крышечку с кефира, да та сидела туго. Девочке бы бежать, лететь со всех ног прочь от страшилища, да отчего-то заныло от жалости сердце…
— Давайте я помогу.
Она сняла зелёную крышечку и подала Бабе Яге. Та церемонно поблагодарила и отпила. Тут девочке стало ясно, что старуха просто умирает от голода. Так хочет есть, что готова делать это на людях, прямо на улице. Старуха деликатно отламывала кусочки саечки и отправляла в рот, крошки сахара припудривали глубокие земляные морщины на подбородке. Девочка зачарованно следила за процессом еды.
— Присядь, если хочешь.
Это было не приказание, а просьба, как будто побитый щенок робко тянулся ткнуться носом в ногу хозяина узнать — сердится ли тот или смилостивился.
Баба Яга подвинулась. Девочка опустилась на лавочку, и тут случилось второе колдовство, — с высоты, а скорее, с низины этой лавочки она увидела мир глазами Бабы Яги. Как-то неуловимо изменились деревья, кроны стали больше, гуще, зашумели приветливо, солнце засветило жарче, тротуар распахнул перед ней свои трещинки, травинки, росшие из старых разломов, а люди превратились в большие ноги, суетливо или важно шагающие рядом…
Старуха утолила первый голод, утерла лицо неожиданно чистым платком и спросила:
— Как твоё имя?
— Женя, — и добавила зачем-то, — мама зовёт меня Женечка.
Старуха вздрогнула и вперилась в неё своими голубыми колдовскими озёрами:
— Так твоё имя Женечка?
Она помолчала немного, пожевала губами, потом доверительно сказала:
— Это и моё имя.
Как заведено в любой сказке, тут случилось третье чудо. На них опустился с небес тайный круг, он отгородил их от шумной улицы, обволок тишиной, распахнул мысли, напоил доверием. Слушая тихий голос старухи, девочка увидела вдруг всё: и весёлую семью, и Ленинград, и высокого красивого папу в военной шинели до пят, и страх, и разлуку, и долгую-долгую одинокую жизнь без семьи, без детей… Нет, полную детей, их смеха, милых шалостей, упрямства и ещё той единственной благодарностью, которую ученики могут подарить учителю — Женечка увидела нескончаемую вереницу хороших людей, которых старая учительница воспитала…
— Потом я вышла на пенсию, но ещё работала, работала, пока не заболела… и теперь я живу тут. Тут и умру. А вы, дети, боитесь меня… Не надо, — так просила бывшая Баба Яга, Евгения Игоревна теперь.
Женечка вдруг очнулась, пора домой, мама велела не задерживаться.
— Евгения Игоревна, вы не расстраивайтесь, я всем расскажу, какая вы хорошая, вас теперь никто не будет обижать, — жарко прошептала она. Старуха молча кивнула, подняла лицо к солнышку и застыла в своей обычной позе. Она опять очень устала.
Больше Бабой Ягой её никто не дразнил. Страх не прошёл так сразу, но дети стали дружелюбнее, даже здоровались, а Женечка частенько покупала ей еду и сиживала с ней рядом на солнышке, слушала длинные и странные рассказы об ушедшей в предания жизни…
Однажды Евгении Игоревны на лавочке не оказалось. Не вышла она и на второй день. Женечка, преодолев робость, постучала в дверь, та оказалась не заперта. Три деревянные истёртые ступени вели вниз, прямо в большую и тёмную комнату, еле освещаемую полуподземным окошком под потолком. На кровати лежала в забытьи Евгения Игоревна. Возле неё был человек в белом халате. Он обернулся:
— Заходи, девочка, это ты её внучка?
Непонятно отчего, но Женечка кивнула.
— Она звала тебя, всё говорила: «Женечка, Женечка». Ты не пугайся, но она отходит.
Как в первую секунду знакомства, болезненный спазм вдруг сковал горло девочки:
— Как? Почему? Куда отходит?
— Она очень старая и сердце износилось… больше не может.
А потом соседи в складчину похоронили бабушку Женю. Улица опустела так, будто из жизни ушла и сказка. Дети теперь с запоздалым сожалением и раскаянием оглядывали старенькую и опустевшую лавочку. Ах, если бы повернуть время вспять, но ходики тикали, и новый день неотвратимо наползал на прошедший.
Поёт душа
…Он видел людей насквозь. Они представлялись ему стеклянными сосудами, в которых то плескался смех, то тяжёлыми разводами расходилось раздражение, кипели пузырьки озарений. Он знал каждого изначально и видел, как события дня добавляют щепотки приправ, и в сосудах идёт химическая реакция, вращая людей как калейдоскопы, меняя настроения, намерения, поступки.
Он искренне любил всех! Ему доставляло острое физическое удовольствие наблюдать и сочувствовать, выражать своё внимание и расположение. Он и сам управлял ими с помощью магии взгляда карих глаз, улыбкой и голосом! Он знал, что безумно талантлив, у него есть всё: экспрессия и широтой диапазона, поразительнейший слух, музыкальность и артистизм. Каждый раз, когда его друг Николенька брал в руки баян, то удержаться не было сил, и счастье, истинное и сияющее, заполняло вселенную. Он пел… И купался в заслуженной славе!
Но однажды мир изменился.
С другом они шли через площадь. Как обычно, видел содержимое людей, но к своему удивлению теперь не узнавал... Там клубилась удушливая серость, её пронизывали разводы коричневой заботы, вспыхивали ярые отблески гнева. Тут же оседали на самое дно людских душ горчичные хлопья жадной досады. Внезапно он захлебнулся ужасом! В человеке перед ним клубились, змеились и вздымались оттенки чёрного и угрюмого, никакие зарницы не прорезали толщу холода и одиночества… И этот сосуд горечи земной заиграл! При первых звуках стало понятно, что петь надо, но не ту песню, которую натужно-оптимистично выводит баян. Нет, открыть миру надо то, о чём рыдает сердце незнакомца. Повинуясь, он изготовился — и возопил!
***
…Николенька, покорный воле родителей, терзал баян уже два года. И в процессе его окаянно-баянных страданий мир музыки открылся и его другу Эрвину — готовому бескорыстно любить весь мир. Теперь они выступали вместе. А капелла Эрвин не пел. Ну уж нет! Сначала он прислушивался к мелодии баяна, склонив голову набок и сосредотачиваясь... Затем — уловив настроение, мотив и ритм — вступал, напором и чувством увлекая слушателя за собой, сметая с ног силой и страстностью исполнения! Вначале аудитория ошеломлённо замирала, потом из глубин души народной поднимался такой недоумённо-гомерический, такой восторженный хохот, что небеса рушились на землю.
Но Эрвину было не до того. Весь в музыке, попадая в ноты и тональность, что с удивлением отмечено было и преподавателями музыкальной школы, Эрвин пел, воздев нос к небесам. И выглядело это, будто сумасшедший вихрь первобытного триумфа вырывался из его души. Базары 90-х, разворочённый бурей быт, толпы озлённых и растерянных людей... Перед центральным рынком на площади сидел слепой баянист. И играл. Его никто не слушал. Не слышал. Не жалел. Денег не подавали. Николенька с другом тихо подошли к нему.
— Не пугайтесь. Играйте и ничему не удивляйтесь. Мы споём с вами.
— Споёте? ...А, ладно, что мне терять...
Он заиграл. А Эрвин, молодой эрдельтерьер, сел рядом и привычно прислушался, вникая в суть. И вдруг заголосил! Он и рявкал, и подвывал, и выговаривал пастью слова укоризны злому издевательству мира! Вся скорбь жизни слепого и нищего баяниста вырывалась из его глотки и возносилась к холодным, несправедливым и жестоким небесам! Рынок замер.
Потом люди повалили к этой нелепой группе восставших, возвысивших свой голос в ожесточении и отчаянии! Окружив их, люди внимали. Но на этот раз никто не смеялся. Когда умолк отзвук последней рулады, в шапку баяниста деньги полились полноводной рекой.
— Спасибо. Завтра придёте?
— Нет. Сегодня на поезд.
— Жаль...
Если бы мог, Эрвин сам бы сказал то, что открыл человеческий поэт Роберт Рождественский:
«Какое это чудо — Человек!
Какая это мерзость — человек».





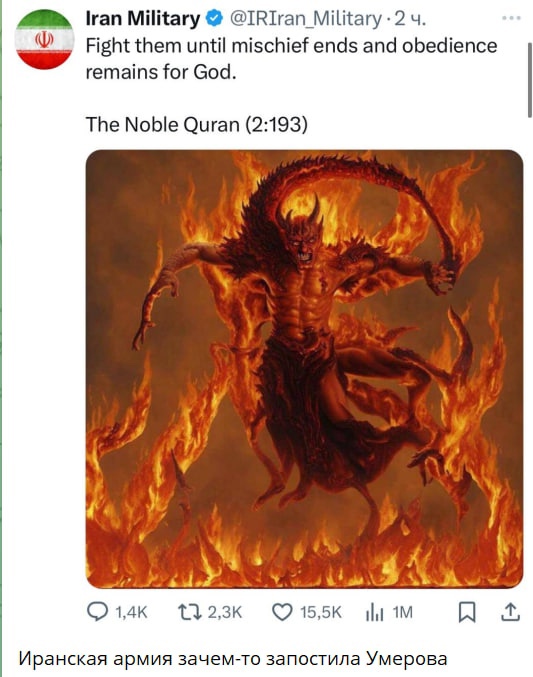







Оценили 13 человек
27 кармы