
Фото Вячеслав Калинина: лагерный пункт близ разъезда "Глухариный" на трассе Салехард-Надым
В 1947 году на восток от Воркуты (станция Чум) в направлении Салехарда и полуострова Ямал стартовало продолжение печально знаменитой Северной железной дороги. Магистраль, известная по песне «По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград», по замыслу проектировщиков поворачивала от станции Лабытнанги прямо на север и, пронзив Северный полярный круг, выходила на побережье Обской губы. Если бы проект удался, то была бы возведена наиболее приближенная к Северному полюсу железная дорога в мире, затем направление трассы скорректировали в направлении на восток от Салехарда к Игарке и Норильску. Дорога, построенная примерно на 75-80%, после марта 1953 года была брошена и так и не восстановлена до сих пор. В народной памяти она осталась под названием «Мёртвой дороги». Наиболее сохранился участок трассы от Салехарда до Надыма». Продолжаем рассказ об экспедициях на трассу «Мёртвой дороги» историка и писателя Вячеслава Калинина.
Прелюдия
После трёх пеших походов на трассу «Мертвой дороги» настало время всерьез заняться её исследованием. Этому способствовало и знакомство с историком севера, ямальским краеведом Вадимом Гриценко, который, также как я, жестокой судьбой был заброшен в Надым. Судьбе правда показалось этой насмешки мало и Вадим застрял в приполярном городе видимо на всю оставшуюся жизнь.
В 2004 году, когда и состоялась наша первая зимняя экспедиция, ставшая легендарной, я занимал должность заместителя начальника пресс-центра ООО «Надымгазпром». И в принципе никакого отношения к Трансарктической железной дороге мои должностные обязанности не имели, а за повышенный интерес к этой неоднозначной теме, порой и в ущерб служебной деятельности, мне даже как-то высказывало вышестоящее руководство, но было поздно, я всерьез увлекся этим историческим феноменом.
И мне, по большому счету, плевать было и на понукания начальства, и на внутренний голос разума. Дорога приворожила меня, не хуже красавицы-колдуньи. В общем, после знакомства и разговора с Вадимом, который скептически и весьма ревниво отнесся к увлечению назойливого неофита к разрабатываемой им давно и плотно теме, он все же соизволил поделиться некоторой информацией, на основе анализа которой и было принято историческое решение об организации экспедиции. Зимней, не на лыжах и не на оленьих упряжках. На нормальной машине. Решено было посетить один из сохранившихся лагерных пунктов на отрезке Салехард-Надым.
И это Вадим, когда услышал мой рассказ об одиночных пеших экспедициях по трассе «Мёртвой дороги» (трижды в одиночку, а один раз с Василием Колчановым) красноречиво покрутил пальцем у виска, мол безумец, ты, Слава, и кончишь плохо, если в том же духе продолжишь. И пояснил, чем чревато хождение по насыпи в гордом уединении.
Подготовка экспедиции заняла не много времени. Главным элементом предприятия было наличие хорошей машины. Нам требовался «Урал» - надежная техника с высокой проходимостью. Такие автомобили были в нескольких предприятиях города Надыма, но самый большой парк, конечно, имели газовики. И генеральный директор «Надымгазпрома» Виктор Кононов выделил нам на сутки такой автомобиль. Без каких-либо оговорок, в порядке помощи на благое дело – обследование сохранившегося в труднодоступной местности лагерного пункта близ разъезда «Глухариный». Собственно говоря, был выделен автомобиль с водителем и необходимое количество топлива. Спасибо Виктору Ивановичу Кононову!
Остальная подготовка была делом чисто техническим – продукты, средства для обогрева (водка и коньяк), фотоаппараты, видеокамера, спички, оружие (если не ошибаюсь ружье было у водителя), инструмент (лопаты, топоры) ножи, палатка, дизель-генератор, ракетница, вода, веревки, всякая мелочёвка. И небольшие подарки для ребят – связистов, которые занимали один из домов, оставшихся от железнодорожного разъезда близ лагпункта. В пятницу, темным январским вечером мы закончили приготовления и молились черным зимним небесам, чтобы погода наутро не испортилась. Нум (суровый ямальский Бог) смилостивился, погода утром выдалась прекрасной.
Бросок на запад
В субботу, на «Урале», под веселый разговор и массовые зевания мы вырулили на старый салехардский зимник и стремительно направились прямиком на запад. Там, за горизонтом, за триста с лишним километров от Надыма находилась столица Ямало-Ненецкого автономного округа город Салехард, бывший Обдорск, упомянутый, между прочим, самим Федором Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Однако посещение Салехарда в этот раз в наши планы не входило, пункт назначения экспедиции располагался гораздо ближе. Лагерный пункт около разъезда «Глухариный» по расчетам Вадима Гриценко находился километрах в 70 от Надыма.
Карта, которой пользовался заслуженный надымский следопыт, была сомнительного качества, но Вадим убедил водителя, что он и с закрытыми глазами, если надо, найдет этот лагпункт, потому как пару раз уже бывал там. Правда летом.
Постепенно мы разменяли отутюженный сотнями автомобилей «зимник» на его боковое ответвление, которое вело на одну из местных заимок, предназначенную для отдыха начальства. Там располагались уютные охотничьи домики. Лагпункт был где-то поблизости от этой элитной базы отдыха, расположенной на берегу заповедного озера.
Не замедлили нарисоваться и трудности. Снега было много, объездных путей – мало. На очередном пригорке наш «Урал» взревел, как раненый навылет слон и остановился, погрузившись в мягкий снежный ковер всеми своими ведущими мостами. Мы с Вадимом потом полчаса выкапывали машину, а водитель руководил увлекательным процессом.
Худо-бедно, но через часа четыре мы с гребня высоты разглядели впереди темные контуры частокола. Это был лагерный пункт. Сами лагпункты названий не имели, довольствовались номерами, но были почти всегда привязаны к какой-нибудь станции или разъезду на трассе железной дороги. Вблизи этого лагерного пункта, километрах в трех располагался разъезд «Глухариный».
Добравшись до частокола наш «Урал» затормозил и мы с Вадимом выпрыгнули из кабины и стали разгружать наши вещи. Потом, не мешкая (световой день-то короткий) отправились вглубь зоны. Собственно, самой зоны здесь уже не было. С двух из четырех крыльев, когда-то единого охраняемого периметра уже никаких заграждений не просматривалось. Однако в этом лагерном пункте, едва ли не в единственном, по мнению Вадима, на трассе Салехард-Надым, сохранился участок мощного частокола. Мы прошли по снежному покрову до большого барака, открыли дверь и стали осматривать нары и общее пространство помещения. Затем прошли в здание поменьше. Как отметил Вадим, скорее всего, это был командирский барак, где располагались кабинеты лагерного начальства. Попили чаю из термоса и пошли дальше топтать тропинки.
Зашли в столовую, которая одновременно была и культуголком, судя по остаткам агитационных плакатов. Здесь же для заключенных и их охраны крутили кино. В кухонном помещении обнаружилась хорошо сохранившаяся печка. Вадим радовался как ребенок и тщательно её измерил и сфотографировал, пояснив, что печей в первозданном виде в лагпунктах практически нет. Печной кирпич в тундре дефицитный материал и его, с момента ликвидации Строительства 501, цинично растаскивают по стойбищам и избам местные жители.
После кухни мы обнаружили небольшое темное помещение с низким потолком, железной дверью и решеткой на маленьком оконце. «Карцер», - категорично заявил Вадим, и я с ним мысленно согласился. Действительно мрачное помещение напоминало камеру одиночного заключения.
Затем мы прошлись вдоль великолепного частокола, похожего на иллюстрации ограждения форта из книги «Остров сокровищ». Ограждение было смонтировано заключенными из местной лиственницы. Осмотревшись, мы убедились, что если бы не ушлые местные жители, конструкция наверняка бы сохранилась в целостности, насколько добротно и основательно было сооружено ограждение зоны. Кое-где виднелись и остатки периметра, очерченного колючей проволокой. У проволоки Вадим разлил по стаканам грамм по 50 водки и мы выпили за упокой души заключённых, оставивших здесь свои жизни. Наш визит в зону закончился.
Потом мы быстро погрузились в «Урал» и проехав каких-то два километра оказались у края большого каньона, через который был перекинут величественный железно-деревянный, прекрасно сохранившийся мост. По одной из легенд этот мост в разобранном виде перевезли на трассу Салехард-Надым с КВЖД, Китайско-восточной железной дороги, но мы с Вадимом однозначно решили, что это фантастическое и ничем не обоснованное суждение.
Завершив осмотр моста, мы посчитали программу экспедиции по обследованию лагерного пункта и моста через реку с непроизносимым на русском языке названием законченной. И с чувством хорошо выполненного долга Вадим указал водителю дорогу в сторону разъезда «Глухариный». Минут через пятнадцать мы пришвартовались у невысокого забора, за которым виднелось несколько добротных деревянных домов.
Чай с морошкой
В центральном и единственном жилом доме нас ожидали трое бородатых малоулыбчивых мужчин. Это были связисты управления связи «Надымгазпрома», которым мы доставили свежие газеты, продукты, топливо и запчасти в деревянных ящиках. После краткого обмена мнениями о видах на ближайшие погодные изменения, мы были приглашены к столу. Сначала по таежной традиции попили чаю с вареньем из морошки.
Стол представлял собой комбинацию продуктов, привезенных нами и домашних заготовок связистов. И разных видов лесной дичи, а также рыбных запасов этой местности. Главным украшением праздничного стола были, конечно, три вида вино-водочных изделий, доставленных нами из Надыма. Водка «Русская», коньяк «Кизлярский» и бутылка самогона-первача, который Вадим то ли изготовил сам, то ли взял у какого-то из своих многочисленных приятелей.
Меня поразило в первую очередь мясное и рыбное ассорти. Из мяса была лосятина и медвежатина, оленина и зайчатина, из птицы - куропатка и глухарь. Рыбное меню тоже впечатляло. Кроме традиционной строганины из какой-то невероятно огромной нельмы, на столе раздражающе дразнили глаза и обоняние муксун малосольный и муксун копченый, котлеты из щуки, жареный щекур и краснокнижный сибирский осётр. А ещё капуста квашенная, огурцы соленые, икра чёрная, брусника моченая, опята маринованные и грузди солёные.
Мы с Вадимом не сговариваясь предположили, что в нормальном состоянии нам этот гостеприимный дом уже не покинуть. Ну а когда прозвучал первый тост за гостей, это стало абсолютно понятно. Потом пили за хозяев, за отсутствующих здесь дам, за «Газпром», за то чтобы не вернулись темные годы, когда здесь кипела «проклятая» стройка. Последний тост был от хозяев, но мы с Вадимом имели особое мнение и завязался заинтересованный разговор о масштабах и специфике принудительного труда в эпоху товарища Сталина.
Ссылаясь на уже проведенную исследовательскую работу, мы пытались отстаивать точку зрения об ограниченном масштабе деятельности ГУЛАГа и незначительном проценте возведённых его узниками объектах инфраструктуры в общем балансе строек социализма.
Наши жалкие научные доводы были безапелляционно опровергнуты одним железным аргументом: "Вы лагеря, горе-учёные, видели? Так вот вся страна была таким лагерем».
Мы с Вадимом переглянулись и спорить не стали. Последний, насколько я помню, тост был как раз за безвинно убиенных на строительстве 501 заключённых. После тоста я напрочь вырубился и проснулся уже, когда в лобовом стекле «Урала» замаячили огни большого города. Это был затерянный в тундре печальный Надым.
«История «Мёртвой дороги»»
И уже через полчаса мы, одухотворенные, полные впечатлений въехали на улицу Зверева, центральную магистраль этого заснеженного города. Высадившись у своей девятиэтажки, я, бросив в сугроб рюкзак, еще часа полтора гулял по парку, к которому примыкал мой дом. Едва разогнав липкий хмель, я торжественно заявился на порог собственной квартиры и слегка озадаченной моим внешним видом Наталье Алексеевне Калининой заявил о блестящих результатах комплексной научной экспедиции, проведённой мной, ну и Вадимом Гриценко тоже. Меня выручила дочь Ника, которая радостно взобралась ко мне на руки. Хорошо, что сегодня была суббота.
Потом мы с Вадимом, собравшись у него на квартире, долго и тщательно разбирали фотографии, пытаясь их наиболее полно и качественно атрибутировать и как-то систематизировать. Это было на следующий день, в воскресенье. Мы пили крепкий чай, ели сало, лично засоленное женой Вадима Надеждой и оценивали результаты поездки.
Получалось, что съездили не зря. Фотографий набралось под сотню, в том числе и таких, которых в коллекции Вадима еще не было, ну а уж у меня и подавно. Рассуждали о перспективах следующих экспедиций и затратах на их подготовку и реализацию.
Именно в этот вечер я впервые предложил Вадиму совместно написать большую и хорошо проработанную книгу о строительстве железной дороги Чум-Салехард-Игарка. Вадим сначала поразился, что такая простая и совершенно гениальная мысль не пришла ему самому в голову, и импульсивно согласился с моим наглым предложением. Сам-то я считал, что мой вклад в эту книгу, на тот период, был бы несопоставим с долей Вадима, который в отличие от меня работал над темой Строительства 501 лет двадцать. Копался в архивах, записывал интервью с живыми еще заключенными и охранниками, организовывал не стихийные, а вполне солидные экспедиции и прочая, и прочая.
Однако я клятвенно пообещал на долгой дистанции создания и печати книги наверстать упущенное. И он милостиво согласился взять меня в соавторы. Потом, впрочем, пожалев об этом, но это уже другая история.
А в тот вечер мы на скорую руку набросали проект плана, определив разделы и направления, за которые должны взяться соавторы, и закрепили нашу концессию устным договором, выпив по рюмке хорошего французского коньяка.
Так родился замысел нашей с Вадимом книги «История «Мёртвой дороги», название которой придумал я, а содержание, конечно, процентов на 70 было за моим более старшим и заслуженным товарищем. Эта книга в 2010 году стала бестселлером (если говорить о исследованиях, посвященных Трансарктической дороге, а мы за этот фолиант были удостоены Всероссийской премии имени Д. Мамина-Сибиряка.
https://matveychev-oleg.livejo...



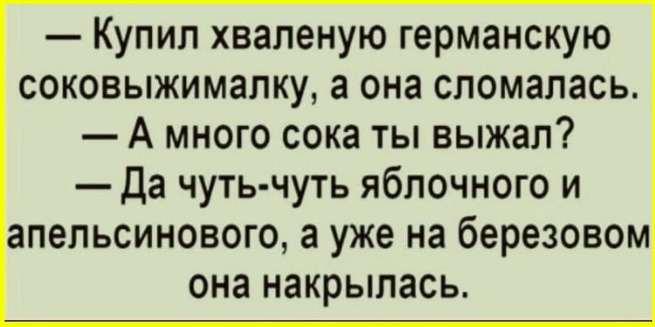

Оценили 5 человек
10 кармы