
Обвинения большевиков в развале Российской империи, особенно в связи с потерей Польши и Финляндии, игнорируют объективные законы исторического развития. Эта позиция, часто звучащая из монархических или других антикоммунистических кругов, представляет собой вульгарное упрощение сложнейшего процесса распада устаревшей государственной формации. Чтобы понять истинные причины утраты этих территорий, необходимо обратиться к их специфическому статусу внутри имперской конструкции и общему кризису романовской России.
Территории Польши и Финляндии никогда не были органическими частями единого российского государства, как центральные губернии. Польша вошла в орбиту Петербурга как результат раздела Речи Посполитой в конце XVIII века – акта империализма со стороны России, Пруссии и Австрии в эпоху бурных переворотов в политике Европы. Последующее создание Царства Польского после Венского конгресса 1815 года основывалось на личной унии с российским императором и предоставлении автономии, которая неуклонно урезалась после восстаний. Финляндия же была отторгнута от Швеции по итогам войны 1808-1809 годов и получила статус Великого княжества Финляндского. Его связь с Россией также определялась исключительно личной унией с правящим домом Романовых. Финляндия обладала собственной конституцией, сеймом, законодательством, денежной системой, языком и календарем — на границе Петербурга даже стояла таможня для пропуска товаров на территорию княжества и из него.
Удержание этих территорий держалось не на экономической или национальной интеграции, а на феодально-династическом принципе, утратившем актуальность в XX веке. Таким образом эти территории в эпоху перехода к капитализму оказались крайне обременительны для российского правящего класса, который крайне медленно интегрировал эти территории в полноценное тело России.
Кризис Российской империи к 1917 году носил всеобъемлющий и антагонистический характер. Экономика страдала от отсталости: преобладание аграрного сектора, слабость промышленности (5-е место в мире по объему производства, около 5-6% мирового, но с серьезным отставанием в технологическом уровне и производительности труда), зависимость от иностранного капитала. Участие в империалистической войне катастрофически обострило все противоречия: транспортный коллапс, гиперинфляция, продовольственный кризис в городах, разложение армии.
Социальная база монархии рухнула. Февральская революция 1917 года стала закономерным взрывом народного возмущения, сметшим прогнивший царский режим. Большевики активно участвовали в событиях, но не играли в них руководящей роли. Власть перешла к буржуазному Временному правительству и Советам рабочих и солдатских депутатов, что стало прологом к двоевластию. В целом, с точки зрения исторической науки, корректно начинать отсчёт прямой гражданской войны именно с Февраля 1917 года — хотя, конечно, первые серьёзные зёрна конфликта были заложены правящей династией уже в 1905 году.
Существенную, а для Польши и Финляндии ключевую юридическую основу для отделения создало именно буржуазное Временное правительство. Лишенное легитимности Учредительного собрания, оно совершило роковые шаги. Уже 16 (29) марта 1917 года оно провозгласило независимость Польши (фактически оккупированной Германией), хотя и с оговоркой о будущем «свободном военном союзе» с Россией. Главным же актом, разрубившим династическую основу империи, стало провозглашение 1 (14) сентября 1917 года России республикой. Этот акт имел принципиальное значение. Поскольку связь Польши и Финляндии с Петроградом существовала исключительно через личную унию с Домом Романовых, ликвидация монархии юридически разрывала эту связь. Финский сейм, опираясь на шведский Акт о форме правления 1772 года, 6 декабря 1917 года провозгласил независимость Финляндии, считая связь с Россией разорванной после падения монархии. Как констатировал один из лидеров кадетов В.А. Маклаков:
Республика сама по себе уже означала разрыв унии.
Таким образом, к моменту Октябрьской революции 1917 года, когда большевики взяли власть, юридическое отделение Польши и Финляндии было уже свершившимся фактом, оформленным решениями предшествующей власти и действиями самих национальных элит. Большевики лишь признали эту реальность — а что ещё им оставалось делать? Польша была оккупирована германскими войсками. В Финляндии разгоралась собственная гражданская война. Россия находилась в состоянии глубочайшего экономического и военно-политического коллапса, усугубляемого начинающейся Гражданской войной и иностранной интервенцией.
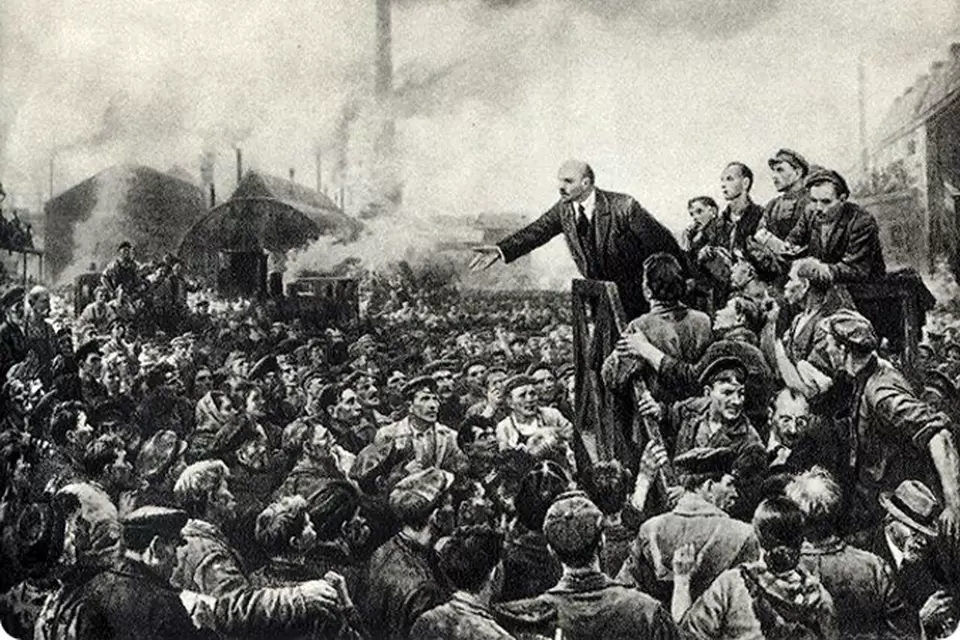
Попытка силой удержать эти территории была бы утопией, ведущей к ещё большему кровопролитию и изоляции революции, она противоречила бы провозглашенному большевиками принципу права наций на самоопределение вплоть до отделения. Принятые СНК РСФСР Декреты от 29 августа 1918 года об отказе от договоров о разделе Польши и о признании независимости Польши, а также Декрет о признании независимости Финляндии от 18 (31) декабря 1917 года были не актом предательства, а вынужденным признанием сложившейся ситуации и реализацией программного положения. Последующая агрессивная политика буржуазной Польши (захват Западной Украины и Западной Белоруссии в 1920 году) лишь подтвердила реакционную сущность национализма правящих классов новых государств.
Обвинения большевиков в развале империи несостоятельны. Распад был предопределен комплексом объективных причин: экономической отсталостью, архаичностью феодально-династических связей с национальными окраинами, глубочайшим социальным расколом, катастрофическими последствиями империалистической войны, мощным подъемом национальных движений, слабостью центральной власти после Февраля и, наконец, юридическими актами самого буржуазного Временного правительства, разрубившего династическую основу империи.
Большевики, взяв власть в октябре 1917 года, столкнулись не с «великой державой», а с руинами, созданными предшествующим строем и усугубленными политикой Временного правительства. Их задача заключалась не в реставрации этого здания, а в строительстве нового государства на принципах интернационализма, что им, несмотря на чудовищные трудности, в значительной мере удалось. Историческая наука, опирающаяся на факты и диалектико-материалистический метод, однозначно свидетельствует: вина за крушение империи лежит на ее внутренних антагонизмах и правящем классе, оказавшемся неспособным к прогрессивному развитию.






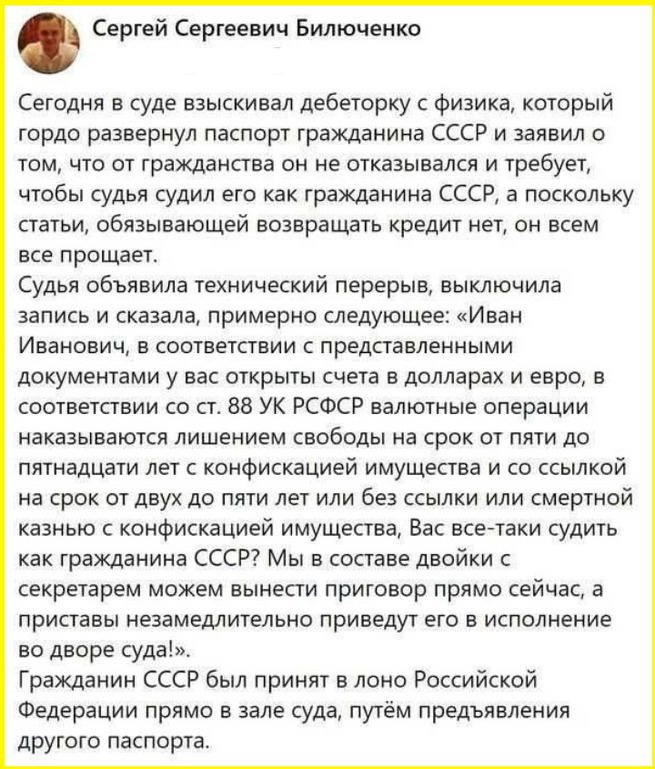


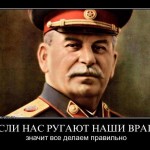


Оценили 24 человека
37 кармы