
Российская империя на рубеже XIX–XX веков являла собой классический пример антагонистической формации, где переплетение полуфеодальных пережитков с уродливыми ростками капитализма порождало чудовищные формы социального разложения. Главной политической надстройкой этого строя была не просто отсталость, а системная коррупция, пронизывающая государственный аппарат от уездных канцелярий до кабинетов министров. Это не было случайным «злоупотреблением» – это был органический способ функционирования режима, основанного на частной собственности и классовой эксплуатации. Феодальные традиции «кормления» чиновников слились с буржуазной жаждой наживы, создав идеальную среду для паразитизма правящей клики. Коррупция стала неотъемлемой производственной отношений самодержавия.
Экономическая отсталость империи, столь ярко проявившаяся в военных поражениях и технологическом унижении, имела своей основой именно это системное воровство. Пока монархисты восхищаются «километрами рельсов» или единичными образцами военной техники, диалектический анализ требует видеть качество и содержание этих достижений. Четыре двигателя «Ильи Муромца» лишь подчеркивали слабость отечественного машиностроения, вынужденного компенсировать отставание количеством. Железные дороги, неспособные перевозить тяжелые промышленные грузы, становились символами казнокрадства и неэффективности. Каждый рубль, выделенный на развитие, проходил через десятки рук, каждая из которых отщипывала свою долю. Иностранный капитал, привлеченный Витте, лишь усугубил эту болезнь, превратив министерские кабинеты в конторы по торговле национальными богатствами. Передача контроля над цветными металлами французскому «Продамету» – не «индустриализация», а акт национального предательства правящей камарильи, поставившей личное обогащение выше суверенитета.
Финансовая зависимость от западных ростовщиков достигла апогея к 1914 году, когда иностранцам принадлежало 49.7% госдолга, 90% горнорудной промышленности и 40% металлургии. Царские министры, эти лакеи международного капитала, закладывали будущее страны ради золота Парижа и Лондона. Колоссальные военные расходы Первой мировой войны, легшие непосильным гнётом на народные массы, стали золотым дном для казнокрадов и поставщиков. Гиперинфляция, вызванная бешеным печатанием денег для покрытия дефицита, была не просто экономической ошибкой – она стала инструментом обогащения финансовых воротил, тесно связанных с правящей бюрократией. Когда большевики отказались платить по этим грабительским долгам, они не просто «шокировали мировые финансы» – они разорвали цепи, десятилетиями сковывавшие развитие России.
Губернаторы, призванные бороться с лихоимством на местах, зачастую сами возглавляли коррупционные схемы. Исследования их деятельности в XVIII–XX вв. показывают: взяточничество было не исключением, а нормой функционирования аппарата. Сенат, следственные комиссии, майорские канцелярии – все эти «борцы» с мздоимством превратились в инструменты сведения счетов между кликами правящего класса. Личная «борьба» царей с отдельными случаями коррупции сановников лишь подчеркивала системный характер явления: самодержец мог казнить за взятку министра, но был бессилен перед гнилым фундаментом строя, порождавшим тысячи новых взяточников.

Политика русификации национальных окраин стала еще одним источником обогащения для чиновной саранчи. Назначения в Польшу, Финляндию, Туркестан или на Кавказ рассматривались как возможность быстрого обогащения через вымогательство, конфискации земель и откровенный грабеж «инородцев». Закрытие Виленского университета под предлогом борьбы с «литовским вольнодумством» сопровождалось хищением средств и имущества. Чиновники, призванные проводить «обрусительную» политику, превращали ее в машину личного обогащения, усиливая ненависть к империи и подрывая ее устои куда эффективнее революционеров.
Фигуры реформаторов, вроде Витте и Столыпина, лишь подтверждали правило: в условиях загнивающего царизма даже относительно прогрессивные начинания превращались в кормушку для паразитов. Витте, продававший иностранцам отрасли промышленности, и Столыпин, защищавший интересы помещиков под видом «аграрной модернизации», были порождением одной системы. Современники справедливо отмечали неискренность, лживость и беспринципность Столыпина, ставившего личное благополучие своей семьи и клана выше государственных интересов. Его знаменитые вагоны и галстуки стали символами реакции, пытавшейся удержать власть террором, когда экономические рычаги управления были уже утрачены правящей кликой.
Догматики и монархисты, пытающиеся сегодня обелить царизм, игнорируют главное: коррупция была не случайным пятном, а сущностным качеством режима. Она вытекала из основополагающего противоречия между потребностями развития производительных сил и сковывающими их феодально-бюрократическими производственными отношениями. Самодержавие не могло модернизировать страну, не подрывая собственных устоев, основанных на сословных привилегиях. Поэтому любые реформы носили половинчатый характер, а чиновничий аппарат сознательно саботировал преобразования, защищая свои коррупционные схемы. Попытки консервации строя через полицейский террор лишь ускоряли его крах.
Диалектический урок истории предельно ясен: коррупция – не «болезнь» власти, а способ существования эксплуататорского государства в условиях кризиса. Царизм рухнул не потому, что не боролся с казнокрадством, а потому что был его порождением и воплощением. Сегодняшние попытки реанимации «имперских ценностей» обречены на повторение тех же противоречий. Подлинная борьба с коррупцией требует не смены вывесок, а прогрессивного преобразования самих основ общественных отношений, уничтожения частной собственности как питательной среды паразитизма.
https://tukaton.ru/article/kor...







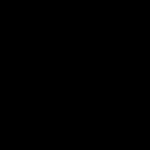
Оценили 7 человек
13 кармы