
На днях в The Wall Street Journal вышла статья, посвящённая изменениям характера дипломатической работы США при Трампе на примере украинского кризиса. Общий посыл публикации примерно такой: «В мировой политике вновь доминирует персонализм — когда традиционные институты теряют влияние, основным инструментом становятся личные контакты лидеров».
Отмечая, что подобный подход более удобен России, которая традиционна сильна в персональных контактах и факторе личного влияния, «где доверие и гибкость ценятся выше формальностей», WSJ, по сути, фиксирует смену эпохи: «от дипломатии систем – к дипломатии характеров».
«Там, где раньше решала институциональная логика, теперь действуют психология, эмоции, сцены давления и невербальных сигналов. В этом театре лидер становится и актёром, и сценарием, а каждое его слово – потенциальным переломом», – говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, личная дипломатия в итоге может приблизить мир на Украине, но она же делает его заложником воли конкретного человека.
«Для Москвы это – окно гибкого маневра. Для Киева – тревожная неопределённость. Для Европы – сигнал, что эпоха предсказуемой внешней политики может быть окончательно завершена», – резюмирует The Wall Street Journal.
И вот что в этой связи хотелось бы сказать. Про фактор личного влияния, который наши лидеры всегда используют – с разной степенью успешности, но тем не менее – издание WSJ, несомненно, право.
На память сразу приходят Горбачёв с его желанием очаровать западных лидеров, Ельцин с его мужицкой манерой решать всё на уровне личных договорённостей, харизма и обаяние Путина и так далее. Это вообще свойственно русском человеку, для которого честное слово и крепкое рукопожатие всегда значили больше, чем тонны подписанных соглашений и договоров. Этим как раз известна Европа, и в этом смысле, авторы статьи в американском издании тоже правы.
Но при этом они допускают серьёзную ошибку, не видя в российском подходе системности, или пытаясь выдать дипломатическую манеру Трампа, которая зависит исключительно от того, с какой ноги сегодня встал американский лидер, за нечто, что благоприятствует России. Это не так.
The Wall Street Journal путает факторы, формирующие доверие, с системных подходом в работе дипломатов.
Российский МИД максимально консервативен в своей основе. И это позитивный консерватизм, создающий предсказуемость российской внешней политики даже в самых сложных обстоятельствах.
Помните, как руководство РФ всегда настаивало на том, что Россия была и остаётся надёжным партнёром по газовым контрактам, которые она будет выполнять, несмотря ни на какие трудности.
У многих такой подход вызывал недоумение, мол, почему мы отказываемся перекрывать украинскую газовую трубу, зная, что они воруют наш газ, или продолжаем «кормить Европу» в ситуации, когда она впервые ввела против нас санкции в 2014 году?
Но в том и дело, что доверие у нас формируется действительно на персональном уровне. Мы больше доверяем конкретным людям, чем институтам и хартиям, за которыми сложно разглядеть национальные интересы.
Любопытно, что в своём недавнем комментарии экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон довольно точно описал это нашу особенность.
«Что бы Путин ни думал о Трампе, я уверен, что он не считает его своим другом. Путин знает, в чем, по его мнению, заключаются национальные интересы России, и именно этого он добивается. Он заключает сделку не для того, чтобы осчастливить Дональда Трампа. У него совершенно иной набор целей, чем у Трампа. И та же схема применима во многих, самых разных отношениях с Си Цзиньпином из Китая, с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Вы знаете, после того как Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре, он сказал прессе, что они влюбились друг в друга. Что ж, я не знаю, что почувствовал Ким Чен Ын по поводу этой встречи, но могу сказать точно, что он не влюбился в Трампа». Конец цитаты.
В этом смысле Москве всегда было довольно легко вести диалог с каждой из конкретных европейских столиц, и тяжело – с ЕС в целом в силу абстрактности и размытости его целей и задач, особенно, после того, как объединённая Европа в основу своей дипломатической модели положила принцип идеологического единства.
Вот вам конкретный пример: «ЕС не будет импортировать российский газ даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной». То есть дело не в войне, а в откровенной неприязни нынешней Европы к нашей стране.
Европейские государства сегодня связывают не общие интересы, а единая идеология, частью которой является традиционная для них русофобия. Я, кстати, удивлён, что мы это только сейчас заметили, на самом деле этому явлению лет 500, а то и больше.
В рамках этой идеологии, на тех же основах, Европа строила и свои отношения с США. Но с тех пор, как с приходом в Белый дом Трампа общий идеологический подход у Штатов и ЕС исчез, начались проблемы, которые WSJ в своей статье называет «отсутствием системности».
Если уж говорить совсем прямо, то именно Запад давно разрушил системный подход к дипломатии, заменив «дипломатию интересов» сначала на идеологическую, а потом, на примере Украины, на «эмоциональную дипломатию».
И в этом смысле «новая дипломатия Трампа» со всеми её издержками – это всё же возвращение к нормальности. Пусть взбалмошной и в чём-то даже инфантильной, но в главном всё же вполне предсказуемой и адекватной, когда дипломатическая работа строится по принципу «нам это выгодно или невыгодно», а не на уровне «мы этих любим, а этих ненавидим».
В этом смысле такие перемены действительно в пользу России. И потому, как мне кажется, есть шанс достичь в Будапеште какого-то позитивного результата.




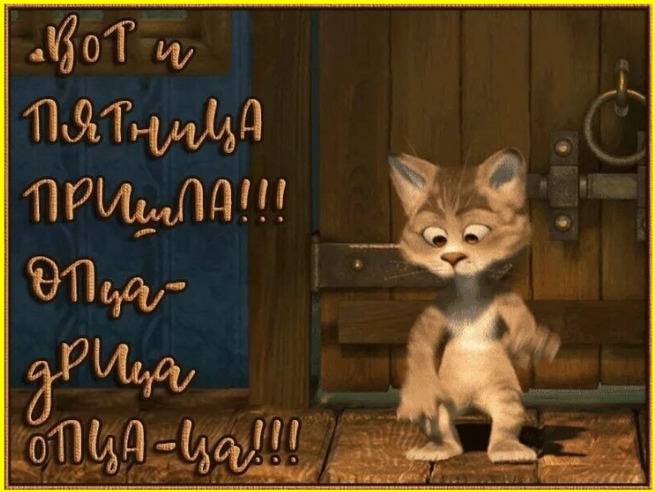


Оценили 4 человека
6 кармы