Государство в своей сущности есть политическое единство, стремящееся к тотальности. Подобно тому, как понятие политического проявляется через различение друга и врага, природа государства раскрывается через его стремление к абсолютизации власти и монополизации инструментов принуждения. Государство не просто возникает из хаоса — оно рождается в акте насилия, который затем легитимизируется через установление порядка. В этом первичном насилии заключена диалектическая природа государства: оно одновременно является источником опасности и защиты, террора и безопасности.
Становление государства неотделимо от процесса монополизации права на насилие. Как писал Карл Шмитт, «суверен есть тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении». Это определение указывает на сущностную связь между государством и насилием: суверенитет проявляется именно в праве приостанавливать действие закона, то есть в праве на легитимное насилие. Государство утверждает себя через исключительное право определять, когда насилие является законным, а когда преступным. Оно не просто обладает инструментами принуждения — оно устанавливает сами критерии легитимности насилия. В процессе исторического развития государство стремится к полной монополизации физического принуждения. От феодальной раздробленности, где право на насилие было распределено между множеством акторов, к централизованному государству модерна — этот путь может быть описан как постепенная концентрация средств принуждения в руках единого суверена. Государство объявляет себя единственным источником справедливого насилия, противопоставляя его «несправедливому» насилию негосударственных акторов. Здесь проявляется фундаментальное противоречие: государство легитимизирует свое насилие через категорию справедливости, но сама эта категория определяется тем же государством. Справедливость становится не трансцендентным идеалом, а имманентным продуктом государственной воли. Государство не просто монополизирует насилие — оно монополизирует право определять, что есть справедливость. В этом смысле государство становится не только источником легитимного насилия, но и единственным арбитром в вопросах легитимности как таковой.
Государство по своей природе не терпит конкуренции в сфере насилия. Любой альтернативный центр силы, будь то организованная преступность, революционное движение или сепаратистская группировка, воспринимается государством не просто как угроза общественному порядку, но как экзистенциальный вызов самому принципу государственности. Государство видит в них не просто нарушителей закона, но претендентов на суверенитет, пусть и частичный. Альтернативные источники насилия подрывают легитимность государства на двух уровнях. На практическом уровне они демонстрируют неспособность государства обеспечить монополию на принуждение, то есть неэффективность его основной функции. На символическом уровне они ставят под сомнение сам принцип исключительности государственного насилия, разрушая миф о государстве как единственном законном источнике принуждения. Отношение государства к альтернативным источникам насилия не ограничивается простым противостоянием. Государство стремится не только уничтожить конкурирующие центры силы, но и делегитимизировать сам принцип негосударственного насилия. Оно создает дискурсивные практики, в которых любое негосударственное насилие автоматически маркируется как преступное, террористическое или варварское. Тем самым государство стремится утвердить не только фактическую, но и концептуальную монополию на насилие.
Парадоксальным образом, чем успешнее государство в установлении монополии на насилие, тем более хрупкой становится его легитимность. Полностью монополизировав насилие, государство становится единственной мишенью для недовольства подданных. В отсутствие альтернативных центров силы, которые могли бы разделить ответственность за социальные травмы, государство оказывается единственным объектом обвинений в несправедливости и угнетении.
Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной диалектикой государственной монополии на насилие. Изначально эта монополия устанавливается как защитный механизм: государство обещает избавить подданных от произвола частного насилия, от войны всех против всех. Монополия на насилие преподносится как гарантия безопасности и справедливости. Но по мере того, как государство успешно устраняет альтернативные источники насилия, оно само становится единственным источником принуждения, с которым сталкиваются подданные в повседневной жизни.
В совершенном государстве, достигшем абсолютной монополии на насилие, подданные никогда не сталкиваются с негосударственным принуждением. Все формы насилия, которые они испытывают — от полицейского контроля до налогового принуждения, от военной повинности до бюрократического давления — исходят от государства. В такой ситуации государство неизбежно становится объектом ненависти. Не имея возможности сравнивать государственное насилие с альтернативными формами принуждения, подданные воспринимают государственное принуждение как избыточное и несправедливое. Эта диалектика порождает парадоксальную ситуацию: чем более эффективным становится государство в защите подданных от негосударственного насилия, тем более враждебно подданные относятся к самому государству. Успех государства в установлении монополии на насилие оборачивается против него самого, порождая кризис легитимности.
Подданные начинают воспринимать государство не как защитника от произвола, а как источник произвола. Этот парадокс усугубляется тем, что в отсутствие альтернативных источников насилия у подданных нет возможности для сравнения. Они не могут на собственном опыте убедиться, что государственное насилие является меньшим злом по сравнению с негосударственным. Историческая память о догосударственном хаосе постепенно стирается, и подданные начинают воспринимать государственное принуждение не как необходимую защиту, а как неоправданное угнетение.
Монополизация насилия государством приводит к формированию у подданных особого психологического состояния, которое можно описать через понятия ресентимента и отчуждения. Ресентимент — это затаенная обида, бессильная злоба, которая не находит прямого выхода и трансформируется в моральное осуждение. Отчуждение — это состояние разрыва между индивидом и социальными институтами, воспринимаемыми как чуждые и враждебные. Ресентимент подданных по отношению к государству имеет сложную структуру. С одной стороны, подданные осознают свою зависимость от государства и необходимость подчиняться его требованиям. С другой стороны, они испытывают глубокое недовольство этой зависимостью и стремятся к освобождению от государственного контроля. Не имея возможности открыто противостоять государству, они развивают скрытые формы сопротивления: от пассивного саботажа до морального осуждения государственных институтов. Отчуждение проявляется в том, что подданные перестают воспринимать государство как выражение коллективной воли и начинают видеть в нем чуждую, внешнюю силу. Государство, изначально создаваемое как инструмент защиты общих интересов, превращается в глазах подданных в автономную машину принуждения, действующую в собственных интересах. Это отчуждение усиливается по мере того, как государство совершенствует свой аппарат принуждения и расширяет сферу своего контроля. Развитие ресентимента и отчуждения неизбежно приводит к кризису легитимности государства. Подданные начинают воспринимать государственные требования не как выражение общей воли, а как произвольные акты принуждения. Они подчиняются этим требованиям не из внутреннего убеждения, а из страха перед наказанием. Такое подчинение является крайне нестабильным и может быть разрушено при первом серьезном кризисе государственной власти. Этот кризис легитимности особенно опасен для современного государства, которое не может функционировать, опираясь исключительно на прямое принуждение. Современное государство требует активного сотрудничества подданных, их добровольного участия в государственных институтах. Когда подданные начинают воспринимать государство как чуждую силу, это сотрудничество становится невозможным, и государство теряет способность эффективно управлять обществом.
Столкнувшись с кризисом легитимности, порожденным монополией на насилие, государство вынуждено разрабатывать стратегии его преодоления. Эти стратегии направлены на то, чтобы либо создать иллюзию существования альтернативных источников насилия, либо перенаправить недовольство подданных с государства на другие объекты. Рассмотрим основные из этих стратегий.
Создание подконтрольной преступности. Одна из наиболее парадоксальных стратегий заключается в том, что государство намеренно допускает существование определенного уровня преступности или даже способствует ее созданию. Эта контролируемая преступность не представляет реальной угрозы для государственной монополии на насилие, но создает у подданных иллюзию существования альтернативных центров силы. Подданные, сталкиваясь с преступным насилием, начинают воспринимать государственное насилие как необходимую защиту. Их недовольство перенаправляется с государства на преступников, которые становятся объектом общественной ненависти. Государство же предстает в роли защитника от этого негосударственного насилия, что укрепляет его легитимность. Эта стратегия имеет древние корни: уже римские императоры понимали ценность гладиаторских боев и публичных казней не только как развлечения, но и как способа канализации общественного насилия. В современном контексте эта стратегия может принимать более тонкие формы: от негласной толерантности к определенным видам преступности до сложных схем сотрудничества между государственными органами и преступными группировками.
Создание образа скрытого врага. Другая стратегия заключается в создании образа скрытого врага, угрожающего обществу. Этот враг может быть представлен как внешняя сила, действующая через тайных агентов, или как внутренний заговор, направленный на подрыв государственных устоев. Важно, что этот враг остается невидимым для обычных подданных, что позволяет государству манипулировать его образом. Теории заговора, активно продвигаемые государством, служат двойной цели. Во-первых, они перенаправляют недовольство подданных с государства на мифического врага. Во-вторых, они легитимизируют усиление государственного контроля, представляя его как необходимую меру защиты от этого врага. Эта стратегия особенно эффективна в периоды социальной нестабильности, когда подданные ищут простые объяснения сложным проблемам. Образ скрытого врага предоставляет такое объяснение, одновременно укрепляя позиции государства как защитника от этого врага.
Развязывание внешнего конфликта. Внешний конфликт всегда был эффективным способом консолидации общества и укрепления государственной власти. В ситуации войны или международного кризиса недовольство подданных перенаправляется с собственного государства на внешнего врага. Государственное насилие воспринимается как необходимая защита от внешней угрозы, что временно снимает проблему его легитимности. Более того, внешний конфликт позволяет государству требовать от подданных дополнительных жертв и ограничений, которые в мирное время вызвали бы сопротивление. Военное положение или угроза войны становятся оправданием для усиления государственного контроля и подавления оппозиции. Эта стратегия имеет древние исторические корни: еще Макиавелли советовал правителям использовать внешние конфликты для укрепления внутренней власти. В современном контексте эта стратегия может принимать форму не только прямых военных действий, но и торговых войн, информационного противостояния или дипломатических кризисов.
Культивирование стоицизма и мазохизма. Наконец, государство может стремиться к изменению самого отношения подданных к насилию, культивируя у них стоическое принятие страдания или даже определенную форму мазохизма. Через систему образования, пропаганду и культурные практики государство формирует у подданных представление о насилии как о необходимой и даже благотворной силе. В рамках этой стратегии государственное насилие представляется как необходимое испытание, укрепляющее характер и формирующее настоящих граждан. Подданные учатся не только терпеть государственное принуждение, но и находить в нем определенное моральное удовлетворение, воспринимая его как признак принадлежности к политическому целому, и способность государства их защитить. Эта стратегия особенно характерна для тоталитарных режимов, которые стремятся к формированию «нового человека», способного не только терпеть, но и любить государственное насилие. Однако элементы этой стратегии можно обнаружить и в демократических обществах, где культивируется определенная форма «гражданского мазохизма» — готовность терпеть неудобства и ограничения ради общего блага.
Катастрофа государственной монополии на насилие представляет собой не временный кризис, а фундаментальное противоречие, заложенное в самой природе государства. Стремясь к монополизации насилия, государство неизбежно порождает ресентимент и отчуждение подданных, что подрывает его легитимность. Стратегии преодоления этого кризиса могут временно смягчить его проявления, но не устраняют его сущностные причины. Государство, осознающее опасность полной монополизации насилия, может сознательно допускать существование ограниченных альтернативных центров силы, контролируя их, но не устраняя полностью. Такое «самоограничение» государственной власти может парадоксальным образом укрепить ее легитимность. Однако такое самоограничение противоречит самой природе государства, его стремлению к абсолютизации власти. Поэтому более вероятно, что государство будет продолжать стремиться к полной монополии на насилие, одновременно разрабатывая все более изощренные стратегии преодоления порождаемого этой монополией кризиса легитимности.
@mrDestinyFree
#ГосударствоИНасилие, #МонополияНаНасилие, #ЛегитимностьВласти, #ПолитическаяФилософия, #КарлШмитт, #Ресентимент, #Отчуждение, #ТеорияЗаговора


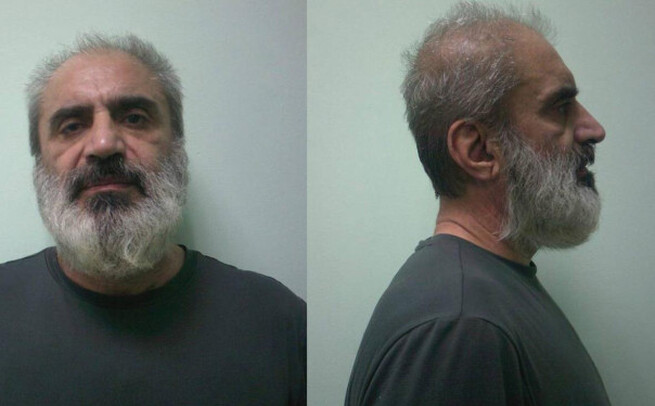
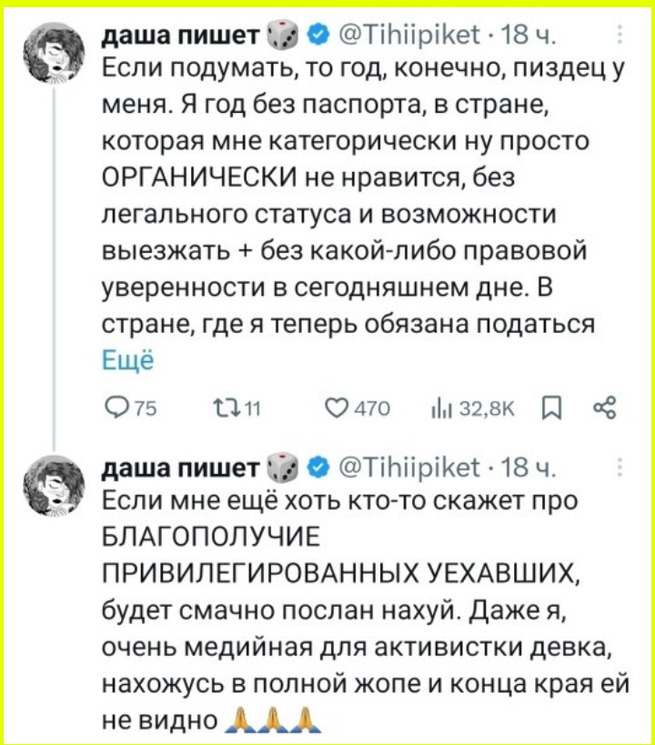


Оценил 1 человек
1 кармы