
«Истина — дитя времени, а не авторитета» — Фрэнсис Бэкон
Традиционный образ Иисуса Христа, транслируемый через институциональное христианство, представляет его как воплощение абсолютной истины, краеугольный камень иерархии и вечный источник неизменной традиции. Этот образ настолько глубоко проник в коллективное сознание, что даже сама попытка его переосмысления кажется многим кощунственной. Однако, если набраться дерзости и прочитать евангельские тексты, через призму постструктуралистского анализа, открывается совершенно иная фигура – фигура деконструктора, разрушителя бинарных оппозиций и подрывателя метафизики присутствия. Что если Иисус из Назарета был первым постмодернистом задолго до появления самого термина?
В этой статье я намерен показать, что евангельский Иисус не просто разделяет многие интуиции постмодернистской мысли, но его слова и действия можно рассматривать как радикальную деконструкцию устоявшихся структур власти, бинарных оппозиций и метанарративов. Мы проследим, как его риторические стратегии предвосхитили методологию Жака Деррида, как его отношение к власти созвучно анализу Мишеля Фуко, и как его притчи разрушают метанарративы по типологии Жан-Франсуа Лиотара.
Богословие постмодерна, представленное в работах Джона Капуто и Питера Роллинса, не изобретает нечто новое, а скорее возвращается к исходной субверсивной силе евангельского послания, освобождая его от догматических наслоений двух тысячелетий. В этом смысле, как писал Капуто, «радикальная герменевтика не имеет ничего общего с развенчанием религии — она скорее выявляет радикальность самой религии, особенно библейской религии, с ее непреклонным несогласием с настоящим порядком вещей».
Современное христианство, часто позиционирует себя как оплот незыблемых ценностей и абсолютной истины в мире релятивизма и моральной неопределенности. Церковь представляет себя хранительницей единственно верного метанарратива, который объясняет все: происхождение мира, предназначение человека, смысл истории и ее конечную цель. Эта претензия на абсолютную истину легитимирует строгую иерархическую структуру, где авторитет передается сверху вниз — от Бога через различные инстанции к верующим.
Католическая церковь с ее доктриной папской непогрешимости, православные церкви с культом традиции и евангелические деноминации с буквальным прочтением Библии — все они, при всех различиях, объединены убеждением, что обладают привилегированным доступом к абсолютной и неизменной истине. Эта позиция требует не только иерархической структуры, но и четкого разграничения ортодоксии и ереси, своих и чужих, чистого и нечистого.
Прежде чем мы сможем увидеть «постмодернистского Иисуса», необходимо очертить основные характеристики постмодернистской мысли. Жан-Франсуа Лиотар в своем программном труде «Состояние постмодерна» (1979) определил постмодернизм как «недоверие к метанарративам». Метанарративы — это всеобъемлющие объяснительные схемы, претендующие на универсальность и окончательность, будь то марксизм с его детерминистским взглядом на историю, просвещенческий рационализм с его верой в прогресс через разум, или религиозные системы с их телеологическим видением мироздания.
Лиотар показывает, что эти грандиозные нарративы всегда служат легитимации определенных властных структур. Например, метанарратив научного прогресса легитимирует власть технократов и экспертов, а метанарратив национального единства — власть государства и его аппарата принуждения. Именно поэтому постмодернизм выдвигает на первый план локальные, множественные, часто конфликтующие друг с другом нарративы.
Мишель Фуко развил эту критику властных структур, показывая, как знание неразрывно связано с властью. В работах «Надзирать и наказывать» и «История сексуальности» он исследовал, как власть функционирует не только через явное принуждение, но и через тонкие механизмы нормализации и дисциплины. Фуко ввел понятие «микрофизики власти», указывающее на то, что власть пронизывает все социальные отношения, а не только исходит от суверена или государства. Он также разработал концепцию «пастырской власти», которая особенно релевантна для нашего анализа. Пастырская власть — это форма власти, направленная на заботу о благе каждого отдельного индивида, но при этом требующая абсолютного повиновения пастырю. Эта модель, по Фуко, лежит в основе современных форм управления, и имеет религиозные корни.
Жак Деррида, возможно, самая значимая фигура для нашего исследования, разработал метод деконструкции — аналитической стратегии, направленной на выявление внутренних противоречий и неустойчивостей в текстах и дискурсах. Деконструкция показывает, что предполагаемые бинарные оппозиции (например, природа/культура, мужское/женское, речь/письмо) никогда не являются нейтральными, а всегда выстроены иерархически, причем один термин привилегирован над другим. Деррида вводит понятие différance — неологизм, объединяющий «различие» и «отсрочку» — чтобы показать, что значение никогда не присутствует полностью, а всегда отложено, всегда отсылает к другим значениям в бесконечной цепи означающих.
Деррида также критикует «метафизику присутствия» — фундаментальное допущение западной философии о том, что существует некая непосредственная самотождественность, первоначало или центр, который стабилизирует всю систему значений. Он показывает, что такой центр всегда является фиктивным, а любая система значений по сути децентрирована.
Жан Бодрийяр вносит в постмодернистский дискурс понятие «симулякра» — образа, который не имеет соответствия в реальности, но создает иллюзию этого соответствия. В современном мире симулякры порождают «гиперреальность», в которой становится невозможно отличить реальное от его воображаемых моделей. Репрезентация не просто замещает реальность, но становится более реальной, чем сама реальность.
Если мы обратимся к современной теологии, то увидим, что теологи постмодерна, такие как Джон Капуто, уже начали переосмысление христианства в постструктуралистских терминах. В своих работах «Слабость Бога: Теология события» и «Против этики» Капуто развивает «слабую теологию», опираясь на концепцию Деррида о «мессианстве без мессианизма».
Капуто подрывает традиционную теологию, отказываясь от концепции Бога как всемогущего суверена, управляющего миром. Вместо этого он говорит о «событии Бога» — непредсказуемом, неуправляемом призыве, который дестабилизирует существующие порядки. Бог Капуто не всемогущ в метафизическом смысле, а «слаб» — он действует через призыв к справедливости, а не через принуждение.
Капуто пишет: «Имя Бога — это имя события, заключенного в имени Бога, события, которое взывает к нам, обещает нам, но также требует от нас, провоцирует и беспокоит нас». Этот Бог-событие не гарантирует ничего, но открывает пространство возможности для непредвиденного, для справедливости, которая всегда еще должна прийти.
Такое понимание радикально отличается от ортодоксальной теологии с ее метафизическими утверждениями о бытии Бога. «Слабая теология» не утверждает, что знает, кто или что такое Бог, но рассматривает «Бога» как имя для события, которое нарушает предсказуемость мира и открывает его для непредвиденного будущего.
Питер Роллинс, ирландский философ и теолог, идет еще дальше в своем переосмыслении христианства. В книгах «Ортодоксальная ересь» и «Идолоборчество» Роллинс предлагает радикальную критику институциональной церкви и призывает к «пиротеологии» — теологическому подходу, который сжигает религиозные идолы, включая образ Бога как сверхъестественного существа.
Центральный тезис Роллинса заключается в том, что истинная вера не связана с принятием определенных доктринальных положений или метафизических утверждений, а скорее с трансформативной практикой любви. Он предлагает «атеизм для Бога» — отказ от Бога как объекта желания, инструментализируемого для удовлетворения наших духовных потребностей.
Роллинс активно экспериментирует с альтернативными формами религиозного собрания, такими как «Икс» в Белфасте — коллектив, который использует искусство, литургию и перформанс для создания пространства трансформации, а не для утверждения доктринальных истин. Эти эксперименты — попытка воплотить постмодернистское христианство, которое отказывается от иерархии, метафизики присутствия и претензий на абсолютное знание.
Роллинс пишет: «Вместо того, чтобы думать о христианстве как о системе верований, которую нужно принять или отвергнуть, мы должны рассматривать его как определенный способ бытия-в-мире, способ, который преобразует нас через участие в радикальной любви Христа».
Концепции Капуто и Роллинса представляют собой не просто адаптацию христианства к постмодернистской эпохе, но возвращение к радикальной сущности евангельского послания, погребенной под двумя тысячелетиями институциональных наслоений. Именно эту радикальную сущность мы и будем искать в словах и действиях исторического Иисуса.
Иисус против иерархий: субверсия порядка власти
Иерархическая структура Палестины времен ИисусаПалестина I века была пронизана множественными иерархическими структурами, которые пересекались и усиливали друг друга. Римская имперская иерархия, с ее жестким разделением на граждан и неграждан, свободных и рабов, накладывалась на иерархию иудейского общества, создавая сложную сеть властных отношений.
В римской системе высшую власть представлял император, чьим наместником в Иудее был прокуратор (во времена Иисуса — Понтий Пилат). Римляне опирались на местную аристократию — царя Ирода и его династию, которая, хотя и считалась иудейской, была глубоко эллинизирована и рассматривалась многими иудеями как предательница национальных интересов.
В религиозной сфере доминировали саддукеи — партия первосвященнической аристократии, контролировавшая Храм, и фарисеи — партия книжников и знатоков Закона, оказывавшая значительное влияние на толкование Торы. Синедрион, верховный религиозно-политический орган иудеев, был также структурирован иерархически, с первосвященником во главе.
Экономическая иерархия разделяла общество на земельную аристократию, мелких землевладельцев, ремесленников, безземельных поденщиков и рабов. Эта экономическая стратификация усугублялась системой налогов — как римских, так и храмовых — которая еще больше обедняла низшие слои.
Наконец, существовала иерархия ритуальной чистоты, которая разделяла людей на «чистых» и «нечистых», причем «нечистыми» считались не только язычники, но и многие категории иудеев: женщины во время менструации, прокаженные, сборщики налогов (из-за контакта с язычниками) и так называемые «am ha'aretz» («люди земли») — необразованные простолюдины, недостаточно строго соблюдающие Закон.
Нарушение этих иерархических порядков влекло за собой серьезные последствия: от социального остракизма и экономических санкций до телесных наказаний и казни. Римляне жестоко подавляли любые проявления сопротивления, а иудейские религиозные власти могли отлучить нарушителя от общины, что означало социальную смерть.
В этом контексте слова и действия Иисуса приобретают особую субверсивную силу. Его служение можно рассматривать как систематическую деконструкцию всех существующих иерархий — политических, религиозных, экономических и социальных.
В Нагорной проповеди Иисус провозглашает: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие» (Лк. 6:20), тем самым переворачивая экономическую иерархию. В оригинальном греческом тексте используется термин «πτωχός», обозначающий не просто бедняка, а абсолютно нищего, того, кто находился на самом дне социальной лестницы. Отождествляя именно этих людей с Царством Небесным, Иисус подрывает саму легитимность экономического неравенства.
Иисус атакует религиозную иерархию, осуждая показную религиозность религиозной элиты: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23:4). Он противопоставляет официальному храмовому культу, контролируемому саддукейской аристократией, непосредственную связь с Богом через молитву: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне» (Мф. 6:6).
Особенно радикально Иисус нарушает иерархию ритуальной чистоты. Он прикасается к прокаженным (Мф. 8:3), позволяет кровоточивой женщине прикоснуться к себе (Мк. 5:25-34), принимает пищу с «мытарями и грешниками» (Мф. 9:10-11). Эти действия не просто нарушают табу — они подрывают саму систему, которая разделяет людей на «чистых» и «нечистых».
Иисус также деконструирует гендерную иерархию, включая женщин в свой ближайший круг (Лк. 8:1-3) и общаясь с ними на равных, как в случае с самарянкой (Ин. 4:7-26). В патриархальном обществе, где женщины имели низкий социальный статус, такое поведение было провокационным.
Наконец, Иисус подрывает политическую иерархию Римской империи. Хотя он избегает прямого политического противостояния («Отдавайте кесарево кесарю», Мф. 22:21), его провозглашение Царства Божьего представляет собой альтернативную политическую реальность. Его триумфальный въезд в Иерусалим (Мф. 21:1-11) выглядел как пародия на римские триумфальные процессии — вместо военачальника на боевом коне Иисус въезжает на осле, символе мира.
Особенно интересно рассмотреть деятельность Иисуса через призму фукианского анализа власти. Фуко в своих поздних лекциях исследовал «пастырскую власть» как модель, которая позже легла в основу современных форм управления. Пастырская власть, по Фуко, характеризуется:
Заботой о благе каждого отдельного индивида («каждой овцы»).
Требованием полного подчинения пастырю.
Индивидуализирующим знанием — пастырь должен знать внутреннее состояние каждой овцы.
Стремлением к спасению паствы.
На первый взгляд может показаться, что Иисус с его метафорой доброго пастыря (Ин. 10:1-18) воплощает именно эту модель. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что он фундаментально подрывает ее.
Во-первых, Иисус отказывается от привилегированного положения пастыря: «Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). Вместо того чтобы требовать жертв от своих последователей, он сам становится жертвой. Это переворачивает традиционную динамику власти.
Во-вторых, Иисус отказывается от всезнающей позиции контроля. Когда его спрашивают о времени конца, он отвечает: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). Это признание ограниченности знания разрушает претензию на всеохватывающее «пастырское» знание.
В-третьих, Иисус подрывает саму структуру иерархического подчинения: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20:25-26). Это не просто моральное наставление, а радикальное переустройство властных отношений.
Более того, Иисус разрушает «дисциплинарные матрицы», о которых писал Фуко. Дисциплинарная власть функционирует через нормализацию, классификацию и надзор. Иисус же постоянно нарушает границы классификаций (чистое/нечистое, свое/чужое), отвергает нормализующую логику («не судите, да не судимы будете», Мф. 7:1) и избегает механизмов надзора (часто уходит от толпы, говорит притчами, смысл которых скрыт от большинства).
В знаменитом эпизоде с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин. 8:1-11), Иисус не только спасает ее от казни, но и подрывает саму дисциплинарную систему, которая делала ее тело объектом публичного наказания. Его слова «кто из вас без греха, первый брось на нее камень» разрушают позицию морального превосходства, с которой действовала дисциплинарная власть.
"Микрофизика власти" Фуко позволяет нам увидеть, как действия Иисуса систематически подрывают не только явные центры власти (Рим, Храм), но и капиллярные, распределенные формы власти, пронизывающие повседневные отношения. Его трапезы с "грешниками", исцеления в субботу, разговоры с женщинами и самарянами — все эти действия можно рассматривать как микроакты сопротивления, которые разрушают "режим истины" того времени.
Иисус и деконструкция бинарных оппозиций
Жак Деррида показал, что западная метафизическая традиция структурирована вокруг бинарных оппозиций: природа/культура, мужское/женское, душа/тело, речь/письмо, присутствие/отсутствие и т.д. Эти оппозиции никогда не нейтральны — один термин всегда привилегирован над другим. Более того, привилегированный термин определяет себя через исключение и подавление другого.
Деконструкция — это аналитическая стратегия, которая выявляет внутренние противоречия и нестабильности в этих бинарных структурах. Деконструктивный жест не просто переворачивает иерархию, но показывает, как каждый термин оппозиции содержит в себе след своего предполагаемого "другого", демонстрируя тем самым искусственность самого бинарного разделения.
Теперь обратимся к Иисусу и посмотрим, как его слова и действия деконструируют центральные бинарные оппозиции своего времени.
Чистое/нечистое
Оппозиция чистого и нечистого была фундаментальной для религиозного мировоззрения Иудеи I века. Она определяла, кто мог участвовать в храмовом культе, с кем можно было вступать в контакт, какую пищу можно было есть. Законы о ритуальной чистоте создавали систему социальных границ, определяющих идентичность иудейской общины.
Иисус последовательно деконструирует эту оппозицию:
Он прикасается к прокаженным (Мф. 8:3), вместо того чтобы быть оскверненным их нечистотой, он передает им свою чистоту через исцеление.
Когда кровоточивая женщина прикасается к нему (Мк. 5:25-34), по закону это должно было сделать его нечистым, но вместо этого она исцеляется, а он не оскверняется.
Он объявляет: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст» (Мф. 15:11), тем самым переопределяя саму концепцию ритуальной чистоты в этических, а не ритуальных терминах.
В этих эпизодах Иисус не просто отвергает оппозицию чистого/нечистого, но показывает ее условность и произвольность. Он демонстрирует, что категория "чистого" конституирует себя через исключение так называемого "нечистого", но это исключение всегда произвольно. Как пишет Марк: "Тем самым Иисус объявил чистой всякую пищу" (Мк. 7:19) — этот комментарий евангелиста указывает на деконструктивное измерение действий Иисуса.
Свои/чужие
Другая фундаментальная оппозиция — разделение на "своих" и "чужих", иудеев и язычников, соотечественников и иностранцев. Эта оппозиция была особенно сильна в контексте римской оккупации и усиливающегося иудейского национализма.
Деконструкция этой оппозиции в словах и делах Иисуса проявляется в нескольких ключевых эпизодах:
Притча о добром самарянине (Лк. 10:25-37) переворачивает обычные ожидания: священник и левит (классические представители "своих") проходят мимо раненого, а самарянин ("чужой", представитель народа, с которым иудеи враждовали) оказывает ему помощь.
В разговоре с хананеянкой (Мф. 15:21-28) Иисус сначала воспроизводит стандартное разделение на "детей" (иудеев) и "псов" (язычников), но затем позволяет женщине деконструировать это разделение через ее остроумный ответ: "но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их" (Мф. 15:27).
В самарийском городе Сихарь Иисус просит воды у самарянки, нарушая два табу: общаясь с самарянами и разговаривая наедине с женщиной (Ин. 4:7-26).
Особенно значима его встреча с римским сотником (Мф. 8:5-13). Иисус не только исцеляет слугу "врага", но и высоко оценивает веру сотника: "и в Израиле не нашел Я такой веры" (Мф. 8:10). Он завершает эпизод пророчеством: "Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю" (Мф. 8:11-12), что полностью переворачивает оппозицию "свои/чужие".
Эта деконструкция достигает кульминации в миссионерской заповеди воскресшего Иисуса: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. 28:19). Новая община, создаваемая Иисусом, трансцендирует национальные и этнические границы.
Праведник/грешник
Оппозиция праведника и грешника была еще одной фундаментальной бинарной структурой иудейского общества I века. Она определяла социальный статус, религиозные права и сами возможности спасения.
Иисус деконструирует эту оппозицию несколькими способами:
Он общается и разделяет трапезу с теми, кого общество считает грешниками: "Почему Учитель ваш ест с мытарями и грешниками?" (Мф. 9:11).
Он рассказывает притчу о фарисее и мытаре (Лк. 18:9-14), где "грешник" оказывается оправданным, а "праведник" — нет.
В притче о блудном сыне (Лк. 15:11-32) Иисус показывает, что старший "праведный" сын может оказаться дальше от Отца, чем младший "грешный" сын, который раскаялся.
Показательна история женщины, помазавшей ноги Иисуса миром (Лк. 7:36-50). Симон фарисей, считающий себя праведником, осуждает Иисуса за то, что тот позволяет "грешнице" прикасаться к себе. В ответ Иисус рассказывает притчу о двух должниках, прощенных заимодавцем, и завершает обличением Симона: "прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит" (Лк. 7:47).
Это не просто переворачивание иерархии, но более глубокая деконструкция: Иисус показывает, что категория "праведности" конституируется через исключение и стигматизацию "грешников", но сам этот жест исключения делает "праведника" менее праведным, чем "грешник", который осознает свою нужду в прощении.
Жизнь/смерть
Наконец, Иисус деконструирует самую фундаментальную из всех бинарных оппозиций — оппозицию жизни и смерти. В евангельском нарративе это происходит на нескольких уровнях:
В своих учениях Иисус переопределяет саму концепцию жизни: "Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит душу свою ради Меня, тот сбережет ее" (Лк. 9:24). Здесь "жизнь" и "смерть" меняются местами в парадоксальной формулировке, которая подрывает саму их оппозицию.
Иисус исцеляет и воскрешает мертвых (дочь Иаира, Мк. 5:22-43; сын наинской вдовы, Лк. 7:11-17; Лазарь, Ин. 11:1-44), демонстрируя проницаемость границы между жизнью и смертью.
Его собственная смерть и воскресение становятся окончательной деконструкцией этой оппозиции. В распятии он принимает самую унизительную форму смерти, но через воскресение превращает ее в триумф жизни.
Павел, первый теолог христианства, понимает это деконструктивное измерение смерти и воскресения Христа, когда пишет: "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (1 Кор. 15:55). Смерть становится частью жизни, а не ее противоположностью.
Сравнивая деконструктивные стратегии Иисуса и Дерриды, мы обнаруживаем удивительные параллели:
Оба используют парадоксальные формулировки, которые подрывают логику бинарных оппозиций: "Последние станут первыми" (Мф. 20:16) у Иисуса и "лекарство как яд" (pharmakon) у Дерриды.
Оба показывают, как привилегированный термин оппозиции тайно зависит от подчиненного: "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные" (Мф. 9:12) у Иисуса перекликается с деконструкционным анализом Дерриды, показывающим, как "здоровье" определяет себя через исключение "болезни".
Оба демонстрируют нестабильность бинарных категорий: притчи Иисуса о Царстве Небесном, которое "подобно закваске" (Мф. 13:33), разрушают стабильные категории сакрального, так же как анализ Дерридой понятия "архива" разрушает стабильность категорий памяти и забвения.
Разумеется, существует и принципиальное различие: Деррида работает внутри философского дискурса, тогда как Иисус действует внутри религиозного и политического контекста. Однако эта разница не отменяет структурного сходства их деконструктивных жестов.
Проповеди Иисуса как деконструкция
Жак Деррида ввел неологизм "différance", объединяющий два значения французского глагола "différer": "различаться" и "откладывать". Différance указывает на то, что значение никогда не присутствует полностью, а всегда откладывается, всегда находится в процессе становления через игру различий.
Если мы посмотрим на проповеди Иисуса через эту призму, мы увидим, что они функционируют именно как механизмы différance, постоянно откладывающие и рассеивающие окончательный смысл.
Притчи Иисуса — это не просто иллюстрации моральных уроков, как их часто представляют, но сложные нарративные структуры, которые скорее затемняют, чем проясняют значение. Когда ученики спрашивают Иисуса, почему он говорит притчами, он отвечает: "Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано" (Мф. 13:11). Этот ответ можно прочитать как признание того, что притчи функционируют как деконструктивные тексты, открытые для множественных интерпретаций, сопротивляющиеся однозначной детерминации смысла.
Например, притча о сеятеле (Мф. 13:3-9) завершается загадочным рефреном: "Кто имеет уши слышать, да слышит!" Это приглашение к интерпретации указывает на то, что притча не имеет единственного, окончательного значения, но требует активной герменевтической работы слушателя.
Притчи о Царстве Небесном особенно показательны как примеры différance. Они начинаются с формулы "Царство Небесное подобно...", за которой следуют самые разнообразные и часто неожиданные образы: горчичное зерно, закваска, сокровище в поле, жемчужина, невод. Эти образы не определяют Царство, а скорее отсрочивают его определение, создавая подвижное поле значений, которое никогда не стабилизируется в окончательной дефиниции.
Иисус также использует парадоксы, которые функционируют как механизмы différance: "Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее" (Мф. 16:25). Этот парадокс не может быть разрешен в рамках бинарной логики, он постоянно откладывает и рассеивает смысл, создавая пространство для непредвиденных интерпретаций.
Одним из самых ярких примеров деконструктивной стратегии Иисуса являются антитезы Нагорной проповеди, где он противопоставляет традиционное понимание Закона своей радикальной реинтерпретации: "Вы слышали, что сказано древним... А Я говорю вам..." (Мф. 5:21-48).
Эти антитезы можно прочитать как классический деконструктивный жест. Иисус не просто отвергает Закон, но показывает, как Закон уже содержит в себе возможность своего собственного преодоления. Он не добавляет ничего внешнего, но выявляет внутренние противоречия и неразрешенные напряжения в самом тексте Закона.
Например, в антитезе о клятве Иисус говорит: "Вы слышали, что сказано древним: 'не преступай клятвы'... А Я говорю вам: не клянись вовсе" (Мф. 5:33-34). Здесь он показывает, что само понятие клятвы предполагает возможность лжи, а следовательно, подрывает абсолютный авторитет Закона, который оно призвано защищать.
Эти антитезы функционируют как деконструктивный différance, постоянно откладывающий окончательное значение Закона, показывающий, что его значение всегда находится в процессе становления, всегда открыто для новых интерпретаций.
Показателен эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин. 8:1-11). Когда фарисеи и книжники приводят к Иисусу женщину, уличенную в прелюбодеянии, требуя ее побить камнями согласно Закону Моисея, Иисус сначала не отвечает, а наклонившись, пишет перстом на земле. Когда они продолжают настаивать, он произносит знаменитую фразу: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень", после чего снова наклоняется и пишет на земле.
Евангелист не сообщает, что именно писал Иисус, и это "пустое письмо" становится мощной метафорой différance — отсрочки окончательного значения Закона. Иисус ни отвергает, ни подтверждает Закон, но создает пространство задержки, в котором возможны новые интерпретации.
Жест письма на песке особенно выразителен в контексте деконструкции Деррида. В работе "О грамматологии" Деррида критикует западную "логоцентрическую" традицию, которая привилегирует речь над письмом, рассматривая письмо как вторичную, производную форму. Иисус, традиционно представляемый как воплощение Логоса ("В начале было Слово", Ин. 1:1), здесь прибегает именно к письму, причем к наиболее эфемерной его форме — письму на песке, которое вскоре исчезнет.
Это "исчезающее письмо" становится метафорой самой différance — постоянного откладывания и рассеивания значения, которое никогда не стабилизируется в окончательной форме.
В Евангелии от Марка мы находим интригующее замечание: "И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял всё" (Мк. 4:33-34). Этот комментарий указывает на наличие нескольких уровней или регистров в учении Иисуса: публичного, экзотерического, и частного, эзотерического.
Такая стратегия множественных регистров созвучна деконструктивному подходу Деррида, который часто работал с текстами на нескольких уровнях одновременно, выявляя скрытые противоречия и неразрешенные напряжения. Деррида считал, что любой текст содержит в себе множество противоречивых смысловых пластов, и задача деконструкции — не привести их к единству, а показать продуктивность их противоречия.
Иисус, создавая различные регистры чтения для разных аудиторий, демонстрирует похожую стратегию. Его притчи функционируют как открытые тексты, которые могут быть прочитаны по-разному в зависимости от герменевтической позиции читателя.
Обратимся к притче о сеятеле и ее интерпретации (Мк. 4:3-20). Сначала Иисус рассказывает саму притчу, затем, наедине с учениками, дает ее интерпретацию. Но даже эта интерпретация не исчерпывает значения притчи, а скорее открывает новое пространство для интерпретации.
Такой подход деконструирует саму идею авторитетного, окончательного толкования. Даже интерпретация, данная самим Иисусом, становится не конечной точкой, а новым началом герменевтического процесса.
Понятие Царства Божьего (или Царства Небесного) занимает центральное место в проповеди Иисуса. Однако вместо того, чтобы дать четкое определение этого понятия, Иисус предлагает серию притч и метафор: Царство подобно горчичному зерну, закваске, сокровищу в поле, драгоценной жемчужине, неводу, закинутому в море (Мф. 13:31-52).
Эти метафоры не сводятся к единой концепции, но создают то, что можно назвать нарративом-"рифмой" — систему образов, которые перекликаются друг с другом, создавая подвижное поле значений. Царство не определяется через единственную дефиницию, а скорее "показывается" через серию образов, каждый из которых высвечивает один из его аспектов.
Эта стратегия напоминает концепцию "семейных сходств" позднего Витгенштейна: различные употребления слова связаны не общей сущностью, а сетью пересекающихся и перекрещивающихся сходств. Царство Божье в притчах Иисуса функционирует именно так — как понятие, которое не имеет единой сущности, но создается через сеть "семейных сходств" между различными образами.
Такой подход деконструирует метафизическую идею сущности — представление о том, что за множеством проявлений стоит единая, стабильная сущность, которую можно определить. Вместо этого Иисус предлагает модель значения, основанную на игре различий и сходств, что удивительно созвучно постструктуралистскому пониманию языка.
Одной из самых загадочных черт Евангелия от Марка является так называемая "мессианская тайна" — постоянное требование Иисуса не разглашать его мессианскую идентичность. Когда Петр исповедует его Мессией, Иисус "запретил им, чтобы никому не говорили о Нем" (Мк. 8:30). После преображения он приказывает ученикам "никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых" (Мк. 9:9).
Эту "мессианскую тайну" можно интерпретировать как форму апофатики — богословского подхода, который подчеркивает невыразимость божественного и ограниченность языка в говорении о Боге. Иисус не просто скрывает свою идентичность из тактических соображений, он указывает на фундаментальную неадекватность любых титулов и определений.
Апофатика Иисуса особенно ярко проявляется в эпизоде с богатым юношей (Мк. 10:17-22). Когда юноша обращается к нему "Учитель благий", Иисус отвечает: "Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог". Этот ответ можно прочитать как отрицание Иисусом своей божественности, но его можно прочитать и как апофатический жест, указывающий на неадекватность любых категорий и определений, в том числе категории "благости".
Такой апофатический подход созвучен деконструкции Деррида, который постоянно подчеркивал ограниченность языка и невозможность окончательного определения. Деррида развивал концепцию "неразрешимых" (indécidables) — понятий, которые невозможно определить в рамках бинарной логики. Мессианская идентичность Иисуса в Евангелиях функционирует именно как такое "неразрешимое", постоянно ускользающее от окончательного определения.
В этом контексте важен эпизод с учениками на дороге в Эммаус (Лк. 24:13-35). Двое учеников идут в Эммаус, обсуждая события распятия. К ним присоединяется воскресший Иисус, но они его не узнают. Он объясняет им Писания, показывая, как они указывают на Мессию, но они по-прежнему не узнают его. Только когда он преломляет хлеб, "открылись у них глаза, и они узнали Его. И Он стал невидим для них" (Лк. 24:31).Этот эпизод можно прочитать как аллегорию интерпретации. Смысл текста (в данном случае, Писаний) не дан непосредственно, но открывается в процессе интерпретации. Более того, сам момент понимания связан с исчезновением объекта понимания — когда ученики узнают Иисуса, он становится невидимым для них.
Этот парадокс узнавания-в-исчезновении созвучен деконструктивному пониманию текста. Для Деррида смысл текста никогда не присутствует полностью, но всегда находится в процессе становления через игру различий. Понимание не является схватыванием присутствующего смысла, но скорее участием в игре значений, которая никогда не завершается.
История Эммауса показывает, что узнавание Иисуса — понимание его идентичности — происходит не в момент его физического присутствия, а в момент его исчезновения. Это противоречит метафизике присутствия, которая предполагает, что истина наиболее полно раскрывается в момент непосредственного присутствия. Вместо этого история Эммауса предлагает модель истины, которая раскрывается в отсутствии, в следе, в воспоминании — что удивительно созвучно деконструктивному пониманию значения.
Сам факт существования четырех канонических Евангелий, которые представляют различные, иногда противоречивые версии жизни и учения Иисуса, указывает на принципиальную полифоничность христианского откровения. Церковь, канонизируя четыре различных текста, а не создавая единую "гармонизированную" версию, имплицитно признала множественность интерпретаций как конститутивный элемент христианского понимания.
Михаил Бахтин в своем анализе Достоевского ввел понятие "полифонического романа" — текста, в котором различные голоса сосуществуют, не подчиняясь единому авторскому голосу. Новозаветный канон с его четырьмя Евангелиями можно рассматривать как прототип такого полифонического текста.
Особенно показательны различия в хронологии и акцентах между синоптическими Евангелиями (Матфей, Марк, Лука) и Евангелием от Иоанна. В синоптических Евангелиях служение Иисуса продолжается один год и сосредоточено в Галилее, тогда как у Иоанна оно длится три года и в основном происходит в Иудее. Синоптики подчеркивают социально-этические аспекты учения Иисуса, тогда как Иоанн фокусируется на его мистической и метафизической стороне.
Эти различия не являются просто историческими неточностями, как часто считают критики, но отражают множественность перспектив, через которые может быть понято учение Иисуса. Канон, включающий эти различные перспективы, не стремится к их гармонизации, но признает их продуктивное противоречие.
Такая полифоническая модель текста созвучна постструктуралистскому пониманию письма как пространства множественных, часто противоречивых смыслов. Если для структурализма множественность интерпретаций была проблемой, которую следовало решить путем нахождения "правильного" кода, то для постструктурализма она является конститутивным элементом текстуальности как таковой.
Евангелия в этом смысле можно рассматривать как программно полифонический текст, который не только допускает, но и требует множественности интерпретаций.
Против метафизики присутствия: отсроченное пришествие
Одним из ключевых мишеней деконструкции Дерриды была так называемая "метафизика присутствия" — фундаментальное допущение западной философии о том, что истина, значение, сознание или бытие присутствуют непосредственно, являются самотождественными и доступными для полного постижения.
Метафизика присутствия проявляется в различных формах: как привилегирование речи над письмом (поскольку речь предполагает непосредственное присутствие говорящего), как идеал прозрачного самосознания, как представление о Боге как о полностью присутствующем себе бытии, как убеждение в возможности окончательного понимания текста.
Деррида показывает, что эта метафизика присутствия никогда не может быть полностью реализована, поскольку присутствие всегда уже содержит в себе отсутствие, а идентичность всегда уже содержит различие. Любая форма присутствия оказывается "зараженной" отсутствием, любая самотождественность — различием.
Евангельский Иисус также подрывает метафизику присутствия, особенно в своих эсхатологических учениях. Иудаизм I века ожидал немедленного установления Царства Божьего, непосредственного присутствия Бога в истории. Иисус же настаивает на неопределенности времени конца: "О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец" (Мк. 13:32).
Эта "отсроченная парусия" (второе пришествие Христа) становится центральной проблемой раннего христианства. Павел в своих посланиях постоянно обращается к ней, развивая сложную теологию "уже и еще не" — Царство уже присутствует в истории через церковь и Дух, но еще не реализовано полностью.
Такая "отсрочка" конечного присутствия Бога в истории созвучна деконструктивной критике метафизики присутствия. Они противостоит теологической или метафизической эсхатологии, которая видит историю как движение к конечной точке полного присутствия. Вместо этого эсхатология Иисуса открывает историю как пространство неопределенности, где божественное присутствие всегда откладывается, всегда еще должно прийти.
В Евангелии от Иоанна мы находим наиболее развернутое учение Иисуса о Духе. Дух представлен здесь как парадоксальная форма присутствия-в-отсутствии: "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит" (Ин. 3:8). Дух невидим и неуловим, но его действие реально и ощутимо.
Более того, Иисус связывает приход Духа со своим собственным уходом: "Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (Ин. 16:7). Это утверждение подрывает метафизику присутствия: более полное присутствие (Дух) возможно только через отсутствие (уход Иисуса).
Такое понимание Духа созвучно деконструктивному пониманию "следа" у Деррида. След — это не просто отсутствие, но особая форма присутствия-в-отсутствии, которая подрывает бинарную оппозицию присутствия и отсутствия. Дух в Евангелии от Иоанна функционирует именно как такой "след" — он не просто замещает отсутствующего Иисуса, но создает новую форму его присутствия, которое более полно, чем физическое присутствие.
Возможно, самый радикальный вызов метафизике присутствия в евангельском нарративе — это возглас распятого Иисуса: "Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" (Мк. 15:34). Эти слова, цитирующие Псалом 21, выражают опыт радикальной богооставленности, отсутствия Бога.
Современные теологи, такие как Юрген Мольтман и Джон Капуто, развили на основе этого возгласа "теологию креста", которая видит в богооставленности Иисуса не просто временный эпизод, но откровение о самой природе Бога. Бог открывает себя не в славе и всемогуществе, а в слабости, страдании и оставленности. Такой Бог не соответствует метафизическим категориям абсолютного присутствия, самотождественности и неизменности.
Мольтман пишет: "Богооставленность Иисуса показывает, что настоящий Бог обнаруживается в противоположности тому образу, который создает метафизика". Эта "теология креста" созвучна критике Деррида метафизики присутствия и его концепции "слабой силы".
Евхаристия, центральный ритуал христианства, также может быть прочитана как деконструкция метафизики присутствия. В словах установления евхаристии Иисус говорит: "Сие есть Тело Мое... Сия есть Кровь Моя" (Мк. 14:22-24), указывая на хлеб и вино как на знаки, которые одновременно и представляют его тело и кровь, и являются ими.
Эта евхаристическая формула создает сложную игру присутствия и отсутствия. Хлеб и вино не просто символизируют отсутствующее тело и кровь Христа, но каким-то образом делают их присутствующими. Однако это присутствие не является непосредственным физическим присутствием, это скорее присутствие-в-отсутствии, осуществляемое через игру знака.
История интерпретации этих слов в христианстве демонстрирует постоянные колебания между пониманием евхаристии как буквального присутствия Христа (католическое учение о пресуществлении) и ее пониманием как символического представления (протестантские интерпретации). Эти колебания отражают неразрешимость самой формулы "Сие есть Тело Мое", которая одновременно утверждает и подрывает идентичность знака и означаемого.
Такая евхаристическая игра знака созвучна деконструктивному пониманию знака у Деррида. Для Деррида знак всегда включает в себя "отсрочку" смысла, который никогда не присутствует полностью. Евхаристия в этом смысле может быть понята как деконструктивный ритуал, который одновременно утверждает и подрывает метафизику присутствия.
Детерриторизированная святость: "где двое или трое — там Я посреди"Иудаизм Второго Храма был сосредоточен вокруг Иерусалимского Храма как места присутствия Бога. Храм был буквальным "домом Бога", территорией, на которой Бог присутствовал особым образом. Эта территориализация божественного присутствия подкреплялась системой ритуальной чистоты, которая определяла, кто может приближаться к этому присутствию, а кто нет.
Иисус радикально детерриторизирует божественное присутствие: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20). Это утверждение подрывает саму идею локализованного, территориализированного присутствия Бога. Божественное присутствие теперь связано не с определенной территорией или зданием, а с человеческими отношениями, с общиной, которая может собираться где угодно.
Эта детерриторизация божественного присутствия созвучна деконструктивной критике "центра" у Деррида. В своем программном эссе "Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук" Деррида показывает, как западная метафизика структурирована вокруг идеи центра — привилегированной точки, которая организует всю структуру, но сама находится вне нее. Этот центр может принимать различные имена: Бог, Логос, Истина, Сущность и т.д.
Деррида показывает, что такой центр всегда является фиктивным, а любая система значений по сути децентрирована. Детерриторизация божественного присутствия в учении Иисуса может быть прочитана как подобная деконструкция центра — храм как привилегированный центр божественного присутствия уступает место рассеянному, децентрированному присутствию в человеческом общении.
Этические и экклезиологические последствия
Один из самых распространенных неверных толкований деконструкции — это представление о ней как о простом отрицании или разрушении. Деррида неоднократно подчеркивал, что деконструкция не является негативной или нигилистической стратегией. Она не отвергает метафизику, истину или этику, но показывает их внутренние противоречия и открывает их для новых возможностей.
Деконструкция, по Деррида, это не то, что мы делаем с текстом, а то, что уже происходит в самом тексте. Это не произвольное разрушение, а выявление того, как текст сам подрывает свои явные утверждения через скрытые напряжения и противоречия.
Такое понимание деконструкции важно для нашего прочтения Иисуса как постмодерниста. Иисус не просто отрицает Закон, традицию или религиозные институты, но показывает их внутренние противоречия и открывает их для новых возможностей.
Например, когда Иисус говорит: "Суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 2:27), он не отвергает заповедь о субботе, но выявляет ее внутреннее противоречие: закон, призванный служить благу человека, превратился в инструмент его угнетения. Деконструкция субботы открывает ее для новой интерпретации, которая возвращает ее к ее исходной цели.
Такой подход созвучен деконструктивной этике Дерида, которая не отвергает этические категории, но показывает их неразрешимость и открывает их для новых возможностей. Как пишет Деррида: "Деконструкция справедливости есть справедливость деконструкции".
Постмодернистское прочтение Иисуса имеет радикальные последствия для экклезиологии — учения о церкви. Если Иисус деконструировал иерархии, бинарные оппозиции и метафизику присутствия, то церковь не может быть понята как иерархический институт, основанный на бинарных оппозициях (клир/миряне, святой/грешник, ортодоксия/ересь) и претендующий на привилегированный доступ к божественному присутствию.
Джон Капуто предлагает альтернативную экклезиологию, основанную на его концепции "слабой теологии". Он описывает церковь не как институт, а как "киноскопическую сеть" — подвижное, децентрированное сообщество, которое формируется вокруг "события" имени Бога. Эта церковь не обладает авторитетом, основанным на доступе к абсолютной истине, но является пространством постоянного вопрошания, интерпретации и переосмысления.
Капуто пишет: "Церковь — это не институт, обладающий истиной, а сообщество, которое формируется вокруг вопроса об истине". Такое понимание церкви созвучно деконструктивному пониманию сообщества у Деррида, которое он развивает в работе "Политики дружбы". Для Деррида сообщество не основано на общей идентичности или общем верования, но скорее на открытости к другому, на гостеприимстве по отношению к различию.
Питер Роллинс идет еще дальше, предлагая концепцию "пиро-теологии" — теологии, которая сжигает религиозные идолы, включая саму идею церкви как института. Он экспериментирует с альтернативными формами религиозного собрания, такими как "Икс" в Белфасте — коллектив, который использует искусство, литургию и перформанс для создания пространства трансформации, а не для утверждения доктринальных истин.
Роллинс пишет: "Единственный способ быть верным Иисусу — это создать благочестивую форму неверности, в которой мы отрицаем наше понимание его, чтобы открыть пространство для нового откровения".
Постмодернистское прочтение христианства открывает новые возможности для межрелигиозного диалога. Если христианство отказывается от претензий на абсолютную истину и признает множественность интерпретаций как конститутивный элемент религиозного понимания, то оно может вступать в диалог с другими религиозными традициями не с позиции превосходства, а с позиции взаимного обогащения.
Джон Хик, теолог религиозного плюрализма, предложил концепцию "коперниканской революции" в теологии религий. Так же как Коперник показал, что Земля не является центром Вселенной, Хик предлагает отказаться от представления о христианстве как о центре религиозного мира. Вместо этого он предлагает рассматривать различные религии как различные человеческие ответы на одну божественную реальность.
Эта концепция созвучна деконструктивной критике центра у Деррида. Постмодернистский Христос, который деконструирует иерархии, подрывает бинарные оппозиции и критикует метафизику присутствия, открывает пространство для такого децентрированного понимания религиозной истины.
Наше работа по постмодернистскому прочтению Евангелий показывает, что Иисус из Назарета не был консервативным защитником традиций или авторитарным основателем новой догматической системы. Он был радикальным деконструктором, который подрывал иерархии, разрушал бинарные оппозиции и критиковал метафизику присутствия задолго до Жака Деррида, Мишеля Фуко и Жана-Франсуа Лиотара.
Это не означает, что исторический Иисус был постмодернистом в современном смысле слова. Это означает, что его слова и действия, когда их читают через призму постструктуралистского анализа, обнаруживают удивительно деконструктивное измерение. Иисус использовал стратегии, которые функционально эквивалентны деконструкции Деррида, генеалогии Фуко и критике метанарративов Лиотара.
Такое прочтение имеет радикальные последствия для современного христианства. Оно предлагает вернуться к изначальному, субверсивному измерению евангельского послания, освобождая его от догматических наслоений двух тысячелетий. Оно приглашает нас переосмыслить церковь не как иерархический институт, основанный на претензиях на абсолютную истину, а как децентрированное сообщество, сформированное вокруг "события" имени Бога.
Постмодернистский Христос приглашает нас к "религии без религии", как ее называет Деррида, — к вере, которая не основана на догматических утверждениях или метафизических гарантиях, но живет в постоянном вопрошании, интерпретации и переосмыслении. Эта вера не является "слабой" в обычном смысле слова, но обладает той "слабой силой", о которой пишут Деррида и Капуто — силой, которая действует через призыв и обещание, а не через принуждение и контроль.
Возможно, именно такая вера наиболее верна радикальному посланию Иисуса из Назарета, который жил и умер не для того, чтобы создать новую догматическую систему, а для того, чтобы открыть пространство для непредвиденного, для справедливости, которая всегда еще должна прийти.
"Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком" (Ин. 10:10). Эти слова Иисуса можно прочитать не как утверждение новой идеологии, а как приглашение к жизни, которая постоянно преодолевает ограничения всех идеологий. Постмодернистский Христос приглашает нас к такой жизни — жизни, которая не замыкается в догматической уверенности, но остается открытой для непредвиденного будущего, для "грядущей демократии", как сказал бы Деррида, для Царства Божьего, которое всегда уже здесь и всегда еще должно прийти.


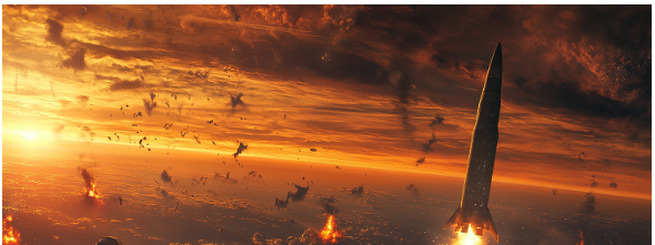
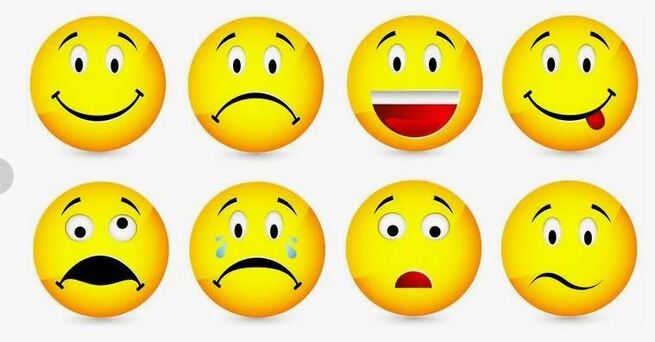


Оценили 2 человека
2 кармы