
В дореволюционной России общественное устройство было глубоко пронизано патриархальными ценностями, которые определяли социальную роль и положение женщины. Женщина воспринималась преимущественно через призму семейных отношений: как дочь, жена, мать, но редко как самостоятельный социальный субъект. Вне семьи женщина часто оказывалась на периферии общественной жизни, лишенная экономической независимости и политических прав.
Традиционная патриархальная семья представляла собой жесткую иерархическую структуру, где главенствовал мужчина – отец семейства. Власть мужчины над женщиной была закреплена не только обычаями, но и законодательно. Согласно Своду законов Российской империи, жена обязана была «повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании». Женщина не могла получить паспорт, устроиться на работу или поступить в учебное заведение без разрешения мужа или отца.
Особенно тяжелым было положение женщины в крестьянской семье, где сохранялись архаичные формы семейных отношений. Одним из проявлений патриархального уклада было снохачество – практика сексуальных отношений между свекром и невесткой, когда глава семьи присваивал себе право на сексуальный доступ к женам своих сыновей, особенно в период отсутствия сына (например, во время военной службы). Эта практика, хотя и осуждалась церковью, была распространена в крестьянской среде и отражала крайнюю степень подчинения женщины в патриархальной семье, где она рассматривалась как имущество, переходящее под контроль новой семьи.
Экономическая зависимость женщины от мужчины была абсолютной. В крестьянской общине женщина не имела права на земельный надел, в городской среде ее возможности трудоустройства были крайне ограничены. Даже женщины из привилегированных сословий сталкивались с существенными ограничениями в образовании, профессиональной деятельности и управлении собственным имуществом.
Большевистская идеология рассматривала патриархальную семью как одно из ключевых препятствий на пути к построению коммунистического общества. В работах Ленина, Троцкого, Коллонтай и других теоретиков революции патриархальная семья критиковалась как институт, обслуживающий интересы буржуазного общества и закрепляющий эксплуатацию женщин.
Владимир Ленин в работе «Великий почин» (1919) писал: «Женщина продолжает оставаться домашней рабыней, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, душит, отупляет, принижает мелкое домашнее хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд работою до дикости непроизводительною, мелочною, изнервливающею, отупляющею, забивающею».
Александра Коллонтай, первая в мире женщина-министр и идеолог женской эмансипации, в своих работах подвергала жесткой критике буржуазную моногамную семью: «Старая форма семьи меняется у нас на глазах, вместе с буржуазным миром гибнет и буржуазная форма семьи. Но мы не должны пугаться разрушения и видоизменения семейной формы... На развалинах старой семьи уже растет новая, которая будет построена на иных основаниях и скреплена иными узами, чем раньше».
Большевики видели в патриархальной семье не только оплот социального неравенства, но и препятствие для формирования нового человека, свободного от пережитков прошлого. Традиционная семья, с ее культом частной собственности и личной зависимости, рассматривалась как антагонист коллективистских ценностей коммунизма.
Одним из парадоксальных аспектов большевистской идеологии было особое внимание к вопросам сексуальности. В первые послереволюционные годы получила распространение идея о том, что сексуальная энергия, освобожденная от оков буржуазной морали, может быть направлена на строительство нового общества.
Александра Коллонтай, выдвинувшая знаменитую теорию «стакана воды» (согласно которой в коммунистическом обществе удовлетворение сексуальных потребностей должно быть таким же простым и лишенным буржуазных условностей, как утоление жажды), писала: «Сексуальные отношения не являются 'частным делом' двух людей, как это было в буржуазном обществе, но имеют общественное значение... В интересах коллектива нужно, чтобы переживаемая 'любовная трагедия' протекала с наименьшей затратой психической энергии».
В первые годы советской власти был принят ряд революционных законов, радикально менявших положение женщины. Декрет о гражданском браке (декабрь 1917 года) отделил брак от церкви и упростил процедуру развода до простой регистрации. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1918 года утвердил полное юридическое равноправие мужчины и женщины в браке, отменил концепцию незаконнорожденности, ввел равенство прав всех детей.
Большевистская политика в области семьи и сексуальности была направлена на разрушение традиционных патриархальных отношений и создание нового типа отношений, основанных на принципах равенства и коллективизма. Женщина должна была быть освобождена от «кухонного рабства» и «бытового идиотизма» для полноценного участия в строительстве коммунизма.
Однако революционный проект эмансипации женщины содержал в себе фундаментальное противоречие. Разрушая патриархальную семью и освобождая женщину от власти мужа и отца, большевистское государство само постепенно становилось новым патриархом, контролирующим все аспекты жизни советского человека, включая интимные и семейные отношения.
Государство взяло на себя функции, традиционно принадлежавшие главе патриархальной семьи: защита, обеспечение, контроль, наказание. Женщина, формально получив равные права с мужчиной, фактически оказалась в новой системе зависимости – теперь уже от государства, которое регламентировало её труд, быт, материнство и даже сексуальность.
Советская пропаганда формировала образ государства как защитника и покровителя женщины. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» – этот лозунг отражал новую патерналистскую роль государства, которое позиционировало себя как заботливого отца для всех советских граждан, особенно для женщин и детей.
С утверждением сталинизма в конце 1920-х – начале 1930-х годов произошел постепенный отход от революционных экспериментов в области семьи и сексуальности. Начался возврат к традиционным семейным ценностям, хотя и в новой, советской оболочке.
Через призму психоанализа Фрейда сталинизм можно интерпретировать как возвращение фигуры отца первобытной орды – верховного патриарха, единолично владеющего всеми женщинами племени. Сталин как «отец народов» символически занял положение главы гигантской советской семьи, где все граждане были его «детьми», обязанными ему безусловной любовью и преданностью.
В 1936 году было принято новое законодательство о семье, существенно ограничившее свободу развода, запретившее аборты и усилившее ответственность за неуплату алиментов. Государство вернулось к пропаганде традиционных семейных ценностей, культу материнства и многодетности. Образ идеальной советской женщины теперь сочетал в себе черты передовой работницы и заботливой матери.
Этот поворот отражал глубинную ностальгию по патриархальной семье, которая, несмотря на всю революционную риторику, сохранялась в коллективном бессознательном советского общества. Сталинизм, отвергнув ранние большевистские эксперименты в области семьи и сексуальности, вернулся к более консервативной модели, хотя и с сохранением формального равноправия полов.
Парадоксальным образом революционные преобразования, направленные на эмансипацию женщины, привели к своеобразной девальвации традиционной мужской роли в советском обществе. Мужчина, лишенный патриархальной власти над семьей, но не получивший взамен новой полноценной социальной роли, часто оказывался в положении простой «рабочей силы», лишенной традиционных привилегий и статуса.
Советский мужчина утратил ряд традиционных прав и привилегий:
Экономическая власть в семье. В советской семье, где оба супруга работали, мужчина перестал быть единственным кормильцем и, соответственно, потерял экономические рычаги власти над женой и детьми.
Контроль над имуществом. Советское законодательство установило равные права супругов на совместно нажитое имущество, что значительно ограничило традиционную власть мужчины над семейной собственностью.
Родительская власть. Государство активно вмешивалось в вопросы воспитания детей через систему образования и молодежные организации, ограничивая традиционную отцовскую власть.
Право на развод. Если в патриархальном обществе развод был преимущественно мужской привилегией, то советское законодательство (особенно в ранний период) сделало развод одинаково доступным для обоих полов.
Государство не просто заменило мужчину в его традиционных функциях защитника и кормильца — оно создало беспрецедентную систему тотального контроля над интимной сферой жизни граждан через разветвленную сеть культурных и социальных механизмов. Женщина, работающая на государственном предприятии, получающая социальные пособия и льготы как мать, имеющая доступ к общественным яслям и детским садам, попадала в золотую клетку государственной заботы. Она освобождалась от прямой зависимости от конкретного мужчины, но оказывалась опутана невидимыми нитями тотальной зависимости от государственной машины.
Советский кинематограф, литература и изобразительное искусство настойчиво формировали одобренные государством модели семейных отношений. Фильмы вроде «Светлого пути» или «Кубанских казаков» транслировали идеал семьи, где любовные отношения неразрывно связаны с трудовыми достижениями и преданностью общественным идеалам. Любовные сюжеты в советском искусстве почти всегда разворачивались на фоне производственных успехов, партийной работы или героического служения Родине. Даже в интимной сфере государство требовало отчетности — любовь должна была быть идеологически выдержанной и социально полезной.
Разветвленная система общественных организаций — от партийных ячеек до профсоюзов и женсоветов — выполняла функцию постоянного надзора за семейной жизнью. Товарищеские суды могли рассматривать семейные конфликты, выносить публичные порицания за «неправильное» поведение в семье. Партийные и комсомольские собрания регулярно обсуждали моральный облик своих членов, включая вопросы их семейной жизни. Женсоветы на предприятиях следили за тем, как женщины совмещают производственные и материнские обязанности. Таким образом, даже самые интимные аспекты семейной жизни становились предметом общественного контроля и регулирования.
Советский брак представлял собой не просто союз двух людей, а сложную триангулярную конструкцию, где государство выступало незримым, но всепроникающим третьим участником. Через систему загсов оно устанавливало порядок заключения и расторжения брака; через судебную систему регулировало раздел имущества и алиментные обязательства; через образовательные учреждения и систему здравоохранения контролировало воспитание и здоровье детей. Пресловутая графа «семейное положение» в анкетах и личных делах превращала приватное решение о создании семьи в вопрос государственного учета.
Жилищная политика была одним из мощнейших рычагов контроля над семейной жизнью. В условиях хронического дефицита жилья возможность получить отдельную квартиру зависела от лояльности системе, трудовых достижений, общественной активности. Коммунальные квартиры с их отсутствием приватного пространства создавали условия для постоянного наблюдения за частной жизнью со стороны соседей, выступавших неформальными агентами социального контроля. Система прописки привязывала семьи к конкретному месту, ограничивая их мобильность и усиливая зависимость от местных органов власти.
Семейное счастье в советском обществе превратилось в дозированную привилегию, распределяемую по принципу политической и трудовой благонадежности. Мужчина мог претендовать на создание семьи только при условии, что он доказал свою полезность системе — как ударник производства, активный общественник, идеологически выдержанный гражданин или защитник Родины. Малейшие отклонения от установленных норм — политическое инакомыслие, религиозность, «нетрудовой образ жизни» — могли не только разрушить карьеру, но и лишить права на нормальную семейную жизнь.
Женщина получала государственную поддержку в форме декретных отпусков, пособий, доступа к детским учреждениям только при условии её производственной активности и идеологической лояльности. Государство через систему поощрений и наказаний формировало идеал «советской женщины» — одновременно труженицы и матери, общественницы и хранительницы домашнего очага. При этом само государство определяло, какие аспекты материнства и семейной жизни заслуживают поддержки, а какие подлежат коррекции или осуждению.
Этот механизм можно метафорически описать как систему государственного сутенерства, где государство «сдавало в аренду» женщину мужчине, устанавливая жесткие правила этой «аренды». Государство, выступая в роли верховного патриарха, «предоставляло» мужчине женщину на условиях его безоговорочной лояльности и полезности для строительства коммунизма. Система распределения социальных благ, от жилья до путевок в санатории и доступа к дефицитным товарам, позволяла поощрять «правильные» семьи и наказывать отступников.
Даже в самой интимной сфере — сексуальности — государство устанавливало свои нормы и контролировало их соблюдение. Официальная культура формировала аскетичный идеал сексуальности, подчиненной высшим целям. Политика запрета абортов в сталинскую эпоху, затем их ограниченная легализация, отсутствие сексуального просвещения и контрацепции — все это были инструменты государственного контроля над репродуктивным поведением граждан. Сексуальность должна была служить не удовольствию, а производству новых строителей коммунизма.
Система образования и воспитания с её октябрятскими, пионерскими и комсомольскими организациями создавала условия, при которых дети с раннего возраста воспитывались в духе первичной лояльности государству, а не семье. Знаменитый пример Павлика Морозова — мальчика, донесшего на своего отца и возведенного за это в ранг героя, — был крайним, но показательным выражением этой тенденции. Государство стремилось стать высшим авторитетом для ребенка, отодвигая родителей на вторые роли в процессе социализации.
Такая система порождала глубокие противоречия в гендерных отношениях и деформировала сексуальную и эмоциональную жизнь советских людей. Формально свободные и равноправные, советские мужчины и женщины фактически оказывались в сложной сети зависимостей — от государства, от коллектива, друг от друга. Интимные чувства и сексуальные желания, которые в нормальных условиях составляют основу личных отношений, в советской системе подвергались идеологической цензуре и трансформации. Они должны были стать не просто частью личного счастья, но «топливом» для строительства коммунизма — сублимироваться в трудовой энтузиазм, общественную активность, преданность идеалам партии.
Этот всепроникающий контроль создавал специфическую форму отчуждения, когда даже самые интимные отношения оказывались опосредованы государственной идеологией и надзором. Советская семья существовала в условиях перманентного идеологического вуайеризма, где государство через многочисленные каналы культурного и социального влияния наблюдало, оценивало и корректировало даже самые приватные аспекты человеческих отношений.
Алкоголизм, который стал массовой проблемой, особенно среди мужчин, и может рассматриваться как форма эскапизма от невозможности реализовать традиционную мужскую роль.
Уклонение от семейных обязанностей. Многие мужчины, не находя удовлетворения в официально предписанных моделях поведения, избегали семейной ответственности, что привело к росту числа разводов и неполных семей.
Компенсаторная агрессия и насилие, которые часто были направлены на более слабых – женщин и детей, как попытка восстановить утраченное чувство власти и контроля.
Пассивность в общественной и политической жизни, когда формальное участие в официальных ритуалах сочеталось с внутренним отчуждением и цинизмом.
Советская система, провозгласив формальное равенство полов, на практике создала сложную и противоречивую систему гендерных отношений, где и мужчины, и женщины часто не находили полноценной самореализации и удовлетворения. Женщины, формально эмансипированные, на практике несли двойную нагрузку – производственную и домашнюю. Мужчины, лишенные традиционных привилегий, но не освобожденные от традиционных ожиданий, часто испытывали глубокий внутренний конфликт.
Большевистский проект трансформации семьи и гендерных отношений представляет собой один из наиболее амбициозных социальных экспериментов XX века. Стремясь разрушить патриархальную семью как оплот старого порядка, большевики создали новую систему, где государство взяло на себя многие функции патриарха.
Парадоксальным образом, борьба с патриархатом привела не к подлинному освобождению женщины, а к установлению новой формы патернализма – государственного. Сексуальность, которую ранние большевистские теоретики стремились освободить от буржуазных условностей и направить на строительство коммунизма, в итоге оказалась под не менее жестким контролем, чем в традиционном обществе, хотя и в иных формах.
Советский опыт показывает, что радикальная трансформация гендерных отношений «сверху», без учета глубинных культурных и психологических факторов, порождает новые противоречия и формы отчуждения. Попытка использовать сексуальную энергию как ресурс для социального строительства оборачивается деформацией интимной сферы человеческой жизни и новыми формами несвободы.




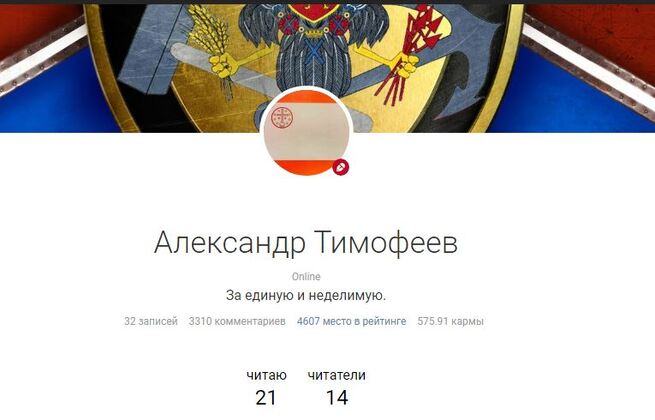

Оценил 1 человек
1 кармы